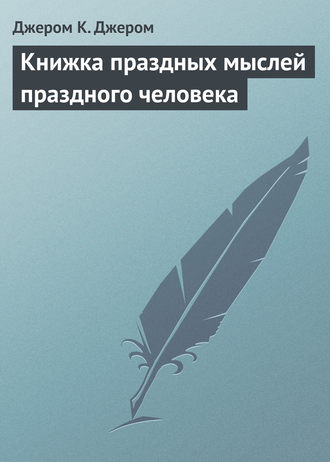
Джером К. Джером
Книжка праздных мыслей праздного человека
XVII
Как миссис Уилкинс разрешила вопрос о прислуге
Встречаюсь на одном вечере со своей доброй знакомой миссис Уилкинс, любительницей общественных вопросов, в особенности тех, которые непосредственно касаются существенных интересов каждого, и говорю ей:
– Слава Богу, наконец-то американскому дамскому союзу удалось разрешить больной вопрос о женской прислуге, то есть о правах и обязанностях нанимателей и нанимающихся.
– Неужели? – обрадовалась миссис Уилкинс. – Приятно слышать. Недаром говорят, что американский народ – самый умный на свете. Во всем умеет хорошо разбираться… Надо бы и нам заняться этим вопросом. Ведь у нас хозяева и прислуга стоят друг против друга, как два враждебных полчища, только о том и думающих, чем бы насолить друг другу. Это выходит нечто уж прямо неестественное.
– Мне думается, это оттого, что до сих пор прислуга все попадала не на свое место, – заметил я. – Американский дамский союз и задался целью ставить на надлежащие места надлежащих людей. Вы этому, конечно, сочувствуете, миссис Уилкинс?
– На что бы лучше, если только возможно устроить это. Неужели американки нашли такую возможность?
– Должно быть, нашли, судя по той статье, которую я прочел. Тон статьи очень уверенный.
– Гм! – задумчиво произнесла моя собеседница, отличающаяся порядочной долей скептицизма. – Это было бы настоящим чудом. Я нахожу, что тогда лишь прислуга будет на своем месте, когда она в корень переделается. Разве американки настолько умны, что могут совершить такое чудо? Сомневаюсь, не боги же они… Боюсь, как бы им в этом деле не пришлось разочароваться…
– Так вы не верите в благополучное разрешение этого вопроса? – продолжал я.
– Рада бы верить, да не верится, – проговорила миссис Уилкинс, качая головой. – Ведь, в сущности, виновата не одна прислуга, часть вины падает и на хозяек, которые не умеют держаться разумных границ своего положения. Обыкновенная хозяйка требует, чтобы прислуга была не живым человеком, а каменным истуканом, лишенным всяких чувств и всяких естественных потребностей. Да и то она будет жаловаться, отчего этот истукан не может быть одновременно и в кухне, и в комнатах, и на рынке, и еще где-нибудь и не делает зараз двадцать дел.
Говоря по совести, идеальной прислуге совсем нет места на земле. Я знаю одну девушку по имени Эмма… Да вы, может быть, видали ее у меня? Она племянница моей старой Анны и иногда приходит ее навещать, причем постоянно помогает ей убирать комнаты, подавать, к столу, вообще старается быть чем-нибудь полезной. Не будь Анны, я обеими руками ухватилась бы за Эмму. Но не гнать же мне бедную старуху, которая служила еще моей покойной матери и все свои недочеты в деле покрывает верностью, честностью и преданностью? Да и сама Эмма никогда не согласится, чтобы из-за нее обидели тетку… Ну так вот, эта самая Эмма по смерти своего дряхлого отца, за которым шесть месяцев ходила как за ребенком (он был параличный, и кроме дочери у него никого не было, так как жена умерла раньше), нуждалась в месте. Болезнь и похороны отца поглотили все, что у них было. Эмма даже заложила свою лучшую одежду и осталась чуть не в отрепьях. Труда она никакого не боится и все, что нужно в небольшом хозяйстве, отлично умеет делать. Словом, она из тех немногих девушек, каких теперь и днем с огнем не найдешь.
Вы знаете, нынешняя прислуга требует, чтобы один день в неделю она могла пользоваться хозяйской гостиной с роялем и приглашать к себе на вечеринку кого ей угодно. Положим, лично мне такая еще не попадалась; но разговоров о ней я слышала много, да и в юмористических листках читала… Но вернемся к Эмме. Отправилась она в рекомендательную контору откуда ее послали к одной даме в Клептон.
– А вы можете рано вставать? – спрашивает ее нанимательница. – Я люблю, чтобы прислуга всегда вставала вовремя и с веселым лицом приступала к своей работе.
– Я могу вставать, когда мне прикажут, а кислиться вообще не в моем характере, – отвечает Эмма.
– Очень важно вставать пораньше, – продолжает нанимательница. – Это придает бодрости. Мой муж и младшие дети всегда завтракают в половине восьмого, а я и моя старшая дочь завтракаем в постели в восемь часов.
– Слушаю, сударыня, – говорит Эмма. – Этот порядок нетрудно запомнить.
– И, пожалуйста, чтобы не было никаких неудовольствий и рассуждений, когда вас позовут в то время, когда вы этого не ожидаете.
– Хорошо, сударыня, но лишь бы с меня потом не взыскивали, если я не успела вовремя сделать дело, от которого меня оторвали, может быть, из-за пустяков.
– А! Вы все-таки рассуждаете? – резко выговорила нанимательница. – Этого-то я и не терплю. Прислуга никогда ни в каких случаях не должна рассуждать, она обязана только беспрекословно исполнять то, что ей прикажут… Ну, может быть, я вас отучу от этой нехорошей привычки; Теперь мне хотелось бы знать, как вы относитесь к детям. Любите ли вы детей? Многие их терпеть не могут.
– Моя любовь к детям зависит от них самих, сударыня, – отвечает Эмма. – Я видала детей, которые так милы, что все сердце захватывают, но видала и таких, которые могут отравить всю жизнь.
– Ах, таких детей нет и быть не может! – возражает нанимательница; поджимая губы. – Все дети – настоящее ангельчики. В них нет никакого зла, они безгрешны и чисты. Я люблю только такую прислугу, которая постоянно ласкова и заботлива ко всем детям.
– А сколько у вас детей, сударыня?
– Четверо. Но вам придется иметь дело главным образом только с двумя младшими. Разумеется, прежде всего от вас требуется, чтобы вы подавали детям добрые примеры. Это так важно… Вы, конечно, христианка?
– Да, сударыня.
– Я отпускаю прислугу два раза в месяц по воскресным вечерам, но люблю, чтобы она посещала церковь.
– В ее свободные вечера или в другие? – спросила Эмма.
– Ну конечно, в свободные. Куда же прислуге еще ходить, как не в церковь?
– У меня, например, есть родные, которых я желала бы навещать, – заявила Эмма.
– Религию надо ставить выше родственных привязанностей, – поучительно заметила нанимательница. – Я ни за что не стала бы держать у себя в доме прислугу, предпочитающую шляться по гостям, вместо того чтобы ходить в церковь… Кстати, вы девушка и у вас нет жениха?
– Да, я девушка и никаких женихов у меня нет, – ответила Эмма.
– Это хорошо, – подхватила нанимательница. – Терпеть не могу девушек, имеющих женихов, настоящих или только так называемых. Это отвлекает от дела. Потом, если мы с вами сойдемся в остальных условиях, то предупреждаю, чтобы вы одевались всегда как можно скромнее… Собственно говоря, я нахожу, что жакет и шляпа, которые сейчас на вас надеты, выглядят слишком нарядными.
– Это единственное, что у меня сохранилось, и если вам угодно, чтобы я приобрела что-нибудь еще скромнее, то мне, в случае, если вы пожелаете меня взять, придется просить у вас жалованье за месяц вперед, – отрезала Эмма.
Она сразу поняла, что ей у этой особы не жить, но хотела дать нанимательнице высказаться до конца. Кончилось, разумеется, тем, что нанимательница, испугавшись необходимости дать вперед денег, поспешила объявить Эмме, что находит ее слишком ненадежной, чтобы доверить ей своих маленьких детей, и они расстались… Ну, скажите на милость, можно ли жить у такой требовательной особы? – заключила миссис Уилкинс.
– По-моему, тоже нет, – согласился я. – Однако живут и у таких. Интересно бы только узнать, какого именно сорта прислуга уживается у таких господ.
– Разумеется, или самая терпеливая, которая потом за свое мученичество должна попасть прямо в рай, или же такие озорницы, которым доставляет удовольствие по целым дням переругиваться с хозяйкой и ничего не значит переходить от одной к другой. Им это даже весело: постоянное оживление и разнообразие.
– А чем же объяснить тот общеизвестный факт, что в гостиницах прислуга живет подолгу, причем всегда исправна и довольна? – полюбопытствовал я, заинтересовавшись беседой с этой умной, много видавшей женщиной, которая была нисколько не хуже американок, вызывавших ее восхищение.
– О, это совсем другое дело! – воскликнула она. – В гостиницах женщина великолепно дисциплинирована и знает, что чуть что – ее или чувствительно оштрафуют, или совсем выгонят; кроме того, так расславят, что ее никто больше не возьмет. Потом, в гостиницах прислуге дается правильный отдых, так как там существует смена. Прислуга знает, что в такой-то час она безусловно свободна, и это поддерживает ее. Своим свободным временем она может распоряжаться как хочет. Ко всему этому она получает от постояльцев хороший доход, дающий ей возможность отложить на черный день. Вообще в гостиницах прислуга чувствует себя человеком, а не игрушкой привередливой хозяйки, которая не дает покоя ни днем ни ночью. Очень естественно, что такие хозяйки – а их, к сожалению, большинство – окончательно портят прислугу и заставляют ее смотреть на всех нас как на своих злейших врагов, которых также не грех помучить.
– Да, – подхватил я, – все это так. Но скажите, пожалуйста, как урегулировать рабочее время для прислуги в хозяйствах, где держится одна женщина на все и про все? Там, где их две или три, конечно, можно установить очередь, как в гостиницах, где имеется смена. Но нельзя же вам, имеющей одну прислугу, давать ей полдня отдыха и эти полдня работать за нее самой, содержа ее и платя ей жалованье за весь день? Что же касается того, куда ходит прислуга в свои свободные часы, как она одевается – лишь бы опрятно – и посещает ли церковь, то все это должно быть предоставлено на ее собственное усмотрение, если она вообще дельная и достойна доверия.
– Ну конечно! – подхватила миссис Уилкинс. – Мы не должны стеснять живущего у нас человека в его личных склонностях, раз они не приносят нам вреда. Это понимает каждая мало-мальски рассудительная хозяйка… Если же таких мало, то в этом виновато общее плохое воспитание. Но это вопрос другой и, пожалуй, даже самый важный. Разбираться в нем мы сейчас не будем: слишком далеко это завело бы нас. А насчет урегулирования рабочего времени для прислуги могу сказать, что если бы хозяйки, имеющие в распоряжении только одного человека, разные мелочи делали сами, вместо того чтобы все валить на прислугу, да и своих детей приучали бы быть аккуратнее и не доставлять прислуге лишней возни, то прислуга успевала бы вовремя переделать все, что непосредственно входит в круг ее обязанностей, и даже имела бы время отдохнуть. Потом, не следует будить ее по ночам из-за первой глупой прихоти, не заставлять долго сидеть по вечерам, а стараться самим ложиться спать по возможности раньше, вставать хотя и позже прислуги, но не слишком; во всяком случае, не валяться до полудня и не завтракать в постели. Словом, в доме необходим строго установленный и соблюдаемый самими хозяевами порядок. Не следует допускать, чтобы хозяйка по целым дням сидела сложа руки; она и сама должна что-нибудь делать и приучать к делу детей. Нельзя требовать от других, даже от служащих, чтобы они работали за пятерых, а самим ничего не делать и в то же время проповедовать, что труд – самое почетное и прекрасное занятие.
Слова миссис Уилкинс напомнили мне об одном знакомом семействе, состоявшем из отца, матери и пяти здоровых, хорошо откормленных и донельзя избалованных дочек. В этом семействе, не обладавшем большими средствами, держали двух прислуг, или, вернее, оно вечно нуждалось в двух прислугах, постоянно увольняя их из-за малейшего пустяка и заменяя новыми; или же, наоборот, те сами уходили также по самому пустому поводу. И хозяева поэтому вечно жаловались на то, что мир гибнет, так как в нем уж не осталось ни одной порядочной прислуги, Приглядевшись поближе к этому семейству, я пришел к заключение, что оно могло бы и совсем обойтись без постоянной прислуги, если бы все его члены были более дельными людьми.
Дело в том, что работал за всех только отец, добывая с большим трудом средства к жизни, а матушка постоянно возилась с наймом и увольнением прислуги и жаловалась на свою несчастную судьбу.
Старшая дочь училась живописи и более ни к чему не казалась способной. Успехи ее в этом благородном искусстве были очень неважны; это она и сама замечала, но воображала, что если будет постоянно толковать о своем призвании к живописи и ни о чем больше не думать, то в конце концов все-таки сделается знаменитой художницей.
Вторая дочь с утра до вечера пилила на скрипке, и притом с таким искусством, что мало-помалу отогнала от дома всех хороших знакомых.
Третья возомнила себя будущей сценической знаменитостью и по целым дням выкрикивала разные патетические монологи и реплики, что также немало способствовало разгону друзей дома.
Четвертая писала чувствительные стишки и искренне удивлялась, почему их нигде не принимают и никто не восторгается ими.
Пятая, будучи еще подростком, только и делала, что ломала игрушки и требовала новых; кроме того, разбивала и портила в доме все что попадалось ей под руку. Ввиду этого родители решили, что у нее особенное призвание к механике.
Вообще это семейство считало себя скопищем гениев, призванных удивить мир, но пока оно удивляло только своих знакомых, и то не так, как воображало. А если бы мать и все ее пять дочек занялись своим прямым делом, то есть правильным ведением хозяйства, то с помощью одной приходящей поденщицы отлично могли бы устроить свою жизнь и чувствовали бы себя вполне довольными, да и отцу не пришлось бы так надрываться…
XVIII
Почему мы не любим иностранцев
Да просто, по-моему, потому, что они ведут себя у нас, в Англии, не так, как мы, англичане, ведем себя в их стране.
Как-то раз, находясь в Брюсселе, я был очевидцем такого случая. Один англичанин проник в трамвай не с надлежащей стороны, потому что иначе не поспел бы вскочить в него. Нужно было видеть изумление кондуктора, когда он заметил сидящего в вагоне пассажира, которого раньше там не было.
Хотя кондуктор и догадался, как это произошло, но, очевидно с целью проверить свою догадку, попросил пассажира объяснить, каким путем тот проник в вагон. Пассажир откровенно признался, что проскользнул в вагон не с указанной стороны. Тогда кондуктор попросил его удалиться, раз он вошел в вагон незаконным путем, так как он, кондуктор, не может допустить, чтобы при нем безнаказанно нарушались священные для него правила.
Но пассажир оказался из упрямых и не пожелал подчиниться кондукторскому приговору. Пришлось остановить вагон. На сцену явилась жандармерия во главе с очень важного вида офицером. Офицер, видимо, не верил показанию кондуктора, и если бы пассажир сказал, что вошел надлежащим ходом, то жандарм непременно поверил бы именно ему. Этот же англичанин скорее мог допустить, что кондуктор был поражен временной слепотой, чем счесть кого-нибудь способным дерзновенно нарушить то, что считается законом.
Будь я на месте злополучного пассажира, я бы солгал, и делу был бы конец. Но он был человек упорный или слишком прямой и держался правды. Выслушав его объяснение и ошеломленный такой небывальщиной в его практике, офицер подтвердил требование кондуктора, чтобы пассажир оставил вагон и дожидался следующего.
Ввиду продолжительности инцидента прибежали жандармы и из других прилегающих участков линии, так что вокруг нас вскоре собралась настоящая армия. Пассажир понял, что всякое сопротивление будет бесполезно, и заявил, что готов выйти из вагона. Он встал и направился было к законному выходу; но этого тоже не могло допустить брюссельское начальство и потребовало, чтобы преступник, вошедший не в законную дверь, в нее же и вышел. Пассажир повиновался и этому распоряжение и таким образом очутился на параллельной линии, по которой то и дело сновали трамваи, так что он легко мог угодить под один из них. В то же время кондуктор, стоя посредине вагона, произнес целую проповедь на тему незаконности и опасности садиться в вагон или выходить из него не в надлежащие двери.
А вот и еще несколько случаев. В Германии существует прекрасное постановление (хорошо бы ввести его и у нас в Англии да и в других странах) не бросать ничего на улицах. Один мой знакомый английский военный рассказал мне об инциденте, случившемся с ним по этому поводу в Дрездене.
Будучи совершенно незнаком с вышесказанным постановлением, мой соотечественник, получив лично на почте длинное и довольно неприятное письмо, прочел его на улице, потом разорвал на мелкие клочки, которые тут же на улице и разбросал, как всегда делал у себя на родине с неприятными или ненужными письмами. Но его тотчас же остановил полицейский чин и вежливо дал ему понять, что он нарушил закон. Офицер извинился в незнании этого закона, поблагодарил за указание и обещал запомнить его. Полицейский выразил уверенность, что обещание господина офицера гарантирует его от нарушения закона в будущем, но так как и настоящее имеет свои права, то он, полицейский, должен просить господина офицера собственноручно собрать с мостовой разбросанные им клочки. Можно себе представить положение офицера!
Нужно сказать, что офицер был высшего ранга, то есть генерал, хотя и в отставке, но очень представительный и при случае способный подавлять окружающих своим внушительным видом. Хотя и со смешком, но довольно серьезным тоном он заявил полицейскому, что не видит ни малейшего удовольствия в том, чтобы ему, генералу такому-то, носящему мундир его величества короля Великобританского и императора Индийского, ползать на четвереньках по одной из многолюднейших дрезденских улиц и собирать клочки бумаги.
Полицейский не отрицал, что положение его превосходительства действительно не совсем приятное, и предложил генералу другой выход: пройти с ним, полицейским, в сопровождении все возрастающей толпы уличных зевак до ближайшего суда, находившегося от этого места милях этак приблизительно в трех. При этом полицейский добавил, что так как уже четыре часа пополудни, то судья, наверное, уже ушел, и дело генерала не может быть разобрано сегодня. Но, разумеется, его превосходительству предоставят в суде самое комфортабельное помещение и позволят пользоваться всевозможными льготами, а на следующее же утро по внесении по приговору судьи штрафа в полсотни марок генерал будет освобожден.
Чтобы избежать и этого удовольствия, превосходительный преступник предложил было нанять кого-нибудь, кто подобрал бы бумажки, но полицейский нашел, что это не могло бы удовлетворить поруганный закон, и не согласился на такую комбинацию.
– Обдумывая создавшееся положение, – продолжал генерал, – я взвешивал все возможные способы выпутаться из него. Между прочим у меня мелькнула и такая мысль: сбить с ног полицейского и в суматохе ускользнуть, но я не решился на это – мог выйти крупный скандал, а потому в конце концов пришел к выводу, что самое благоразумное и удобное будет исполнить первое предложение полицейского, что я и сделал. Однако на практике это оказалось несравненно тяжелее, нежели в теории. Целых десять минут мне пришлось собирать с грязных камней мостовой уже затоптанные бумажные клочки, которых было с полсотни, и проделать это под перекрестным огнем самых откровенных шуток и замечаний, хихиканья и грубого хохота огромной толпы, обступившей меня тесным кольцом. Как я жалел, что раньше не знал прекрасного немецкого постановления, воспрещающего бросать на улице даже бумагу! Я вполне согласен, что постановление это вполне разумное, но отчего бы не предупреждать о нем приезжающих хоть в виде объявлений, помещенных на самых видных местах вокзалов, гостиниц и прочих учреждений.
Как-то раз я провожал в немецкую оперу одну знакомую американку. В немецких театрах обязательно снимание дамских шляп (что, кстати сказать, также не мешало бы ввести у нас в Англии). Но американки привыкли пренебрегать исполнением законов, постановлений, правил – словом, всего, что выработано мужчинами. Поэтому моя спутница заявила швейцару, что намерена оставить шляпу на себе. Швейцар, со своей стороны, заявил, что он этого не допустит, так как приставлен, между прочим, чтобы следить и за этим. Между американкой и немцем произошло, так сказать, столкновение. Чтобы остаться в стороне, я отправился приобретать программу вечера.
Американка настойчиво объявила швейцару, что он может говорить что хочет, но это нисколько не помешает и ей делать что она хочет. По всему было видно, что швейцар не из словоохотливых, и настойчивость американки не развязала ему языка. Он даже и не пытался более возразить, а стоял неподвижно в самой середине прохода. Проход был шириной не менее четырех футов, но швейцар своей массивной фигурой почти загораживал его.
Когда я вернулся с программой, моя спутница стояла перед швейцаром со шляпой в руках и закалывала в нее две огромные шпильки. Делала она это с таким ожесточением, точно вонзала шпильки не в нагромождение кружев и газа, а в живое, трепещущее сердце швейцара. Я думал, что она наконец сдалась перед неумолимостью немецкого театрального чина, но оказалось, что описанное действие было действительно только символическим актом ее мести этому «варвару». Увидев меня, эта заморская леди снова надела свою шляпу и возбужденно крикнула мне, что не нуждается в моей опере и предоставляет мне наслаждаться ею одному. С этими словами она демонстративно направилась к выходу. Из вежливости я, конечно, должен был последовать за ней и проводить ее обратно до гостиницы.
По-видимому, континентальные державы в совершенстве вымуштровали своих граждан. Послушание – первый закон континента, даже для высокопоставленных особ. Я готов поверить рассказу о том испанском короле, который чуть было не утонул, потому что чин, на обязанности которого лежало спасать попавшего в воду короля, только что умер, а назначить ему заместителя еще не успели; другие же лица не имели права прикасаться к священной особе властителя Испании.
Если вы на Континенте сядете во второклассный вагон железной дороги, имея билет на первоклассный, то подлежите за это строжайшему взыскание. А какая кара постигает тех безумных смельчаков, которые дерзнут сесть в вагон первого класса, имея по своему билету право на второй, – не знаю, может быть, за это полагается смертная казнь.
Один из моих знакомых вляпался было в такую грустную историю на одной из немецких железных дорог. Ничего бы не произошло, если бы только мой знакомый не был чересчур честен. Он принадлежал к числу тех чудаков, которые гордятся своей честностью. Мне кажется, что она находят в этой добродетели высшее удовольствие.
Этот джентльмен ехал во втором классе по одной из горных линий. Во время выхода на одной из промежуточных станций он встретил знакомую даму, и она пригласила его пересесть к ней в первый класс. Достигнув места своего назначения, джентльмен заявил коллектору о своей пересадке и, с кошельком в руках, спросил, сколько ему следует уплатить разницы за проезд оттуда-то в первом классе вместо второго. Но пассажира тотчас же пригласили в отдельное помещение станционного здания и, заперев двери, принялись снимать с него форменный допрос, который тут же запротоколировали, потом прочли ему вслух, заставили подписаться под этим протоколом; после всего этого пригласили полицейского чина.
Полицейский, в свою очередь, допрашивал преступника с четверть часа. Встрече с дамой не поверили. Кто такая эта дама? Джентльмен не мог этого сказать, потому что знакомство его с нею было случайное, то есть такое, при котором одна сторона знает другую по фамилии и положению, а другая знает ее лишь в лицо. Стали искать эту даму по всей станции, но не нашли ее. Джентльмен высказал догадку (впоследствии и оправдавшуюся), что дама, соскучившись дожидаться его на платформе, отправилась в горы одна.
Как нарочно, всего за два-три дня пред тем в одном из горных селений той местности был совершен террористический акт, и станционная администрация только и бредила о бомбах. Благодаря этому мой знакомый и подвергся такому долгому и строгому допросу. Хотели было уже приступить к обыску его, но, к счастью, в это время на сцену явился один из проводников, только что вернувшийся с гор с партией туристов. Увидев стесненное положение иностранца, он пожалел его и ловким оборотом речи сумел внушить ему, чтобы он заявил, что ошибся классами, так как и в первом и во втором красная обивка, хотя и разных сортов. Когда же он понял свою ошибку, то и решил заявить о ней, но, пораженный тем, как сурово отнеслись к его честному заявление, забыл сказать о главном, то есть что сел по ошибке не в тот вагон. Обступавшие пассажира чины вздохнули свободно и, посоветовавшись между собой вполголоса, уничтожили протокол. Инцидент казался исчерпанным, если бы нелегкая не дернула кондуктора забеспокоиться относительно спутницы пассажира: она ехала с ним в вагоне первого класса и, может быть, также с билетом второго. И вот только что допетая песнь началась снова. Но тут опять вступился проводник. Попросив пассажира описать приметы дамы, он заставил чересчур придирчивого кондуктора вспомнить, что он получил от дамы билет в надлежащем по этому билету вагоне, и мой обливавшийся холодным потом знакомый наконец был отпущен на волю.
Добропорядочны не только иностранные мужчины, женщины и дети, но даже их собаки отличаются хорошими качествами. Если вы имеете удовольствие иметь при себе английскую собаку, то вам немало придется тратить времени и крови на отвлечение ее от драк, на споры с собственниками других собак, на объяснения с пожилыми дамами, уверяющими, что ваша собака обижает их кошек, на уверения обиженных поведением вашей собаки прохожих, что она вовсе не ваша и вы сами видите ее в первый раз и т. д.
С иностранной же собакой ваша жизнь протекает вполне мирно и спокойно. Когда иностранная собака видит, как дерутся английские, у нее на глазах выступают слезы, и она спешит позвать полицейского, чтобы тот их разнял. Нечаянно столкнувшись нос к носу с какой-нибудь кошкой-мотыгой и видя ее испуг, иноземная собака тотчас же отбегает в сторону и дает кошке спокойно пройти, и все в таком духе. Иностранных собак одевают в курточки с кармашком для носового платка, лапки их обувают в сапожки, на которые, смотря по надобности, надевают и калошки. Этих собачек пока еще не наряжают в шляпы, но когда додумаются и до этого, то каждая собачка, наверное, будет вежливо снимать свою шляпу пред каждой встречной кошечкой.
Однажды утром в одном из итальянских городов я наткнулся на уличный инцидент в форме настоящей суматохи. Причиной этой суматохи был фокстерьер, принадлежавший одной очень молодой даме, как выяснилось уже потом, когда все дело благополучно окончилось. Собственница собаки именно в это время и явилась на место происшествия, вся красная и запыхавшаяся от усиленного бега и волнения. Он бежала целых полчаса, отыскивая свою пропавшую собаку и зовя ее на все лады.
Узнав, что случилось, дама расплакалась и не знала, как ей быть. Видя ее растерянность, я поспешил ей на помощь. С большим трудом сквозь ее всхлипывания и слезы мне удалось понять, кто она и где живет. Я занес все эти сведения в свою записную книжку, а потом по уполномочию дамы вступил в переговоры со всеми лицами, заявившими претензии к фокстерьеру, чтобы умиротворить их.
Фокстерьер, собственно говоря, вовсе не имел в мыслях причинить кому-нибудь неудобства. Он просто гонялся за воробьем, который, по-видимому, не понравился ему или же, наоборот, чересчур понравился. Собака непременно пожелала заключить с ним знакомство, а быть может, и тесную дружбу. Как известно, самое большое удовольствие для воробья – быть преследуемым собакой. Дав ей приблизиться к себе почти вплотную, юркая птичка вспархивает у нее под самым носом, пролетит небольшое расстояние и снова опускается на землю, всем своим видом как бы приглашая собаку продолжать интересную игру.
Так было и в этот раз, и вернее всего, что, когда фокстерьеру надоело бы быть обманутым, он, махнув хвостом на коварного воробья, пустился бы назад к своей госпоже, голос которой отлично слышал издали. Но тут вмешалась дворняжка, вдруг выскочившая из-под ворот и бросившаяся на фокстерьера. Тот недолго думая схватил ее за шиворот и швырнул в канавку, причем сам чуть не попал под колеса мотора, который перекувыркнулся вместе со своим седоком. Толстая женщина, желавшая спасти свою любимую дворняжку, также упала, столкнутая мотором, и увлекла за собой мальчика, торговавшего гипсовыми фигурками.
Чего-чего я не видывал и не слыхивал на свете, но мне никогда не приходилось слышать таких шума и крика, какие поднял маленький торговец гипсовыми фигурками, оказавшийся, как водится, чистокровным итальянцем новейшего пошиба, и мне стоило немало труда удовлетворить крикуна за разбитый товар и заставить замолчать.
Что же касается мотора и его седока, то, к их счастью, оказалось, что они нисколько не пострадали. Седок, снова усевшись на своего стального коня, хотел было уже пуститься в дальнейший путь, но случилось так, что мотор при повороте наехал на тележку с молоком; тележка перевернулась набок, находившиеся в ней кувшины разбились, и по улице потекла молочная река. Вообще переполох вышел большой.
В Англии публика жестоко расправилась бы с невольным виновником всей этой кутерьмы. Итальянцы же, среди которых стряслась эта история, должно быть, видели в фокстерьере лишь орудие Всевышнего, нашедшего нужным через него покарать их за грехи. Один лишь полицейский хотел было схватить собаку за ошейник, чтобы, несмотря на жалобные протесты его плачущей госпожи, задать ему хорошую трепку за дурное поведение на улице или, как это называется у полиции, за нарушение общественного порядка и тишины. Пес вертелся вокруг полицейского вьюном, неистово лаял на него и взрывал задними лапами песок на мостовой. Это так напугало одну молодую няньку, которая толкала перед собой колясочку с нарядным ребенком, что она хотела повернуть колясочку назад, но сделала это так неудачно, что та опрокинулась и полетела в одну сторону, а ее нарядный седок – в другую. Как нарочно, толчком колясочки сбило с ног и меня, так что я очутился сидя на тротуаре и имея по одну сторону распростертого и орущего во всю мочь ребенка, а по другую – валявшуюся вверх тормашками колясочку.
В таком оригинальном положении я и начал читать фокстерьеру нотации. Забыв, что я в чужой стране, я читал свою нотации на английском языке, медленно, толково и внятно. Фокстерьер, стоя от меня в нескольких шагах, слушал мою вдохновенную обличительную речь с такой восторженной радостью, подобной которой мне ни раньше, ни позже не приходилось наблюдать ни у одного живого существа. Казалось, он упивается моими словами как чистейшею райской музыкой.







