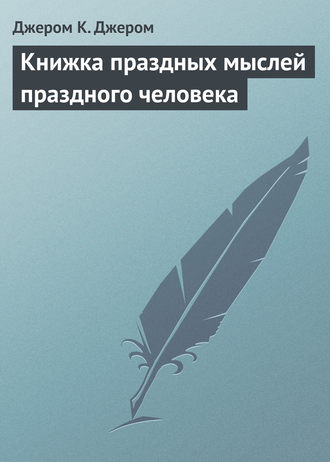
Джером К. Джером
Книжка праздных мыслей праздного человека
– Сделала новый кушак из пунцовой ленты, распустила складку, разгладила, и теперь платье опять совсем как новое, – щебечет одна.
– А я, – чирикает другая, – хочу снести свой вишневого цвета лиф к портнихе и попросить ее сделать в нем желтую вставку; будет очень красиво. Потом надо взять у Петтиков перчатки. Там только что получены новые, с толстыми швами, и недорого стоят: всего один шиллинг и одиннадцать пенсов.
Вот вам и «ангельская» беседа!
Как-то раз я ездил в обществе моих родственниц за город. Местность, по которой шла дорога, была очень живописна, но мои спутницы ничего не видели, потому что все время болтали о нарядах. Наконец я не выдержал и, обводя кругом зонтиком, заметил:
– Какой чудный вид! Посмотрите на синеющие вдали горы, обрамляющие эту живописную сельскую картину. Как таинственно белеются вон там, среди пышных садов, причудливые очертания вилл!
– Да, недурно, – небрежно кинула мне в ответ одна из дам и тут же продолжала, обращаясь к своей спутнице: – Советую тебе взять ярд флорентийской тафты и отделать корсаж…
– А юбку так и оставить без переделки? – перебила вторая дама.
– Конечно! Она и так хороша… А как называется вот это село, кузен?
Я ответил на этот вопрос и, кстати, принялся поэтизировать насчет новых видов, открывшихся пред нашими глазами. Дамы кивали своими модными шляпами, цедили сквозь зубы: «Да, это очень мило!» – или: «Очень обворожительно!» – и тотчас же снова пускались в оживленное обсуждение мод, новых материй и тому подобных более интересных сюжетов.
Я уверен, что если бы две женщины попали на необитаемый остров, то они целые дни только бы и делали, что разбирали пригодность для украшений раковинок, скорлупки яичек и камешков да придумывали бы новый фасон фиговых листочков.
Молодые мужчины тоже не прочь принарядиться, но все же они толкуют между собой не исключительно о нарядах. Попробуй кто-нибудь из них ограничиваться в беседе с товарищами одной этой темой, с ним тотчас же перестанут иметь общение, как с безнадежной пустельгой. Фатишки не в фаворе у своего пола, хотя это, в сущности, не совсем справедливо. Ведь склонность к щегольству у мужчины не имеет в себе ничего безнравственного, притом она обыкновенно проявляется лишь в молодые годы, а с течением времени пропадает. Не следует забывать, что тот, кто в двадцать лет не любит пофрантить, в сорок обязательно сделается неряхой.
Да, немного фатовства вовсе не мешает молодому человеку. Я люблю смотреть, как молодые петухи молодецки встряхивают своими блестящими пестрыми перьями, вытягивают шеи и с таким торжествующим видом кукарекают, словно им принадлежит весь мир. Чересчур же скромные, сдержанные и неразборчивые в туалете юноши мне не нравятся. Серьезничать и разыгрывать из себя аскетов им вовсе не идет; это неестественно, а потому и неприятно для окружающих.
Вообще слишком скромное поведение – большая ошибка в этом мире. Отец Урии Хипа был плохой судья в мирских делах, иначе он не стал бы внушать своему сыну, что люди более всего благоволят к скромным. Напротив, ничто так не претит людям, как образцовое поведение. Главной потехой для большинства людей служит скандал, а как вы заскандалите со скромным и сдержанным человеком? Он своими тихими ответами и манерами заставит вас сдерживать свою придирчивость и досаду, а этим испортит вам все удовольствие. Вы только что настроились на самый воинственный лад, распетушились как следует и уже предвкушаете наслаждение веселеньким скандальчиком, как вдруг первый же выпущенный вами снаряд насмешки или прямой грубости отскакивает от непроницаемой брони вашего противника, не причинив ему ни малейшего вреда и не вызвав даже намека на отпор. Есть от чего прийти в отчаяние!
Жизнь Ксантиппы, связанной с невозмутимо равнодушным к ее выходкам Сократом, должна была быть сплошным мучением для бедной женщины. Представьте себе сварливую женщину, осужденную иметь мужа, с которым никакими уловками нельзя поссориться… Кстати, о мужьях.
Мужьям следовало бы приноравливаться к своим женам в этом отношении. Существование этих бедняжек и так уж слишком однообразно и бесцветно. Ведь у них нет тех развлечений, которыми живы мы.
На политические митинги они не ходят, в клубах членами не состоят, исключены из вагонов для курящих и никогда не читают юмористических листков, а если иногда и заглядывают в них, то ничего там не понимают, потому что им никто не разъясняет.
Да, бедная Ксантиппа достойна нашего искреннего сожаления. Она была настоящей мученицей во всю свою жизнь. История с ведром была, наверное, одной из самых грустных в ее жизни. Бедная женщина так надеялась хоть этим способом вывести наконец из терпения своего «каменносердого» мужа. Она наполнила ведро грязной водой и, быть может, даже нарочно далеко ходила за ней. С каким волнением она поджидала возвращения мужа! Наконец улучила момент, чтобы окатить его из этого ведра, но – увы! – опять-таки без всякого результата. Сколько, думаю, понадобилось ей потом времени, чтобы выплакать свою досаду на такое разочарование. Последний луч надежды померк для бедняжки, насколько нам известно, у нее тогда не было уже и матери, которой она могла бы пожаловаться на такого мужа.
Что ей было радости в том, что ее муж принадлежал к числу великих философов? В супружеской жизни великая философия не у места.
Жил был когда-то мальчик, которому хотелось быть на море. Капитан, к которому он пришел просить места, спросил его, что он умеет делать. Мальчик ответил, что умеет сушить между листами книг морские растения и знает наизусть всю таблицу умножения, может повторить ее даже с конца; кроме того, знает, сколько раз в Ветхом завете встречается слово «рождать» и может наизусть прочесть «Мальчика, стоящего на пылающей палубе», «Нас семеро» и…
– Все это очень хорошо, – прервал капитан. – Но умеешь ли ты отличать каменный уголь от простого?
То же самое и в семейной жизни. Там не столько нужны отвлеченные знания, сколько полезные. Развитые мозги совсем не нужны в супружестве: там на них нет никакого спроса, потому что там нет им применения. Каким бы сильным умом ни отличался муж, жена все равно низведет его на свой собственный низенький умственный уровень.
Поверьте мне, дорогой читатель, ваша супруга или возлюбленная никогда не преклонится пред вашей ученостью и мудростью. Женщине в домашнем обиходе необходим человек, который мог бы поживее исполнить любое ее поручение, не подвергая его критическому разбору и вообще не высказывая о нем собственных суждений, хотя бы и самых возвышенных и гениальных; который умел бы как следует держать на руках ребенка и не очень жаловался бы на пережаренное или недожаренное жаркое за обедом. Вот какого рода мужей любят чувствительные женщины, а вовсе не научных или литературных светил, которые ровно ничего не смыслят в хозяйстве и в детской и своей страстью к оригинальничанью готовы перевернуть вверх дном весь житейский уклад.
XIV
О памяти
Помню, помню, в ноябре
Шла ворона по грязи…
А дальше забыл. Это было первое стихотворение, самостоятельно мной прочитанное в одной детской книжке и заученное наизусть. Я только потому и запомнил его начало, что мне за каждое повторение этих стишков наизусть при гостях давалось четыре пенса, причем всегда внушалось, что если я сберегу эти четыре пенса до тех пор, когда к ним прибавится еще столько же, то у меня будет тогда уже восемь пенсов. Но так как особенной склонности к сбережениям я в то время не чувствовал, то на следующий же день обменивал свои четыре пенса на какое-нибудь лакомство. Таким образом, мой капитал не только не увеличивался, но и тот, который попадал мне в руки, не мог удержаться у меня долее суток.
Я бы не запомнил и того, что мне давалось именно по четыре пенса, не больше и не меньше, если бы не постоянное наставление о бережливости, в результате которой должна была образоваться сумма в восемь пенсов. И я привел эти факты из своей детской жизни для того, чтобы показать, как, в сущности, половинчаты все наши воспоминания. Память – это своенравный ребенок, разбивающий и ломающий все свои игрушки. Помню, например, как я, еще совсем маленьким, свалился в мусорную яму, но о том, каким путем я из нее выбрался, – ничего не помню. Поэтому, если бы нам приходилось основывать свои суждения на одной памяти, то я, помня только о своем пребывании в мусорной яме, мог бы, по логике, быть вынужденным признать, что и посейчас нахожусь в этом прекрасном месте.
В другой раз, много лет позднее, я был одним из главных действующих лиц в очень пылкой любовной сцене, но единственно яркое воспоминание об этой сцене оставил во мне тот момент, когда, в самый разгар ее, дверь в комнату, где происходило дело, вдруг отворилась и чей-то словно замогильный голос произнес: «Эмилия, иди в гостиную: тебя спрашивают; очень нужно». Можно было подумать, что явилась полиция арестовать Эмилию. Больше ничего не могу припомнить; от обмениваемых пред этим эпизодом нежных слов и горячих поцелуев – если только они были – ровно ничего не уцелело в моей памяти. Таких случаев я мог бы рассказать много.
Для оглядывающихся назад жизнь представляется лишь разрушающимися развалинами. Где прежде высился массивный портик, там теперь осталась одна колонна; место будуара дамы сердца отмечено одним полуразрушенным окном; место, где когда-то весело трещал огонь, разливая тепло и свет, превратилось в груду почерневших камней; а все вместе поросло лишаями и сорными травами.
Все очертания бывшего расплываются в тумане отдаленности от нас, но благодаря именно этому туману получают в наших глазах какую-то особенную таинственную прелесть. Даже прошлые горести нам кажутся прекрасными. Дни нашего детства представляются нам в виде длинной цепи всякого рода веселья, баловства, сластей, игрушек и забав. Выговоры же, наказания, зубная и головная боли, насморки и кашли, зубрение сначала грамматики отечественного языка, а потом латинского – все забыто; особенно основательно забыта именно латинская грамматика. Вся наша юность, когда мы отошли от нее на порядочное расстояние, кажется нам сплошным праздником торжествующей любви. О бессонных ночах той поры и о сердечных страданиях, когда она объявляла нам, что не может быть для нас ничем другим, кроме сестры (словно нам нужны только сестры!), мы совершенно забываем.
Да, оглядываясь назад на пройденный нами путь, мы видим одни прошедшие радости, один яркий свет, заслоняемый лишь завистливым мраком настоящего. Весь этот путь кажется нам усыпанным розами; его камней, о которые мы столько раз спотыкались и ушибали себе ноги, мы уже не различаем, а окаймляющий его терновник представляется нам нежным, колыхающимся под дуновением легкого зефира кустарником.
– Благодарение премудрому Промыслу за то, что беспрерывно удлиняющаяся цепь наших воспоминаний сохраняет в себе одни красивые и светлые звенья, что вчерашние горести и печали сегодня припоминаются уже с улыбкой.
Так как все светлое в жизни является вместе с тем и наиболее великим, то мне кажется, что, по мере погружения нашего прошлого в темное море забвения, над его поверхностью дольше всего и могут продержаться одни светлые радости, выпавшие нам на долю, между тем как черные горести, скорби и печали, так жестоко мучившие нас в свое время, давно уже погрузились на дно и более не тревожат нас напоминанием о себе.
Прошлое обладает особыми чарами, которые и заставляют людей старых болтать молодым столько вздору о тех днях, когда они сами были молоды. Старикам кажется, что мир в дни их молодости был несравненно более приятным местом пребывания, чем теперь, и что в нем все было именно таким, каким должно бы быть. Мальчики были только мальчиками, т. е. детьми, находившимися в блаженном неведении того, чего мальчикам не следует знать, а девочки – так те были уж настоящими ангелами невинности, доброты и всякой душевной прелести. Да и зимы-то тогда были настоящими зимами, а не карикатурой на них; лето тоже не срамило себя разными неприличными выходками, которыми отличается теперь. Когда же почтенные старички начнут баснословить вам о великих подвигах, будто бы совершенных их современниками, и об умопомрачительных событиях того времени, то у самых доверчивых слушателей наших дней начинают, как говорится, вянуть уши.
Мне всегда доставляет удовольствие слушать, когда старики развивают свои цветистые фантазии о прошлом пред молодежью, которая слушает их разинув рот и не находя что возразить по своей неопытности. И я каждый раз удивляюсь, почему эти седовласые фантазеры не догадаются сказать, что во дни их юности луна освещала все ночи, а единственным спортом подростков того времени было подбрасывание на одеялах бешеных быков…
Так всегда было, так и будет. Дедушки наших дедушек пели те же самые песни о небывалой прелести их юных дней. Может статься, что и мы сами, достигши известного почтенного возраста, будем с восторгом отзываться о времени своей молодости и с ужасом будем порицать настоящее.
«Ах, верните нам доброе старое время хоть на пятьдесят лет назад!» – таков неумолчный вопль человечества со дня пятьдесят первой годовщины рождения Адама. Возьмите литературные произведения хоть, например, начала XIX века, и вы увидите, что многие поэты и романисты того времени предавались беспросветной тоске о навеки канувших в вечность днях, как делали задолго до них немецкие миннезингеры, а еще раньше – скандинавские сказочники. О бесследно промчавшемся и, наверное, никогда не существовавшем «золотом» веке одинаково вздыхали и ветхозаветные пророки, и мудрецы древней Эллады.
Вообще, если верить старым преданиям, то мир с самого своего сотворения только и делал, что с каждым новым днем становился все хуже и хуже. Судя по этим преданиям, мир в тот день, когда он впервые открылся для публики, должен был быть восхитительнейшим местопребыванием, хотя он, в сущности, не плох и теперь при условии уметь держаться в полосе солнечного сияния и снисходительно относиться к ненастью.
Нет спора, земля и в самом деле не могла не быть прекрасной на росистой заре первого дня своего существования, когда ноги миллионов людей еще не истоптали в прах свежей зелени, а оглушительный грохот тысяч городов еще не отпугнул мирного ангела тишины. Благородной и торжественной была жизнь для легко и свободно одетых праотцев человечества, шествовавших рука об руку с Самим Богом. Они обитали в залитых солнцем шатрах, среди мычащих стад. Все их скромные потребности удовлетворялись любящей рукой самой природы. Они трудились, мыслили и передавали друг другу свои впечатления. В мире и тишине вращалась тогда по своему воздушному пути земля, еще не отягченная злом и преступлениями.
Эти прекрасные времена миновали безвозвратно. Спокойное детство и юность человечества, проведенные им под сенью густолиственных лесов, у журчащих ручьев, уже давно окончились, и людской род вступил в пору возмужалости среди волнений, сомнений и надежд. Век мирного покоя был и отжил. Людскому роду дана задача, и он спешит ее выполнить. Но что это за задача, какую роль играет этот мир в великих непостижимых предначертаниях Промысла, – мы не знаем, хотя бессознательно и делаем то, что должны делать. Подобно невидимым глазу крохотным строителям кораллов, глубоко на дне морей созидающим целые острова, каждый из нас трудится и бьется ради достижения собственных мелких целей, не имея и понятия о том, что вместе с тем способствует построению великой мастерской, предназначенной служить недоступным нашему слабому уму целям Высшего Разума.
Не будем же предаваться напрасным сожалениям и скорбям о невозвратных днях, протекших не для нас лично. Наша забота должна относиться к будущему, а не к прошлому; нашим лозунгом должно служить слово «вперед». Не будем сидеть сложа руки и в тоскливой праздности созерцать прошедшее, принимая его за готовое уже здание, тогда как оно – лишь фундамент для будущего здания. Не будем зря тратить жизнь на бесплодные слезы о том, что было или, по крайней мере, кажется нам бывшим, забывая о том, что находится впереди нас. Тоскуя о том, чего нам не было дано, мы только упускаем то, что нам дается, и пренебрегаем тем, что имеем в руках, ради того, чем не можем овладеть.
Много лет тому назад, когда я, сидя по зимним вечерам пред ярко пылавшим камином, зачитывался старыми сказками, мне пришлось познакомиться в одной из этих сказок с доблестным рыцарем. Во многих странах он перебывал, много препятствий поборол, многим опасностям подвергался. Все знали его как многоиспытанного и храброго рыцаря, которому был чужд всякий страх, за исключением, впрочем, таких случаев, когда и самый мужественный человек может почувствовать робость, не опасаясь быть названным за это трусом.
Но вот однажды, среди утомительного пути, этот рыцарь «без страха и упрека» вдруг стал предаваться малодушной робости, навеянной на него унылым видом той местности, по которой он проезжал. Со всех сторон его окружали необычайной высоты темные, мрачные скалы, словно наклонявшиеся вперед и готовые каждую минуту рухнуть и раздавить под собой дерзновенного всадника, рискнувшего забраться в их область. Там и сям зияли бездонные пещеры, в которых могли скрываться неизвестные рыцарю страшилища. А впереди с оглушительным ревом низвергались в бездонные пропасти бурные горные потоки. Кругом сгущался ночной мрак.
Уверенный, что на этом страшном пути его ожидает гибель, рыцарь хотел уже повернуть своего верного коня, чтобы вернуться назад в то место, где он раньше видел разветвление дороги, и пуститься вперед по другому направлению, где, быть может, окажется меньше грозных опасностей.
Но когда он оглянулся назад с целью узнать, как лучше повернуть коня, то, к великому своему изумлению, не увидел ничего, кроме глубокой бездны, простиравшейся от самых ног коня до того места, где земля как будто сходится с небом. Сердце рыцаря дрогнуло от ужаса. Он понял, что уже не может возвратиться назад. Пришпорив своего коня, он смело направился вперед и благополучно миновал страшное место.
Из этой сказки и мы должны понять, что от прошлого нас отделяет непреодолимая пропасть, а пугаться будущего, каким бы оно ни казалось грозным, никогда не следует, потому что это бесполезно.
Да, возврата по жизненному пути нет ни для кого. При каждом новом шаге вперед проваливается в вечность тонкий мост времени, навсегда прерывая наше общение с прошлым. Оно скрылось от нас, и нам его уж не вернуть. Ни одно слово не может вернуться назад, как не может вернуться нам наша юность. Поэтому мы, подобно тому рыцарю, должны смело идти вперед, отогнав бессмысленную тоску о безвозвратном.
С каждой новой секундой начинается для нас и новая жизнь. Будем же встречать ее радостно. Все равно мы должны идти вперед, – хотим ли мы этого или не хотим; так не лучше ли идти с глазами, устремленными в будущее, а не обращенными на прошлое?
Как-то раз пришел ко мне один приятель и настойчиво принялся убеждать меня заняться изучением нового способа укрепления памяти так, чтобы никогда не забывать ничего виденного, слышанного, прочтенного и заученного. Не знаю, почему мой приятель нашел нужным именно меня ознакомить с этим способом, – быть может, потому, что я имею обыкновение забывать везде дождевые зонтики, обзаводиться новыми и постоянно разочаровываться в них, или потому, что склонен делать в карточной игре несвоевременные прикупки, несмотря на горькие опыты, которые должны были бы научить меня быть осторожнее. Но как бы там ни было, я решительно отказался воспользоваться так горячо и красноречиво расхваливаемым моим приятелем способом укрепления памяти, потому что вовсе не желаю ничего помнить.
Действительно, в жизни большинства людей есть много такого, о чем лучше забыть. К чему, например, помнить те минуты, когда мы поступили не так честно, не так искренно и справедливо, как бы следовало? К чему помнить те несчастные отступления от прямого пути, которые приводили нас к стыду и позору в сознании нашей сумасбродной ошибки? Ведь мы уже заплатили за свои роковые ошибки ночами, полными мучительных угрызений совести, жгучего стыда и, быть может, даже презрения к самим себе. Искуплено все это – и довольно. Зачем же еще вспоминать об этом?
О, всемогущее Время, отец забвения! Освободи нас своей милосердною рукою от горьких воспоминаний о прошлом. Ведь каждый новый час несет нам и новые горести, а силы у нас ограниченные; как же нам нести двойную тяжесть прошлого и настоящего?
Я не утверждаю, что прошлое должно быть совеем похоронено. Музыка жизни стала бы немой, если мы совершенно порвем струны прошедшего. Мы должны вырывать из цветника Мнемозины только сорную траву, а не самые цветы. Помните у Диккенса того человека, который так усердно молился о ниспослании ему забвения прошлого, а когда молитва его была услышана, стал так же усердно молиться о том, чтобы ему была возвращена память? Мы не требуем уничтожения всех духов, а бежим только от страшных привидений со свирепыми лицами и пылающими злобой глазами. Пусть преследуют нас сколько угодно тихие, мирные призраки; их мы не боимся.
По мере того как мы становимся старше, пред нами восстает все больше и больше привидений. Для того чтобы видеть их туманные лица и слышать шелест их волнистых дымчатых одежд, нам вовсе нет надобности ночевать на кладбищах или в развалинах старинных замков. В каждом доме, в каждой комнате, даже в каждом кресле сидит свой дух. Призраки осаждают все места, где мы живем, кружатся вокруг нас, подобно осыпающимся листьям в осеннюю бурю. Некоторые из них живые, другие мертвые, но мы этого не разбираем. Мы когда-то обменивались с ними рукопожатиями, любили их, ссорились с ними, смеялись и делились нашими мыслями, горестями и надеждами – словом, соединялись с ними такими узами, которые, по нашему мнению, должны были противостоять самой великой разлучнице – смерти. Но наши любимцы ушли от нас навсегда. Мы никогда больше не услышим их милых голосов, их дорогие глаза никогда больше не заглянут в наши. Лишь одни их призраки навещают нас и ведут с нами немые беседы. Сквозь дымку наших слез мы видим лишь их смутные, расплывчатые очертания. Мы тоскливо простираем к ним руки, но улавливаем только воздух.
Призраки! Они с нами и ночью и днем. Они следуют рядом с нами по шумным улицам, среди ослепительного солнечного блеска. Они составляют нам компанию дома, в вечерних сумерках. Мы видим их бледные лица выглядывающими из окон той старой школы, которую мы посещали некогда в детстве. Мы встречаем их на лугах и в лесах, где мы в юности бегали и играли.
Чу! Разве вы не слышите их тихого смеха, несущегося из-за того вон пышного куста ежевики, и радостных криков, раздающихся по тем вон травянистым прогалинкам? Вот смотрите: среди залитых солнцем цветущих полей и полных таинственного сумрака лесов вьется та тропинка, по которой мы бежали навстречу своей милой, вечерком, на закате. Смотрите: и сейчас она идет по той тропинке, в том же воздушном белом платье, которое нам так нравилось, с болтающейся на маленькой руке широкополой соломенной шляпой и со спутанными белокурыми волосами на красивой головке.
«Но, – скажете вы, – ведь она давно уже умерла, и притом далеко отсюда». «Так что ж? – возражу я. – Несмотря на все это она здесь, с нами, мы можем смотреть в ее смеющиеся глаза, слышать ее нежный голос. Она исчезнет на лесной опушке, поля окутаются ночными туманами, и ночной ветер развеет последний звук ее шагов, но ее призрак останется с нами».
Да, призраки всегда с нами и не исчезнут до тех пор, пока этот унылый старый мир еще не разучился сохранять отголоски горьких, безутешных рыданий, провожающих любимого человека на тот таинственный и зловещий корабль, неумолимый капитан которого всегда только перевозит на ту сторону великого моря жизни, но никогда никого не возвращает назад. Без призраков мир был бы еще унылее и печальнее. Поэтому просим вас, дорогие призраки прошлого, приходите к нам и беседуйте с нами. Приходите, тени наших любимых товарищей игр, наших друзей юности и наших возлюбленных! Будьте снова с нами! Мир без вас так скучен, новые лица и друзья не так нам милы, как были милы вы, и мы не можем их любить, не можем и смеяться с ними, как любили вас и смеялись с вами. Когда мы вместе с вами, дорогие призраки, совершали жизненный путь, мир был полон света и радости для нас; теперь же он для нас потускнел; сами мы сделались вялыми и угрюмыми, и лишь одни вы можете вернуть нам хоть отблески прежней свежести и восторгов нашей жизни.
Память – превосходный вызыватель призраков. Подобно так называемым «нечистым» домам, стены памяти тоже всегда полны шума незримых шагов. Через ее разбитые окна мы можем наблюдать порхание теней смерти, и все эти печальные тени, в сущности, – не что иное, как призраки того, что умерло в нас самих.
Ах, как укоризненно смотрят на нас глубокие, светлые глаза милых нам лиц, полных веры и честности, добрых помышлений, чистых стремлений и лучезарных надежд! И они правы так смотреть на нас, потому что с тех пор, как они покинули здешний мир, много заползло в наши сердца безверия, лжи, лукавства и всяких нечистот; не сдержали мы слово быть добрыми и великими. Хорошо, что мы не обладаем даром заглядывать в будущее, иначе ни один подросток не вынес бы вида самого себя в сорок лет.
Я не прочь иногда побыть наедине и побеседовать с тем наивным мечтателем, каким был сам много лет тому назад, т. е. с собственным призраком в мои самые юные годы. Должно быть, и ему нравится общение со мной, потому что часто приходит ко мне по вечерам, когда я сижу одиноко пред камином, потягивая ароматный дымок из своей трубки и прислушиваясь к шепоту огня. В голубых струйках дыма вижу его маленькое серьезное личико и приветливо улыбаюсь ему. И он улыбается мне в ответ. Но его улыбка такая печальная и тоскливая. Мы болтаем о старых временах. Иногда он берет меня за руку, и мы с ним проскальзываем сквозь черную решетку и раскаленный свод камина в ту страну, которая скрыта за чертой пламенного огня. Мы оказываемся в прошлом и вновь, один за другим, минуем дни, уже некогда нами прожитые. На ходу мой посетитель делится со мной всеми своими мыслями и чувствами. Временами я смеюсь над его словами, но тут же каюсь в своем смехе, потому что, глядя на юное, но грустное лицо моего спутника, мне становится стыдно за легкомысленность, с которой он относится теперь ко мне. Не хорошо так относиться к тому, кто гораздо старше нас и кто был тем, чем давно уже перестал быть.
Вначале мы мало говорим друг с другом, а только смотрим: я – сверху вниз на его светлые кудрявые волосы и ясные голубые глаза; он – снизу вверх на меня, и то лишь украдкой, на ходу, не слышно скользя рядом со мной. Мне чудится, что его робкий взгляд не всегда выражает довольство мной, и с его уст часто срывается вздох разочарования. Однако, немного спустя, его застенчивость пропадает, и он пускается в оживленную болтовню.
Он рассказывает мне свои любимые волшебные сказки. Папа говорит, что в сказках нет правды, и это очень грустно, потому что ему (моему собеседнику) так хотелось бы быть храбрым рыцарем, побивать злых драконов и жениться на прекрасной принцессе. Ему тогда было шесть лет, а с семи он стал смотреть на мир с более практической точки зрения и желает быть торговцем, чтобы иметь много денег. Быть может, эта практичность явилась последствием того, что он влюбился в шестилетнюю дочку мелочного торговца, лавка которого была напротив нашего дома. Наверное, он очень любил эту девочку, судя по тому, что однажды подарил ей свое лучшее сокровище – большой перочинный нож с четырьмя проржавевшими лезвиями и пробочником, обладавшим неприятным свойством своевольно раскрываться в кармане и впиваться в ногу своему обладателю. Она была так восхищена этим подарком, что обвила своими маленькими ручонками шею дарителя и несколько раз звучно чмокнула его прямо в губы. Разумеется, все это происходило вдали от людских глаз, в темном углу кладовой лавки. Впрочем, как-то раз подобная нежная сцена повторилась в воротах нашего дома, куда иногда прибегала на свидания со своим другом маленькая лавочница. Свидетелем был другой мальчик, немного постарше. Он стал выслеживать влюбленную парочку, вследствие этого вышло настоящее побоище, кончившееся полным поражением моего собеседника.
Но вот наступила школьная пора с ее огорчениями и радостями, веселым шумом и гамом, замысловатыми шалостями, а подчас и горючими слезами, лившимися на страницы противных грамматик – в особенности латинской – и задачников.
В школе он немножко искалечил свой язык, стараясь как можно добросовестнее усвоить произношение немецких слов. Там же он узнал, какое огромное значение имеют для французов писчая бумага, чернила и перья. «Есть у тебя бумага, чернила и перья?» – вот всегда была первая фраза, с которыми ученики-французы будто бы обращаются друг к другу при встречах. Если у вопрошаемого мальчика этого добра недостаточно, то он обыкновенно отвечает, что у него всего этого немного, зато очень много у дяди его брата. Но вопрошающий не особенно интересуется дядей брата своего товарища, а желает знать, много ли бумаги, чернил и перьев у соседа матери товарища. «Нет, у соседа моей матери нет ни бумаги, ни чернил, ни перьев», – с видимым волнением отвечает вопрошаемый. «А не имеет ли сын садовника перьев, чернил и бумаги?» – продолжает неумолимый допросчик. – Оказывается, тот имеет. И после бесконечных, доводящих до полного одурения расспросов о бумаге, чернилах и перьях, в конце концов выясняется, что всего, этого нет у дочери садовника самого вопрошающего. Такое открытие повергло бы в бездонную пучину стыда кого угодно другого, но неутомимому допросчику со страниц учебника французского языка это – как с гуся вода, и он, с возмутительным спокойствием, нисколько не краснея, продолжает беседу с заявления, что у его тетки имеется немного горчицы. И весь учебник в таком духе.
В приобретении таких «полезных» знаний – скоро, к счастью, забываемых – и проходит золотое отрочество. Красное кирпичное здание школы расплывается в тумане, и мы выходим на большую дорогу жизни. Мой маленький друг вырос. Куртка его превратилась в нечто более длинное. Его растрепанная ученическая фуражка, служившая ему, между прочим, и носовым платком, и предметом для зачерпывания воды из ручья, и наступательным оружием, заменена высокой глянцевитой шляпой-цилиндром. Во рту у него торчит уже не сахарная палочка, а сигаретка, дым которой, проникая ему в нос, немало его беспокоит. Позднее он принимается уже за более приличную толстую черную «гаванскую» сигару, которой в первое время также очень недоволен, судя по тому, что после нее он долго отплевывается и клянется, что никогда больше в жизни не прикоснется к «такой гадости».







