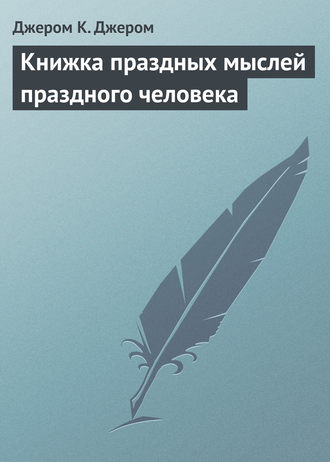
Джером К. Джером
Книжка праздных мыслей праздного человека
Как мало мы понимаем это главное основание нашей жизни, дающее человечеству продолжительность и как бы бессмертие. Да, именно бессмертие. Мое я никогда не умрет; черты моего лица – как бы они ни были незначительны с эстетической точки зрения – никогда не исчезнут; лишь немного видоизмененные, хотя, в сущности, все одни и те же, они будут повторяться до бесконечности. Мой характер, с его смесью добра и зла, также будет постоянно возрождаться в лице моих детей и детей моих детей. Таким путем я вечен: я в детях, и дети во мне. Дерево дряхлеет и начинает распадаться, и мы убираем его с занимаемого им места, чтобы дать простор новому. Кажется, от старого не осталось и следа, а между тем его соки, его жизнь перешла в десятки новых отростков, которые то там, то тут пробьются из земли.
Эти мужчины и женщины, которые спешат мимо меня, несясь кто куда, – все они матери грядущего мира. Этот алчный собиратель денег, всеми правдами и неправдами умножающий свое богатство, – что он такое? Войдите в его роскошный особняк, и вы увидите его раскачивающим на своих коленях детей, рассказывающим им сказки и обещающим им новые лакомства и игрушки. Ради чего он торгует своей совестью и все свои дни проводит в суетах, хлопотах и беспокойстве? Опять-таки ради того, чтобы эти дети, с которыми он нянчится в свободные минуты, могли обладать всем тем, что он считает для них добром.
Самые наши пороки, как и наши добродетели, имеют своим источником все тот же инстинкт материнства, которое является единственным семенем вселенной. Планеты – лишь дети Солнца; Луна – лишь отпрыск Земли, камень от ее камня, железо от ее железа. Что является великим центром всего живущего, всего одушевленного и неодушевленного, если только действительно существует что-нибудь неодушевленное, и наполняет собою все пространство? По всей вероятности, все та же туманная фигура всеобщего материнства.
Взгляните на эту удрученную заботами мать прелестной молодой девушки, выбивающуюся из сил, чтобы поймать для своей дочки богатого мужа. С одной точки зрения, эта женщина представляется очень неказистой, но взглянем-ка на нее с другой. Как ей должно быть тяжело, когда, еле держась от усталости, изнывающей от жары и духоты, с беспокойными глазами и растекающимися по старому изможденному лицу белилами и румянами, она оживляет собою стену залитого огнями бального зала. Много горьких пилюль пришлось ей проглотить в этот вечер! Она встретила высокомерно-снисходительные взгляды дам, выше ее поставленных на лестнице общественной иерархии, и даже явно была оскорблена одной герцогиней. Но она уже привыкла к этому и улыбается сквозь слезы, стараясь только, чтобы никто не заметил их. Ради чего она вот уж который раз выдерживает эту пытку? Конечно, ради тщеславной мечты видеть свою дочь богатой, разъезжающей в дорогих экипажах, держащей целый штат прислуги, живущей в Парк-Лейн, имеющей множество бриллиантов, с почетом упоминаемой на страницах газет, дающих описания великосветских затей. Бедной женщине было бы гораздо лучше вести скромную и спокойную жизнь среди своих четырех стен, в кругу действительных друзей; ложиться вовремя спать и не мучиться вопросом, откуда взять денег на новые туалеты себе, а главное, вывозимой в общество дочери. Гораздо лучше было бы для них обеих, если бы мать предоставила дочери выбрать себе по сердцу кого-нибудь из молодых тружеников, так усердно ухаживающих за нею благодаря ее миловидности. Гораздо… Но не будем слишком строго судить эту злополучную женщину, вся вина которой, в сущности, сводится лишь к тому же, хотя и искаженному в своих проявлениях, ложно направленному материнству.
Материнство – это гамма Божьего оркестра, на одном конце которой находятся дикость и жестокость, а на другом – нежность и самопожертвование.
Ястреб набрасывается на курицу, и она вступает с ним в отчаянную борьбу; он ищет пищи для своих детенышей, а она защищает своих, рискуя собственной жизнью.
Паук высасывает муху ради своего потомства. Кошка съедает бедную мышку, для того чтобы запастись молочком для своих котяток. Человек делает дурное ради своих детей. Вся дисгармония жизни заканчивается гармоническим аккордом – аккордом ликующего Материнства.
X
О том, что не следует слушаться чужих советов
Шагая однажды зимой по юстонской платформе в ожидании поезда, я заметил человека, проклинавшего на всевозможные лады автомат. Сначала он только молча тряс эту машину, но с такой яростью, что можно было бы ожидать, что в следующую минуту примется разбивать вызывавший его негодование предмет. Невольно заинтересованный, я приблизился. Услыхав мои шаги, незнакомец обернулся и спросил меня:
– Это вы недавно тут проходили?
– Где именно тут? – пожелал я узнать, так как в течение пяти минут ходил взад и вперед по всей платформе.
– Да вот тут, на этом самом месте, где мы теперь стоим, – раздраженно пояснил незнакомец. – Раз говорят тут, то это не значит там.
– Может быть, во время ходьбы по этой платформе я и проходил здесь, – отозвался я, стараясь говорить как можно вежливее, чтобы дать незнакомцу понять его грубость.
– Мне, собственно, нужно знать, тот ли вы человек, который минуту тому назад говорил со мной, – продолжал незнакомец.
– Нет, я с вами до этой минуты не имел удовольствия говорить, – отрезал я, приподымая шляпу. – Честь имею… – И шагнул дальше.
– Позвольте, – снова раздался настойчивый голос незнакомца, – уверены ли вы, что не говорили со мною?
– Вполне уверен. Беседу с вами трудно забыть, – сыронизировал я.
– Простите! – совсем другим тоном проговорил незнакомец. – Вы так похожи на того человека, который давеча говорил со мной. Пожалуйста, простите мне мою ошибку.
Тон этот смягчил меня. А так как до прибытия поезда оставалась еще четверть часа, то мне захотелось узнать, что так вывело из себя этого добродушного на вид человека.
– Обознались, это бывает, – примирительно сказал я. – А вам очень нужен тот человек, за которого вы приняли меня?
– Да, очень бы нужен, – продолжал скороговоркой незнакомец, видимо обрадованный, что нашел кому излить бушевавшие в нем чувства. – Видите ли, я сунул сюда, в это вот отверстие, – он указал на автомат, – пенни, чтобы получить коробку спичек. Взамен моего пенни ничего не получилось, и я с досады начал трясти эту штуку и ругаться, как это бывает с нами, мужчинами, в таких случаях. В это время подошел человек вашего роста, с такой же фигурой, и… Да правда ли, что это были не вы?
– Даю вам честное слово, что не я, – поспешил я вновь уверить этого, видимо, скептически настроенного человека. – Но что же сделал мой двойник по росту и по фигуре?
– Проходя мимо меня, он сказал: «Эти машины очень капризны и требуют особого обращения. Нужно знать, как с ними ладить. А вам что угодно?» – «Мне захотелось курить, – ответил я, – а у меня не осталось ни одной спички. Вот я и хотел…» – «Бывает, что эти машины иногда выходят из равновесия, и тогда нужно сунуть в них еще пенни, чтобы заставить их исполнять свою обязанность, – прервал меня тот человек. – Второй пенни освобождает действующую пружину и выскакивает обратно вместе с желаемым предметом. Таким путем вы ничего не теряете. Случается, что возвращается к вам и первый пенни, и тогда это уж прямая выгода. Я не раз проделывал этот интересный опыт». Последние слова мне не очень понравились, но я все-таки решил воспользоваться указаниями этого опытного в данном деле человека. По своему легковерию я так и сделал. Сунул в пасть этому… чудовищу другую монету, которую впопыхах принял за пенни, а она оказалась двухшиллинговая. Ну и действительно получил кое-что… Вот, неугодно ли взглянуть…
И он показал мне маленький пакетик, заключавший в себе пряник местного производства.
– Два шиллинга и один пенни! – с горечью добавил он, размахивая перед моими глазами пакетиком. – С удовольствием отдал бы эту дрянь за треть стоимости… или, еще лучше, сунул бы ее в глотку тому, кому я обязан этим удовольствием. Не так жаль мне потерянных денег, как обидно, что я мог оказаться таким олухом и поверить совету этого озорника.
Мой случайный собеседник был не очень разборчив в своих выражениях, и не тяготись я своим одиночеством на скучной платформе, я, наверное, уклонился бы от дальнейших разговоров с ним. Но при данных обстоятельствах нельзя было быть слишком щепетильным. Поэтому я не выразил протеста, когда мой будущий спутник (он ожидал того же поезда, которого ждал я) стал прохаживаться по платформе рядом со мной, продолжая изливаться в жалобах на свою неудачу.
– И дернул же меня черт послушаться совета того негодяя! – негодовал ой. – Ясное дело, что я обратился не к тому автомату, который торгует спичками. Только потом, когда было уже поздно, я обратил внимание на надпись, и в этом, конечно, моя собственная вина. Но не явись тот человек со своим лукавым советом, я, быть может, вовремя разглядел бы свою ошибку… Впрочем, я не в первый уж раз терплю неприятности из-за чужих советов. Был у меня молодой чистокровный уэльский пони, здоровенький и резвый, словом, одна прелесть. Всю зиму он у меня пробыл на хорошем корму, а весной я решил, что пора пустить его в пробную поездку, так, миль в десять, не дальше. Шел мой пончик все время отлично, но когда мы достигли места назначения, он оказался порядочно взмыленным. Около гостиницы, к которой я подъехал, стоял какой-то человек. Посмотрел он на моего пони да и говорит:
– Славная у вас лошадка, сэр.
– Ничего, так себе, – отвечаю я.
– Только очень еще молода, – продолжает незнакомец. – Не следует слишком быстро гнать таких молодых. Посмотрите, как вы упарили ее.
– Я и не думал гнать ее, – возражаю я. – Она сама бежала, как ей хотелось. А что она вся в мыле, так это неудивительно: жара такая, что я и сам вспотел не меньше лошади, хотя бежала она, а я только управлял ею, сидя в бричке.
Я поводил немного пони по улице, чтобы он несколько остыл, потом, привязав его у подъезда, задал ему корма, а сам вошел в гостиницу, закусил там, освежился холодной фруктовой водичкой и через час вышел из подъезда. Мой конек уже успел отдохнуть и выглядел довольно весело. Смотрю – тот человек все еще торчит там.
– Когда пойдете назад, то будете подниматься на гору? – спрашивает он меня.
– Разумеется, – отвечаю я. – А как же иначе? Впрочем, быть может, вы знаете средство подниматься на горы, не взбираясь на них? – полюбопытствовал я, раздосадованный на такой глупый вопрос.
– Нет, такого средства я не знаю, – отвечает незнакомец, – но могу дать вам добрый совет. Угостите свою лошадку пинтой эля пред отъездом отсюда, и вы увидите, как она побежит.
– Но, – возражаю я, – она у меня трезвенница и кроме воды ничего не пьет. Пьянствовать еще не приучена.
– Это совсем не пьянство, а безвредное возбуждающее средство, – поучает этот навязчивый человек. – Я всю жизнь вожусь с лошадьми и хорошо знаю, что и когда нужно давать им. Послушайтесь моего доброго совета: дайте ей пинту эля, да хорошего, старого, и она одним духом взлетит на любую гору, даже не почувствовав этого. И вам будет приятно, и ей не вредно.
Мне бы нужно было, с позволения сказать, плюнуть этому непрошеному советчику в глаза, да и уехать поскорее. Но вместо этого я взял да и сделал по его указанию. И сам не могу понять, как это так выходит, что мы слушаемся первого встречного, словно это наш лучший, испытанный друг, правдивость которого нам давно известна! Вернулся я в гостиницу, потребовал пинту старого эля, вылил его в деревянную миску и вынес своему пони. Вокруг собралась целая толпа ротозеев и зубоскалов, которые и принялись допекать меня своими остротами.
– Это очень хорошо, сэр, – говорил один, – что вы уже теперь начинаете просвещать своего пони: вылакает он эль да и пойдет куролесить.
– Надо бы потом угостить лошадку и хорошей сигаркой, – острил другой.
– А по-моему, – хихикал третий, – лучше всего дать ей потом чашку горячего кофе с ликером…
Ну и все в таком духе. Между тем мой пони обнюхал незнакомое для него пойло, отвернул было морду, подозрительно косясь на миску, потом еще раз обнюхал и вдруг как примется подхватывать жидкость, так что через минуту и следа от нее не осталось в миске. Передал я пустую посудину обратно одному из слуг гостиницы, обругал насмешников, потом уселся в бричку, хлопнул пони вожжами по гладкой спине, и он понес бричку как перышко! Долго еще доносился до моих ушей насмешливый хохот ротозеев.
На гору мы поднялись быстро и хорошо, но когда очутились на противоположной стороне горы, возбуждающее пойло начало действовать на пони, и он действительно закуролесил… Мне не раз приходилось наблюдать пьяных людей, даже женского пола, но пьяного пони я имел удовольствие видеть в первый раз и не знал, как с ним обращаться, чтобы обуздать его. Обладая четырьмя ногами, он хотя и не падал, зато совсем разучился управлять ими. Начал выделывать такие выкрутасы на дороге, что ехавший за мною велосипедист никак не мог проехать мимо нас: только что хочет воспользоваться местом, очищенным нами, как пони снова на этом месте и преграждает ему путь.
Мне очень хотелось бы выскочить из брички и оставить лошадь на произвол судьбы, но сделать этого не было никакой возможности, не рискуя сломать себе шею.
Так шло всю дорогу вплоть до моей усадьбы, до которой мы достигли довольно скоро, несмотря на то что все время ехали зигзагами. В полумиле от села, близ которого находится моя усадьба, сначала нам попался навстречу воз с сеном. Человек, лежавший на этом возу, по обыкновению спал, а его лошадь, испугавшись стремительного натиска моей, шарахнулась в сторону и вместе с возом угодила в канаву. Вслед за этим мы налетели на какую-то женщину, которую тоже сбили с ног, и она заголосила в унисон с барахтавшимся в канаве под возом человеком, оглашавшим окрестность отборными ругательствами по моему адресу. При самом въезде в село, где, кстати сказать, был базар, мой экипаж врезался в толпу нарядной молодежи, шедшей на прогулку. Что тут было – никакими словами не опишешь! Наконец зарвавшийся пони попадает в тупик и застревает там. Несколько дюжих парней, с полицейским во главе, задерживают его. Здоровенный штраф пришлось мне заплатить за все это удовольствие, да, кроме того, сколько было возни с лошадкою, которая долго хворала после этого. И несмотря на такой, можно сказать, богатый опыт, я все-таки еще не отучился слушаться советов первых встречных, – тоном искреннего сокрушения о своей легковерности закончил мой собеседник.
Я выразил ему свое сочувствие, тем более что и сам немало страдал благодаря чужим советам. У меня есть приятель из среды торгового и финансового мира. Каждый раз, когда я встречаюсь с этим приятелем, он выражает свое желание о моем обогащении, хотя я никогда не просил его об этом.
– Вот вас-то мне и нужно, – говорит он. – Хотел просить вас по телефону к себе в контору. Мы устраиваем маленький синдикатик и желали бы, чтобы и вы приняли в нем участие.
Этот мой приятель вечно устраивает разные синдикатики, члены которого, по его уверениям, за каждую сотню фунтов стерлингов, вложенных в это предприятие, получат тысячу. Я высчитал, что если бы участвовал во всех синдикатиках моего приятеля со взносом только по сто фунтов, то в настоящее время был бы уже счастливым обладателем двух миллионов пятисот тысяч фунтов. Но во все эти синдикатики я не вступал, а ограничился участием в одном; вступил в него еще довольно молодым и остался в нем по этот день, но никакого осязательного результата пока не получил. Мой приятель твердо убежден, что не далее как «через какой-нибудь год» мое постоянство принесет мне огромную выгоду. Это непоколебимое убеждение высказывается им мне при каждой встрече, а я бы давно с удовольствием продал свой пай хоть за полцены, да никто не берет его. Каждый раз я с большим трудом отделываюсь от нежных забот моего приятеля-финансиста о моем будущем благосостоянии.
Есть у меня и еще один хороший знакомый, который помешан на разных «целебных» травах. В один прекрасный день он влетел ко мне бурей и с сияющим лицом сунул мне в руку небольшой пакет.
– Что это такое? – спросил я.
– Откройте и посмотрите, – ответил он тоном ярмарочной балаганной знахарки.
Вскрыл пакет, но все-таки ничего не понял, что и высказал.
– Это чай, – объяснил мой гость.
– Чай?.. – недоверчиво протянул я. – А не табачные ли листья? Гораздо больше похоже на них.
– Собственно говоря, это действительно не чай, а нечто вроде чая, – сознался гость. – Это такой превосходный набор целебных трав, что если вы выпьете его хоть одну только чашечку, то больше никогда не захотите никакого другого чая.
Он был прав: когда я выпил одну только чашечку этого превосходного набора «целебных» трав, то не только не хотел больше никакого другого чая, но и вообще ровно ничего не хотел, кроме скорой и, по возможности, безболезненной кончины.
Неделю спустя он снова обрадовал меня своим посещением.
– Помните тот чай, который я недавно принес вам? – спросил он.
– Как не помнить! – воскликнул я. – Вкус его и до сих пор у меня во рту, да и действие…
– Он вам не понравился?
– Да не могу сказать, чтобы понравился… Он чуть было не отправил меня к праотцам… Впрочем, теперь я начинаю понемногу поправляться, – поспешил я прибавить, видя, что мой приятель сделал испуганную физиономию.
– А ведь вы были правы, – медленно проговорил он, глядя в сторону, – это и в самом деле был табак особого рода, присланный мне одним знакомым из Индии.
– Так как же вы могли принять его за чай? – полюбопытствовал я.
– Да видите ли, вместе с этим табаком мне был прислан и набор трав. Этот набор заменяет туземцам чай и, как уверяет мой знакомый, не только гораздо полезнее настоящего чая, но и приятнее на вкус. Мой знакомый при завертке перепутал эти вещества, и я открыл это только сегодня.
Я слышал, как один старый и опытный законовед говорил молодому человеку, спрашивавшему у него совета по делу:
– По моему глубокому убежденно, вам лучше и не затевать этой тяжбы. Вы наверняка не только проиграете ее, но и все судебные издержки будут возложены на вас. Начинать такое пустячное, но крайне неприятное и невыгодное дело, – то же самое, как если бы, например, кто-нибудь остановил меня на улице и потребовал кошелек вместе с часами и цепочкой, пригрозив, в случае моего отказа, требовать эти вещи судом, – я немедленно отдал бы ему все это и благодарил бы судьбу за то, что так дешево отделался.
И что же? Через несколько месяцев я узнаю, что этот законовед, так хорошо знающий всю пагубность судебных тяжб по мелким делам, сам затеял процесс со своим ближайшим соседом по поводу смерти старого и без того уже еле живого попугая, будто бы приконченного котом этого соседа, и, по недоказанности, проиграл процесс с уплатой больших издержек. О таком исходе дела законовед должен был знать наперед, но тем не менее затеял его.
Вообще люди часто учат друг друга не делать чего-нибудь, а сами делают это. Такая пагубная привычка очень похожа на свойственную всем нам страсть ко взаимному недовольству и к разбору чужих недостатков без признания собственных.
Каждый из нас критикует и высмеивает другого и, в свою очередь, подвергается критике и насмешкам других. Мало того, мы осмеливаемся разбирать даже действия Самого Творца. В самих же себя никогда не всматриваемся. Не от этого ли у нас все и идет так вкривь и вкось?
XI
Об исполнении маршей на похоронах марионеток
День наш начался очень неудачно. Взял он меня с собою гулять, да и потерял в толпе. Было бы гораздо лучше, если бы мы переменялись ролями, то есть чтобы я брал его с собой, а не он меня. Без всякого самовосхваления могу вас уверить, что я лучше сумел бы вести его, чем он меня. Я гораздо серьезнее его, поэтому меньше возбуждаюсь и увлекаюсь. Я не имею привычки останавливаться с каждым встречным и поперечным, чтобы обменяться впечатлениями и забывать при этом, где нахожусь, как всегда делает он. Мое внимание редко отвлекается в сторону. Я очень мало склонен вступать в драку, не имею привычки во время прогулки гоняться за кошками и ради собственной забавы пугать большими прыжками и громким лаем маленьких детей. В это время я весь бываю поглощен одною мыслью о том, куда меня ведут и как бы скорее вернуться домой. Вообще нам обоим было бы гораздо спокойнее, если бы он согласился подчиниться моему руководству и слушался бы моих доброжелательных внушений. Но убедить его в этой истине мне ни разу не удавалось. По-видимому, он воображает, что более меня осведомлен относительно того, как держать себя на улице.
Когда он теряет меня из вида, то останавливается и начинает громко звать, но тут же, к сожалению, уходит в противоположную сторону, так что когда я возвращаюсь к тому месту, откуда доносился его зов, то уже не застаю его там, и его голос раздается в конце другой улицы. Я уже давно не так прыток на ходу, каким был во дни моей цветущей молодости, и нахожу, что он мало считается с этим грустным фактом. Хорош «хозяин», нечего сказать!
Так рассуждал обо мне мой дог, постоянно сопровождавший меня в моих утренних прогулках. Нужно заметить, что с некоторого времени он почему-то стал относиться ко мне не очень почтительно и начал называть меня, хотя и хозяином, но произносил это существительное уже не по-прежнему, а в кавычках; чаще же называл меня просто он и постоянно подчеркивал это личное местоимение и даже производное от него притягательное, в каком бы падеже ни употреблять их.
Предпослав это необходимое пояснение, познакомлю моих читателей с этим интересным экземпляром собачьей породы.
Итак, в одно утро мы отправились на обычную прогулку.
Мистер Смит (так звали моего дога) несколько раз пропадал во время этой прогулки и в Слаун-сквер окончательно исчез из вида. Обыкновенно, когда он убеждается, что потерял меня, то начинает лаять на особый лад; но когда я спешу туда, откуда доносится его лай, то оказывается, что дог успел уже махнуть в противоположную сторону. На этот раз я, выйдя на Кингс-роуд, увидел его шагах в двухстах от себя. Он стоял, озираясь во все стороны, и лаял во всю силу своих здоровых легких. Увидев бежавшую мимо другую собаку, Мистер Смит бросился к ней, остановил ее условным сигналом, перенюхался с ней и завел следующий диалог:
– Скажи, приятель, не нюхал ли ты моего хозяина, который пропал у меня?
Собаки никогда не говорят «видел», а всегда «нюхал», потому что главное руководящее ими чувство – обоняние.
– Почем я знаю, нюхал ли я его, когда мне неизвестно, как он пахнет? – резонно возражает ему новый приятель.
– Хорошим мылом и яйцами с ветчиной, – поясняет Мистер Смит.
– Ну, по одному этому запаху трудно узнать твоего хозяина – мало ли кто так пахнет…
Здесь собачий диалог прерывается: мой дог увидел меня и вихрем понесся ко мне прямо по мостовой, с удивительной ловкостью шныряя между всякого рода экипажами. Ткнув меня с разбега в живот грязными передними лапами, он принялся выделывать вокруг меня огромные прыжки, что, однако, не помешало ему прочесть мне основательную нотацию за постоянное покидание его, лишь только он на минутку завернет за угол. Я успокаиваю его обещанием не делать этого, и мы несколько времени степенно шагаем: я впереди, а он – за мной, причем он все время размахивает своим огромным хвостом и громко пыхтит, должно быть, с целью доказать, как он измучился, бегая в поисках меня.
Но вот он заметил одного почтенного ветерана, бегом догонявшего прошедший мимо омнибус. Находя это нарушением своей собачьей привилегии – бегать во всю прыть по улицам – Мистер Смит со всех лап пускается за ветераном, чтобы сделать ему за это внушительный выговор, с яростным лаем бросается ему под ноги. Старик во всю свою длину растягивается на мостовой и принимается выражать свою досаду потоком каких-то экзотических выражений; подбегает полисмен, раздаются свистки, собирается толпа. Я изо всех сил зову своего разбойника, который от восторга исполняет нечто вроде индейской пляски торжества; полисмен замахивается на него своим жезлом, но это только приводит Мистера Смита в еще более возбужденное настроение. Предвидя форменный скандал, я спешу уйти подальше от места происшествия, чтобы не попасть под ответственность за проделки своего предприимчивого спутника, который, как я хорошо знаю по неоднократному опыту, сам сумеет выпутаться из беды.
Возвращаюсь домой. Только что успел раздеться и войти в столовую, как обе половинки двери с шумом распахиваются, и Мистер Смит появляется в них с видом победителя, только что одержавшего блестящую победу над сильным врагом. Полный сознанием своего достоинства, он снова делает мне выговор по поводу нарушенного мною обещания не покидать его и участвовать во всех его подвигах. Но несколько примирительных слов с моей стороны – и он, грузно шлепнувшись на пол у моих ног, принимается мазать своим широким языком мои панталоны. Желая прекратить эту ненужную чистку моей одежды, я достаю из стоящей передо мною на столе корзины большой бисквит и бросаю ему. Он подхватывает бисквит на лету. Но тут начинается новая история.
Дело в том, что кроме чистокровного англичанина Мистера Смита у меня живет еще ирландец О'Шеннон, который очень редко сопровождал меня в прогулках, предпочитая сидеть дома и оберегать мое имущество от всевозможных покушений со стороны любителей чужой собственности.
Во время раннего завтрака в этот день я бросил бисквит О'Шеннону, но ирландец, рассчитывая, вероятно, получить цыплячью ножку, очень обиделся на такую скудную подачку! Обведя ее издали носом и презрительно фыркнув, он отвернулся в сторону и демонстративно свернулся в самый обиженный клубок. Так бисквит и остался нетронутым на полу и по окончании завтрака был убран прислугой, а О'Шеннон был утешен лакомой косточкой. И вдруг теперь, к моему великому изумлению, он как бешеный сорвался с места, налетел на ничего не подозревавшего Мистера Смита и выхватил у него из пасти бисквит.
Опомнившись от поразившего его изумления (раньше за мирным ирландцем ничего подобного не водилось), Мистер Смит в свою очередь набросился на похитителя; поднялась было настоящая грызня. Не догадайся я вылить на вступивших в распрю друзей целый графин воды, дело могло бы окончиться худо. Сконфуженные и пристыженные, хвостатые ратоборцы поспешно юркнули – один под стол, другой под стул, где долго ворочались, фыркали, облизывались и ворчали.
Наконец первым вылез из своего убежища Мистер Смит, схватил валявшийся на полу разломанный на две части бисквит и понес его через открытую дверь в мой кабинет, где в тишине и спокойствии или съел его или же спрятал про запас на одной из нижних книжных полок, как он иногда делает, что иногда приводит меня к самым неожиданным находкам среди моих книг.
О'Шеннон, насколько я мог видеть, порывался было пойти за Мистером Смитом и вторично попытаться отнять у него бисквит, но тут же раздумал, глубоко вздохнул, положил морду между лап и долго взволнованно перебирал языком.
Вдумываясь в странное поведение О'Шеннона, я пришел к заключению, что он вообразил, будто я отдал Мистеру Смиту тот самый бисквит, которым сам же он, О'Шеннон, пренебрег несколько часов тому назад. Очевидно, он находил, что раз ему что-нибудь дано, то он вполне может воспользоваться этим предметом по собственному усмотрению. Овладение же его собственностью кем-либо другим он счел за нарушение прав этой собственности, почему и выступил в их защиту.
Вечером того же дня моя маленькая племянница Дора позвала к себе в гости свою подругу Еву. Взрывы громкого детского смеха заставили меня заглянуть в комнату, где находились дети, и я увидел следующую сцену. Мистер Смит таскал в зубах по всей комнате безголовую и безрукую куклу, из которой сыпались опилки. Голова и руки несчастной жертвы разыгравшегося дога валялись в разных углах. Девочки были в восторге от этого действительно забавного зрелища. В особенности восхищалась Дора. Вся красная, с сияющими глазенками, она хлопала в ладоши и судорожно извивалась от неудержимого хохота.
– Чья это кукла? – спросил я, несколько времени молча полюбовавшись на эту сцену.
– Евина, – с трудом отвечала сквозь смех Дора.
– Неправда, это твоя! – возразила Ева и в доказательство вытащила из-под себя свою куклу, которая была целехонька.
Переход от сильной радости к не менее сильному горю выразился у маленькой Доры очень драматически. Девочка бросилась на пол, начала колотиться о него головой, руками и ногами, испуская при этом такие душераздирающие крики, что перепугала не только меня и всех наших домашних, но и самого Мистера Смита, который со всех лап, с низко опущенным хвостом, ретировался в мой кабинет, где забился в самый темный угол и долго пролежал там не шевелясь, лишь изредка глубоко вздыхая и все время перебирая языком, как всегда делают собаки, когда они очень взволнованы горестными или радостными чувствами.
Горе Доры продолжалось дольше, чем я ожидал. Я обещал ей другую куклу. Но казалось, что она не желает ее: погибшая от зубов Мистера Смита кукла была единственная, которую Дора могла любить; никакая другая кукла не может заменить ей ее любимицу, которую она и будет оплакивать до конца своих дней.
Какие странные все дети, в особенности девочки! Как будто не все равно – та ли или другая кукла, лишь бы она была у них. Ведь все куклы обладают одинаковыми розовыми и белыми личиками, одинаковыми светлыми вьющимися волосиками и одинаковыми голубыми глазками. Но нет, они любят непременно только одну куклу, старую, растерзанную, грязную, а на других, новых, нарядных, чистеньких и смотреть не хотят.
Истерзанная Смитом любимая кукла Доры была предана торжественному погребению под тем самым деревом, на котором грачи устроили свой клуб. Один из молодых друзей девочек наигрывал при этой церемонии на скрипке траурный марш. День был прекрасный. Солнце сияло во всю свою мочь, птички задавали оглушительный концерт, легкий теплый ветерок шелестел в вершинах деревьев, а Дора изливалась в слезах…
Ах, маленькая, глупенькая Дора! Охота тебе портить свои ясные глазки потоками слез из-за куклы, которая для того и была создана, чтобы, покрасовавшись несколько времени, так или иначе погибнуть. Ведь такой уже неумолимый рок для всего существующего, и никакая сила чувства не в состоянии изменить его.
Весь мир наполнен куклами-марионетками, и все они играют свою роль по чужой воле; когда они, отыграв эту роль, стареют, их убирают со сцены, над некоторыми из них, исполнявшими наиболее видные, эффектные роли, наигрываются грустные похоронные марши; большинство же убирается молча.







