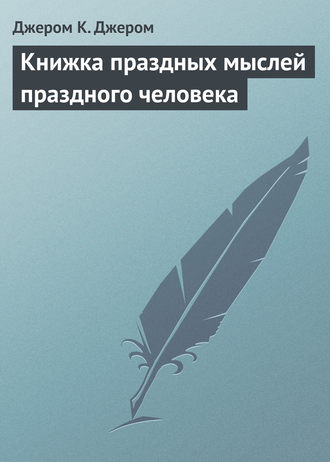
Джером К. Джером
Книжка праздных мыслей праздного человека
Теперь я дошел до седьмой главы, уже подробной, и мог бы приняться за нее, но вместо этого перевертываю страницу и пробегаю передовую. «Почему же так?» – спросит, быть может, недоумевающий читатель. Да просто потому, что я уж вошел во вкус коротеньких редакторских отчетов о содержании предыдущих глав. С какой же стати тратить мне время на прочтение целых трех с половиной столбцов, когда я знаю, что завтра утром редактор передаст их суть всего в каких-нибудь двадцати строках? Он пояснит, какие были отношения между блестящей светской американкой и подозрительным незнакомцем; ведь именно это и интересно для читателя, остальное же – только лишний балласт, напрасно отнимающей дорогое время.
Но здесь у меня, как у человека, тоже причастного к греху писательства, возникает опасение, как бы публика во всей своей массе не проникалась теми же взглядами на удобство сжатых редакторских отчетов и не потребовала, чтобы все литературные произведение были подносимы ей в таком же экстрактном виде. В самом деле, вместо того чтобы обремененному делами человеку тратить несколько вечеров на прочтение какой-нибудь книги, не лучше ли попросить издателя изложить ее содержание в двух-трех сотнях строк? Да и сам издатель сообразит, что ему нет никакого расчета бросать деньги на то, чтобы один написал шестьдесят тысяч слов, а другой, прочитав это, передал все в шестистах. И дело, пожалуй, дойдет до того, что мы будем вынуждены писать повести в размере двадцатистрочных глав.
Представляю себе рассказ будущего, сведенный к следующей краткой формуле: «Маленький мальчик. Пара коньков. Сломанный конь. Небесные врата», – словом, нечто вроде простого наименования глав рассказа.
В прежнее время автор, взявшийся написать детскую трагедию для рождественского номера журнала, непременно употребил бы на нее пять тысяч слов. Лично я начал бы эту трагедию издалека, чтобы дать читателю возможность вполне познакомиться с моим маленьким героем. Это был бы мальчик хороший, искусный во всех детских играх. Жил бы он у меня в очень крохотном, но очень живописном коттедже. Этот коттедж был бы описан мною по крайней мере на двух страницах. Мальчика я нарисовал бы во весь рост и сделал бы его таким прозрачным, чтобы ясно можно было видеть все его детские мысли и чувства, все его детские желания и стремления. Описал бы также в подробностях его мягкосердечного, но сурового на вид отца, угнетенного непосильным трудом и безысходными заботами о завтрашнем дне, и нежную, любвеобильную мать. Описал бы таинственное лесное озеро, на берегу которого мечтательно настроенный мальчик любил сидеть в вечерних сумерках, прислушиваясь к голосам невидимых существ, куда-то звавших его и обещавших ему неземное счастье.
Таким путем читатель понемногу привыкает к герою, научается любить его и исподволь подготавливается к неизбежной катастрофе.
А что же станется с нами, писателями, когда нас обяжут сконцентрировать такие рассказы в десяти словах? Ведь в настоящее время нам платят за размеры наших произведений, начиная с полукроны за тысячу строк и доходя до нескольких фунтов стерлингов, как, например, получают мои коллеги, Конан Дойл и Киплинг. Чем же мы будем жить, когда весь наш заработок сведется к нескольким шиллингам за «штуку»?
Мне могут возразить, что читателям нет никакого дела до того, будем ли мы в состоянии существовать при таких условиях или нет. Но таким возражением мы, разумеется, удовлетвориться не можем, потому что чувствуем за собой такое же право на существование, как и все другие люди.
Вероятно, наши будущие повести станут печататься на листках, которые будут продаваться по одному пенни за дюжину. Некоторые могут еще зарабатывать и при такой цене десять-двенадцать шиллингов в неделю, а мы, остальные?..
Есть от чего прийти в уныние нам, писателям!
VIII
Как следует обращаться с новобранцами
Вздумалось мне как-то прожить зиму в Брюсселе, в надежде, что мирно и приятно проведу время и освежу свой ум в этом большом и веселом городе. Так, вероятно, и было бы, если бы не бельгийская армия, которая преследовала меня на каждом шагу и положительно не давала мне покоя.
По моим личным опытам, я должен признать, что бельгийская армия – образцовая. Очевидно, она в полной мере руководствуется принципами Наполеона, говорившего, что никогда не следует отставать от своего врага, никогда ни на минуту давать ему повода думать, что он избавился от вас. Не знаю, как стала бы поступать бельгийская армия с другим врагом, но что касается лично меня, то план ее кампании против вашего покорнейшего слуги был составлен и выполнен с таким искусством, что я мог только изумляться.
Я положительно не имел возможности ускользнуть от преследования бельгийской армии. Я выбирал самые отдаленные и тихие улицы, где, как мне казалось, бельгийской армии совсем и делать было нечего; ходил по ним в разное время – рано утром, после обеда, поздно вечером, – но повсюду и во всякий час встречал бельгийскую армию. Бывали моменты бурной радости, когда я воображал, что армия потеряла мой след. Не видя и не слыша ее поблизости, я со вздохом облегчения говорил себе: «Ну, слава богу! Наконец-то я освободился хоть на несколько минут от этого кошмара!»
Но – увы! – не успевал я дойти до следующего угла, как уже убеждался, что доблестная бельгийская армия не давалась в обман, преследуя меня и здесь.
Заслышав барабанную трескотню, я в ужасе поворачивал назад, вскакивал в первый попавшийся вагон трамвая и несся на другой конец города. Думая, что теперь, уж наверное, избавился от своего упорного преследователя, я выходил из вагона и с наслаждением проминал отекшие от долгого сидения ноги.
Миновал благополучно одну улицу, вступаю в другую – и опять слышу вблизи невыносимую барабанную музыку. Нанимаю кэб и еду домой – армия провожает меня до самого подъезда. Полный досады и отчаяния, чувствуя себя побежденным и униженным, я вихрем мчусь в свою комнату и с лихорадочной торопливостью запираю дверь. В это время победоносная бельгийская армия, гордая тем, что смирила кичливую гордость заносчивого англичанина, с торжеством направляется на отдых в свои бараки.
Пожалуй, я бы и примирился с преследованием бельгийской армией моей особы, если бы эта армия производила свои преследования под звуки оркестра. Я люблю военные оркестры и готов подолгу их слушать. Но у бельгийской армии, очевидно, нет обычая передвигаться по улицам под звуки оркестра. Она ходит под одни барабаны, да и то плохонькие, вроде игрушечных, какими я сам пользовался в детстве, причем, кстати сказать, так надоедал взрослым, что они отбирали у меня барабан, угрожая, что сломают его над моей головой, если я, как это случалось, раздобуду новый и не буду давать им покоя своей трескотней.
Да и барабанщики-то у бельгийской армии нисколько не лучше, чем был я в качестве такого музыканта. Я уверен, что, находись в рядах идущей за ними армией их родственники, барабанщики никогда не решились бы так небрежно колотить палками по барабану. Они не соблюдают даже такта, а выбивают дробь как попало.
В первое время, когда еще издали слышалась эта безобразная трескотня, я так и думал, что это забавляются ребята. По простоте душевной я представлял себе, что восьмилетнему мальчугану поручили забавлять четырехлетнюю сестренку. Вот он и водит эту сестренку по улицам, забавляя и ее и себя барабанным боем. Но каково же было мое изумление, когда я убеждался, что этот шум производится не ребятами, а храброй бельгийской армией!
Вдумавшись в это странное явление, я пришел к заключению, что путем такого барабанного воздействия армия, вероятно, приучается ко всем ужасам войны. Это внушило мне такой страх перед бельгийской армией, что я сделался, как говорится, ниже травы и тише воды, дабы не раздражать таких доблестных воинов, и даже поспешил покинуть прекрасную бельгийскую столицу, не пробыв в ней и недели.
Кстати, о военных упражнениях. Живя одно время близ гайд-парковских казарм, в Лондоне, я имел много случаев наблюдать, как производятся эти упражнения, вернее сказать, обучение новобранцев сержантом. Картина интересная.
Сержант обыкновенно представляет собой человека очень рослого, привыкшего выступать с величавостью очень занятого собой индейского петуха и обладающего таким своеобразным голосом, что нужно иметь особенно тонкий слух, чтобы отличить его выкрикивания от лая собаки. Говорят, новобранцы довольно быстро привыкают понимать своего учителя, что свидетельствует о их высоких умственных способностях, в которых совершенно напрасно принято сомневаться. Впрочем, по личному опыту я этого утверждать не могу, а только повторяю слышанное от более компетентных людей.
У меня в то время была великолепная охотничья собака, из тех, которые отыскивают и приносят убитую дичь, и мы с нею иногда развлекались зрелищем солдатского учения на плацу перед казармами. По собачьему обыкновению, и мой Колумб выражал свои восторги отрывистыми «гав-гав-гав!», и это делу нисколько не мешало. Но в одно ветреное утро вышло небольшое недоразумение. Сержант только что скомандовал, чтобы его рота шла на приступ, и она было пошла, но вдруг, к его полному недоумению, повернула к нему тыл и бросилась по направлению к водяному рву, ограждавшему плац с двух сторон. Хорошо еще, что он успел вовремя крикнуть «стой!», иначе рота в своем служебном усердии непременно ринулась бы в воду. Услышав новую команду, рота замерла на месте.
– Какой дьявол приказал вам повертывать назад? – гремел сержант, весь красный от негодования. – Марш на прежнее место!
Рота, видимо, была сбита с толку, но молча исполнила и эту команду. Минуту спустя, случилось то же самое: рота ни с того ни с сего снова бросилась ко рву. С сержантом стало твориться что-то такое, что возбуждало во мне опасение, как бы его не хватил удар. Я уж готов был бежать за медицинской помощью, но, видя, что доблестный воин оправился, остался на месте. В то же время я начал понимать, что виной всего этого – мой Колумб с его отрывистым лаем, который благодаря направлению ветра показался новобранцам исходящим от их командира. Когда дело наконец выяснилось, возмущенный сержант обратился ко мне и строго сказал:
– Пожалуйста, сэр, уведите свою собаку. Я не могу учить своих людей: ваша собака все время отвлекает их в сторону.
Я увел Колумба, но после еще несколько раз брал его с собой на смотр (впрочем, он сам всегда увязывался со мною), и ни разу не обходилось без того, чтобы он не передразнил сержанта и не ввел в заблуждение и под выговор солдат. Кажется, он проделывал эту забаву вполне сознательно, и она, очевидно, очень нравилась ему. Иногда, увидев идущую впереди нас парочку, солдата с кумой, Колумб вдруг из-за моего прикрытая возьмет и гавкнет на них и потом прыгает от радости, когда испуганный солдат бросает руку своей спутницы, повертывается на каблуках, вытягивается, опускает руки по швам и с выкатившимися от почтительности глазами смотрит, где его сержант и чего от него требует.
В конце концов военное ведомство обвинило меня в том, что я нарочно научил свою собаку передразнивать голос и манеру команды такого-то сержанта. Но это была неправда: я собаку не учил и нисколько не был виноват в том, что у нее оказался одинаковый голос с уважаемым сержантом. Я так и ответил военному ведомству, причем советовал внушить сержантам, чтобы они лучше старались как следует говорить на своем языке, чем заявлять претензии на то, что собаки так хорошо говорить на своем. Но ведомство не пожелало проникнуться этой истиной, и я решил, что лучше нам с Колумбом переселиться в другое место, где нет людей с голосами, похожими на его лай. Так мы и сделали.
Лет двадцать тому назад, когда Лондон переживал смутный период, законопослушные граждане приглашались записываться в специальные констебли. Я тогда был еще молод, и жажда беспокойной деятельности одолевала меня больше, чем теперь, поэтому в одно воскресное утро очутился в компании нескольких сот других благонадежных граждан на учебном плацу олбенских казарм.
По-видимому, власти придерживались того мнения, что мы будем в состоянии защищать свои жилища и своих близких только в том случае, если выучимся по команде выкатывать глаза в ту или иную сторону и ходить на особый манер. Ввиду этого к нам был назначен сержант, который должен был дать нам надлежащую муштровку. Он вышел к нам из лагерного шинка, обтирая губы и гримасничая на ходу. Но по мере его приближения к нашему фронту он все больше и больше подтягивался. Большинство из нас были люди из порядочного общества и с хорошим достатком, а потому прилично одетые. Сержант обвел нас пытливым взглядом и понял, что с нами надо быть поосторожнее в выражениях и тоне. Но одновременно с этим сознанием от него почти ничего не осталось как от сержанта: он утратил напыщенный вид, лицо его приняло естественное человеческое выражение, и вообще он сделался похожим на нас. Подойдя к нам вплотную, он вежливо проговорил:
– С добрым утром, джентльмены!
– С добрым утром, господин сержант! – ответили мы хором.
Наступила пауза. Сержант в нерешительности переступал с ноги на ногу. Мы ждали. Наконец он с подкупающей улыбкой сказал:
– Не желаете ли вы, джентльмены, построиться в правильные ряды?
Мы ничего не имели против такого предложения и построились по указанию сержанта рядами. Он окинул нас профессиональным оком и изрек:
– Прошу номер третий с правого фланга первого ряда податься немного вперед.
Указанный номер послушно подался вперед, насколько было нужно.
– Номер второй с левой стороны второго ряда, прошу вас податься немного назад.
– Не могу, господин сержант. Будьте довольны тем, что я хоть так стою, – отозвался тот номер.
Сержант подошел к нему и улыбнулся еще приветливее.
– А! – воскликнул он. – Маленький излишек комплекции… Ну это ничего. Я попрошу весь ряд раздвинуться еще немного, тогда выступающие из него лишние округления отдельных лиц будут не так заметны.
В таком духе и шло все наше учение.
– Теперь, джентльмены, не устроить ли нам маленькую прогулочку быстрым шагом?.. Вот так, благодарю вас!.. Очень жаль беспокоить вас, джентльмены, но ведь может понадобиться и бежать… конечно, вперед, а не назад, и вам не лишним будет усвоить наиболее рациональные приемы и правила, чтобы соблюдать известный порядок… если вам это не очень затруднительно, я попросил бы вас прибавить немного шагу… Так… Достаточно… Отлично! Только бы поменьше нарушать правильность линии. Это, знаете ли, джентльмены, придает движению большую стройность и производит особенно внушительное впечатление… А насчет правильного дыхания скажу, что это дело практики. Несколько таких пробегов, и вы сами по себе научитесь правильно дышать…
Отчего бы и при учении новобранцев не обходиться такими же вежливыми, а еще лучше ласковыми приемами? Думаю, что от этого дело не пострадало бы. Представим себе, что сержант обращался бы к новобранцам со словами вроде, например, следующих:
– Ну, вы, молодые барашки! Готовы, что ли? Тише, тише, не очень суетитесь, успеете! Не к чему превращать в пытку то, что должно составлять для нас удовольствие… Выстроились? Ну вот и отлично! Принимая во внимание, что вы еще новички, нельзя лучшего и спрашивать с вас… Только рядовой Белбой что-то уж слишком тычется коленями. Белбой, у вас от природы так выпирают вперед колени или вы при некотором усилии могли бы подтянуть их, чтобы не иметь вида марионетки, у которой ослабли пружины?.. Ну вот, теперь лучше, благодарю вас за старание… Я знаю, что все эти мелочи кажутся не стоящими внимания, но на самом деле они имеют большое значение в том деле, к которому вы готовитесь, поэтому… Рядовой Монморанси, разве вы недовольны своими сапогами, что так упорно их разглядываете?.. Нет? Так, прошу прощения. Я вывел такое заключение из того, что вы уж несколько минут стоите, нагнув голову и упершись взглядом в свои ноги, как будто они не в порядки… Может быть, вы страдаете несварением желудка, товарищ? Не дать ли вам стаканчик виски?.. Нет? И желудок у вас в исправности?.. Очень рад, слава богу! Но что же тогда с вами? Скажите откровенно. Зачем скрываться? Стыдиться нечего. Мало ли что может приключиться с человеком! Скажите же, в чем дело? Чего вам недостает или что у вас лишнее?
Ободрив таким образом свою роту и приведя ее в должный порядок, сержант с чистой совестью может приступить к самому учению.
– Ружье на плечо!.. Хорошо, молодцы, очень хорошо для начала!.. Но, конечно, позволю себе сказать, далеко до совершенства. Этот прием требует особенной тщательности… Вот, например, рядовой Томпсон. Позволю себе поставить вам, Томпсон, на вид, что если вы будете держать ружье на плече под прямым углом, то этим сильно обеспокоите находящегося за вами товарища, да и самому вам это доставит известные неудобства. Поэтому я бы просил вас лучше держать ружье принятым повсюду в войсках способом. Ведь это в ваших же интересах, Томпсон… Позволю себе также заметить рядовому Сент-Леонарду, что мы собрались здесь вовсе не для того, чтобы упражняться в балансировании мушкетом на вытянутой ладони руки. Не смею отрицать, что рядовой Сент-Леонард производит это упражнение с большой ловкостью, но тем не менее в военном деле это не годится… Вообще я просил бы господ новобранцев запомнить, что правила, которыми руководствуются в нашем деле, выработаны очень тщательно и предусмотрительно, так что не требуют от нас личных трудов для их переделки и поправок. Согласен, что это может показаться скучным по своей однообразности, но зато оно целесообразнее…
Если бы господа сержанты и вообще командующие какой-либо военной частью говорили со своими подчиненными в этом роде, то плацы для учения солдат стали бы источниками радости и довольства многих тысяч людей. Слово «офицер» было бы тогда разнозначащим слову «джентльмен». Представляю это мое воззрение на рассмотрение и одобрение военного ведомства; может быть, оно одобрит его и найдет возможным применить на практике.
IX
Должны ли рассказы быть правдивы?
Жила-была когда-то очаровательная молодая девушка, обладавшая тонким вкусом. Эту девушку однажды спросили ее родители, кто из множества ухаживавших за ней молодых людей больше всех ей нравится. К такому щекотливому вопросу родителей вынудило то, что годы шли, а вместе с ними увеличивались и лета девушки; это угрожало ей остаться старой девой, чего ее родители не хотели допустить.
Девушка откровенно ответила, что сама не знает, который из женихов нравится ей больше всех, она всех их находила одинаково милыми и никак не могла решиться дать одному из них предпочтение перед другими. Она охотно прибегла бы к жребию, но чувствовала, что такой способ выбора жениха может показаться предосудительным.
Я нахожусь в одинаковом положении с этой девушкой каждый раз, когда мне приходится сказать, какого автора и какое из его произведений я предпочитаю всем другим. Подобного рода вопросы могут поставить в тупик кого угодно. Это все равно что спросить вас, какое блюдо вы предпочитаете всем остальным. Иной раз к завтраку желаешь пару яиц, а в другой – почувствуешь аппетит к кусочку семги. Сегодня потянет на омара, завтра же одна мысль об омаре может вызвать тошноту. Бывает, что вдруг вздумается сесть на диету из молока, хлеба и рисового пудинга. Вообще, если бы меня вздумали спросить, почему я подчас предпочитаю супу мороженое, а икре – бифштекс, я бы сильно затруднился с ответом.
Могут существовать и читатели, любящие садиться на известную литературную диету, но я к их числу не принадлежу. У меня в литературном отношении очень обширный и прихотливый аппетит, для удовлетворения которого нужен самый разнообразный подбор авторов.
Иногда я бываю в таком настроении, что гармонировать с моим душевным состоянием может разве только дикая суровость произведений Эмилии Джейн Бронте. Таинственный сумрак ее «Везерингских высот» действует на меня подобно пасмурному бурному осеннему дню, наводящему нас на размышление о борьбе света с мраком. Быть может, часть очарования этой книги следует приписать тому, что книга написана очень молодой девушкой. Спрашиваешь себя: что могла бы дать эта девушка, если бы она прожила дольше и жизненный опыт расширил бы ее духовный горизонт? Или, быть может, судьба именно с целью сохранения славы молодой писательницы так рано и выхватила перо из ее руки? Ее сжатая сила не подходила ли больше к запутанным йоркширским тропинкам, чем к открытым и обработанным полям других местностей?
Между Эмилией Бронте и Оливией Шрейнер мало общего, но имя первой всегда приводит мне на память и имя второй. Оливия Шрейнер также была молодой девушкой с сильным мужским талантом. Хотя она и осталась в живых, но я сомневаюсь, напишет ли она еще такую книгу, как написала первую. Ее «История одной африканской фермы» не из тех, которые повторяются.
Я отлично помню, с каким негодованием была принята эта «История» со стороны миссис Грэнди и ее тогда еще многочисленной, а теперь, к счастью, сильно уменьшившейся школы. Миссис Грэнди кричала, что эту книгу следует держать как можно дальше от рук молодых женщин и мужчин. Однако именно эти руки жадно и разбирали книгу и крепко держали ее. Странный взгляд у тех литераторов, которые воображают, что литература должна быть только отголоском общественных условностей!
Бывают времена, когда я люблю скакать по страницам мировой истории на палочке сэра Вальтера Скотта, но бывают и такие, когда мне приятно побеседовать с мудрой Джордж Эллиот, когда она, сидя со мной на своей садовой террасе, с которой такой чудный вид на расстилающийся внизу Ломшир, своим глубоким грудным голосом открывает мне тайны сердец, скрытых под бархатом и кружевами.
Кто может не любить умнейшего и милейшего Теккерея, несмотря на портящий его легкий оттенок фатовства? Сколько было патетического в его ужасе против фатовства, жертвой которого он сделался сам. Не было ли это невольным протестом против собственного, не осознанного им недостатка? Все его героини и герои брались из благородной среды, чтобы они могли составить подходящую компанию таким же благородным читательницам и читателям, для которых он писал. Для него ливрея часто отождествлялась с человеком, носившим ее. Для него даже Джемс де ла Плюш был человек лучшего образца, потому что носил шелковые чулки дальше которых взгляд автора не проникал.
Теккерей жил и умер в области клубов. Мысль его была сжата между Темпл-Бар и Парк-Лейн. Зато все, что было хорошего на этом тесном пространстве, он показал нам, и за одно уж это достоин глубокого уважения. Нарисованные им портреты великодушных джентльменов и деликатных леди никогда не забудутся нами.
«Том Джонс», «Перегрин Пикль» и «Тристрам Шенди» – книги, которые следует читать каждому, если только он умеет читать со вниманием. Эти книги учат нас, что если литература хочет быть полезной жизненной силой, то она должна освещать нам все стороны жизни и показывать, что мы напрасно мним о себе, будто мы – совершенства, ведущие безупречный образ жизни, а встречающиеся между нами злодеи выдуманы авторами.
Только с этой точки зрения и следовало бы рассматривать литературу тем, которые ее создают, и тем, которые ею пользуются. Конечно, если видеть в литературе лишь средство для забавы, то ей лучше быть как можно дальше от настоящей жизни. Взгляд на себя в верно отражающее зеркало невольно наводит нас на размышления, а раз мы начали размышлять о себе, то наше самодовольство должно улетучиться.
Для чего должна служить литература: для того, чтобы заставлять нас вдумываться в задачу нашего существования, или для того, чтобы сводить нас с пыльной большой дороги жизни на зеленые лужайки волшебной мечты? Если для последнего, то пусть литературные герои и героини остаются такими, какие они суть, но уж без претензии быть настоящими людьми. Пусть Анджелина останется навсегда непорочной, а Эдвин – непоколебимо ей верным; пусть в последней главе торжествует добродетель, и мы закроем книгу в полной уверенности, что брак Анджелины и Эдвина решает все неразрешимые загадки великого Сфинкса…
Очень милы те рассказы, в которых принц неизменно рисуется прекрасным, как ангел, и храбрым, как лев, принцесса всегда является очаровательнейшей и добрейшей из всех принцесс в мире, дурные люди намалеваны такими черными красками, что узнаются с первого взгляда без малейшей ошибки, добрые волшебницы по самой своей природе могущественнее злых, темные тропинки ведут к феерическим замкам, дракон постоянно побеждается, а любящие сердца, соединившиеся после преодоления всех препятствий, могут рассчитывать на вечное безоблачное счастье. Одно только нехорошо: такие рассказы не дают нам верных понятий о суровой действительности, а ведь только с ней и приходится иметь дело в реальной жизни.
Положим, временами не мешает и отдохнуть душой в волшебном мире грез, чтобы затем с новыми силами продолжать тяжелый путь среди житейских невзгод, но погружение в этот мир всецело не может довести нас до добра.
Чтобы приносить нам пользу, литература должна изображать нас не такими, какими мы желаем казаться, а такими, какими мы являемся в действительности. Ведь человек, по определению некоторых глубокомысленных мыслителей, не что иное, как животное, стремящееся в небо, но своими темными инстинктами прикованное к земле. Должна ли литература льстить этому двойственному существу, стыдящемуся своей отрицательной стороны, или быть его правдивым зеркалом?
Неудобно говорить о живущих при нас писателях, за исключением разве тех, которые так давно присутствуют между нами, что мы невольно забываем, что они еще не принадлежат прошлому. И вот я спрашиваю: была ли справедлива к несомненному гению Уиды наша узкоглядная критика, которая видит повсюду одни мелкие ошибки, не замечая величия совершенств? Действительно, у Уиды много промахов. Она заставляет своих часовых играть на посту, ее лошади обязательно выигрывают на трехгодичных дерби, ее дурные женщины швыряют грушами по гинее за штуку из окон гостиницы «Звезда ордена Подвязки» прямо в Темзу, находящуюся на расстоянии трехсот пятидесяти шагов, она… Но к чему перечислять все эти мелкие недостатки? Мало ли книг без всяких несообразностей, а стоит ли их читать? В книгах же Уиды столько правды, силы, страстности убеждений и негодования, что будь у нее хоть в каждой строке какая-нибудь ошибка, это все-таки не должно умалять ее истинных достоинств, которыми редкий из писателей может похвалиться. Но, повторяю, наша критика слишком близорука, чтобы охватить целое во всей его стройной гармонии, она приникнет глазом к какой-нибудь крохотной шероховатости или трещинке на великолепном произведении искусства и по этим случайным недостаткам произносит свой якобы беспристрастный суд.
А верно ли были оценены критиками литературные качества Марка Твена отдельно от его юмора? «Гек Финн» был бы признан великим произведением, если бы не был проникнут смехом. Среди индейских и других диких племен человек, лишившийся здравого смысла, почитается за существо высшего порядка. Среди же англосаксонских читателей особым успехом пользуется только тот писатель, который лишен юмористической жилки, об этом свидетельствует пример нескольких современных писателей.
Все перечисленные мною авторы – мои любимцы. Но такие разнообразные вкусы нынче не в моде. Говорят, что тот, кто любит Шекспира, не может любить Ибсена, что тот, кто одобряет Вагнера, не должен одобрять и Бетховена, что, признавая достоинства Доре, нельзя верно понимать Уистлера. Да мало ли что еще говорят!..
Нет, я не могу сказать, какое беллетристическое произведение нравится мне больше других. Посмотреть разве, за какую книгу я охотнее хватаюсь в те полчаса перед обедом, когда, не в обиду будь сказано мистеру Смайлсу, никакая работа уже не идет на ум!
Окинув взглядом свои книжные полки, нахожу, что всего растрепаннее выглядит «Давид Копперфильд». Беру эту книгу, перевертываю ее ушатые страницы, читаю знакомые оглавления и словно переживаю свою собственную жизнь, потому что почти с каждой страницей у меня связано столько грустных или радостных воспоминаний. Как ярко запечатлелся в моей памяти тот день, когда я впервые прочитал о сватовстве Давида! Смерть Доры я всегда старался обойти в своих воспоминаниях. Картина, рисующая бедную миссис Копперфильд стоящей в воротах с ребенком на руках, навсегда связана в моем уме с криком другого ребенка, много лет тому назад звучавшим в моих ушах. Несколько недель спустя после того события, которое сопровождалось этим криком, я нашел «Давида Копперфильда» на стуле в углу, куда тогда впопыхах бросил его; книга лежали, развернутой на странице с описанием Доры в воротах.
Дорогие мои друзья, сколько раз я ускользал в вашу приятную компанию от своих тяжелых невзгод! Пегготи, добрая душа, как были всегда благотворны для меня ваши добрые глаза! Наш общий друг Чарлз Диккенс не мог вынести ни малейшего пятнышка на тех, кого он любил, но вас он обрисовал в верных красках. Я знаю вас хорошо с вашим многообъемлющим сердцем, вашим живым темпераментом, вашими чистыми, человечными помыслами. Вы сами никогда не догадывались, чего вы стоили и насколько стал лучше мир благодаря таким, как вы. Вы всегда думали о себе как о самой обыденной женщине, годной только на то, чтобы делать пирожное и штопать чулки, и если бы человек – не какой-нибудь молокосос, у которого глаза раскрыты еще только вполовину, а человеку уже настолько прозревший, чтобы разглядеть духовную красоту, скрытую в некоторых простых лицах, – опустился перед вами на колени и поцеловал вашу красную, грубую руку, вы были бы поражены насмерть. Но этот человек был бы умником, потому что он понимал, чем именно должна дорожить в жизни и за что именно следует благодарить Бога, создавшего такую красоту во многих формах.
Мистер Уилкинс Микобер и вы, превосходнейшая из верных жен, миссис Эмма Микобер, обнажаю голову и перед вами! Сколько раз спасала меня ваша глубокая рассудительность, когда и я, подобно вам, страдая под гнетом временных денежных затруднений; когда, так сказать, солнце моего благосостояния опускалось за темный горизонт мира; когда и меня затискивало в тесный угол. В таких случаях я каждый раз спрашивал себя, что стали бы делать на моем месте Микоберы, и тут же сам себе находил ответ, что они закусили бы куском баранины, наскоро приготовленной проворными руками Эммы, запили бы эту простую закуску стаканчиком пунша, состряпанного сияющим Уилкинсом, и в данную минуту забыли бы все свои тревоги. Потом я обшариваю свои карманы, нахожу в них завалившуюся мелочь, иду в ближайший дешевенький ресторан, заказывав себе что-нибудь, соответствующее моему изменившемуся положению, подкрепляю свои силы и с новыми надеждами продолжаю борьбу с жизнью. А завтра солнце моего благосостояния опять начинает выглядывать из-за мрачного горизонта и подмигивает мне своим огненным глазом, точно желая сказать: «Ну чего ты приуныл? Ведь я только на минутку завернуло за угол».







