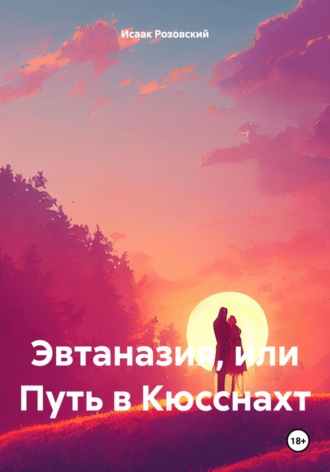
Исаак Розовский
Эвтаназия, или Путь в Кюсснахт
– Ты с ума сошел! Я? Тебя? Голову отрубить?
– Не голову, конечно. Всего лишь оказать маленькую помощь. А дальше я уж как-нибудь сам.
– Но что я должна сделать?
– Найти способ, чтобы я ушел из жизни. Яд какой сильнодействующий. Я не знаю, что! Я понимаю, что это невозможная и эгоистичная просьба. Но если ты пообещаешь, у меня гора свалится с плеч. Все, понятно, может обойтись и без этого. Кто знает? Но все же… Я бы и сам… Но боюсь, что не смогу. Да и понять, что со мной, не смогу, а только гукать и доставать крошки из молока.
– Бред какой-то! Никогда… – словно в беспамятстве твердила Анна и вдруг почувствовала, что все у нее перед глазами расплывается в радужном тумане. Это слезы брызнули из глаз, а она и не заметила.
– Я так и думал, – огорченно сказал Рува.
Она так и не поняла, к чему относятся его последние слова – к ее отказу или к слезам… Больше они в ту ночь не сказали друг другу ни слова. Улеглись спать. Анна до утра так и не заснула. Он, кажется, тоже…
Но через два дня, когда за ужином Рува рассказывал ей о задуманной им статье, внезапная мысль пришла Анне в голову, и она спросила:
– А ты? Если бы я тебя попросила стать моим… как это… кайсяку, ты бы согласился?
Он словно ждал этого вопроса и, почти не раздумывая, ответил:
– Да, согласился бы.
Она молчала, ошарашенная.
– Ладно, вот уже вся побелела. Давай сменим пластинку. Мы пока еще фрукты. Может, уже с гнильцой. Но ведь не овощи…
***
Время шло. Годы мелькали все быстрее. Рува давно закончил повесть о Ковнере, но публиковать ее отказывался.
– Почему? – приставала Анна.
– Нет, не то – не получилось у меня, что я хотел.
– Так переделай, – уговаривала она. – Отшлифуй.
– Я пробовал, не могу.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
И еще нескольких лет как не бывало. Время, похоже, их щадило. Случилось, правда, одно событие, которое Рува тяжело переживал – он ушел из журнала. Как это обычно бывает, там начались какие-то мелкие дрязги. Он поссорился с издателем и своим хорошим другом. Разумеется, никто бы его, несмотря на ссору, увольнять не стал. Издатель прекрасно понимал, что такого, как Рува, ему не найти. Но он полез в бутылку и ушел сам. Возможно, и жалел об этом. Кто знает? С Анной о журнале он больше никогда не говорил. Но за долгие годы он настолько привык редактировать его, искать и находить новых авторов, припасать сенсацию для каждого номера, что, лишившись этого привычного дела, чувствовал себя потерянным. После Рувы там сменилось несколько главных редакторов, но, в конце концов, журнал тихо умер, и слез о покойном пролито не было.
Других событий, достойных упоминания, вроде не случилось. Рува продолжал вести творческие вечера, и публиковал свои все так же популярными статьи и эссе в двух или трех еженедельных газетах. Со стороны могло показаться, что в их жизни мало что изменилось. Но сам Рува изменился очень сильно. И эти перемены ее тревожили и пугали. Он, как и раньше, часами сидел в кабинете. Но перестал делать что-либо кроме своей еженедельной просветительской нормы, как он называл статьи для газет. Ничего другого не писал и, что еще хуже, не читал. Она подсовывала ему последние нашумевшие книжки – он их даже не открывал.
Может быть, главной причиной, помимо ухода из журнала, стала неудача с повестью о Ковнере. Хуже всего, что он об этом ни слова не говорил. Приходилось говорить ей. Мол, подумаешь, журнал? Ты достаточно времени и сил ему отдал. Хватит! А вот по поводу якобы неудачи с повестью, это ты зря. По-моему, ты слишком рано сложил оружие. Попробуй еще раз… Но он только молчал, мрачнел и хмурился. И все чаще поминал о смерти:
– Смотри, Аня, все получилось, как ты и мечтала. Мы с тобой живем долго. Осталось только умереть в один день.
– Куда ты торопишься? Ведь у нас пока все тьфу-тьфу-тьфу…
– Да, но лучше сани готовить с лета.
– Глупый, для меня каждый день с тобой – счастье. Успеем еще умереть.
Анна понимала, что переживает Рува, и не знала, как помочь. Ничего в голову не приходило, но однажды ее будто осенило.
– Давай попробуем переводить израильских писателей на русский. Среди них есть прекрасные. Но о них никто не знает.
– Даже если они все гении, как я их стану переводить? Я же языка толком не знаю.
– Не страшно. Я составлю тебе подстрочник. Только не отказывайся. Попытка – не пытка!..
Рува долго отнекивался. Потом нехотя согласился. Она делала подстрочники, зачитывала ему целые страницы. Однажды он на пробу перевел один кусок. И израильский писатель вдруг зазвучал по-русски, словно всю жизнь писал на этом языке.
Рува виду старался не показывать, но был очень доволен. Когда они закончили первый перевод, с разных сторон стали доноситься восторженные отклики. «Даже лучше, чем в оригинале», – говорили те, что владели в равной мере обоими языками. Словом, это был успех.
Так они перевели три книги автора, восхитившего сначала Анну, а за ней – и Руву. Она снова и снова перечитывала их перевод и каждый раз поражалась. Возникала какая-то неслыханная проза – будто перевод с марсианского. Нет, она не могла выбрать, что лучше – оригинал или по-русски.
Если раньше она не находила для себя ясный ответ, почему они вместе? «Все по привычке, – думала она. – Возраст у него уже не тот, чтобы лошадей менять…» То теперь она впервые по-настоящему чувствовала, что стала ему нужна, необходима. Но – и это куда важнее всего остального – ей, похоже, удалось растормошить Руву. Он с каждым днем работал все увлеченнее. Анна была счастлива!
***
И вдруг… Как ни готовься, это всегда происходит вдруг. Рувима стали мучить головные боли. Анна почти насильно поволокла его к врачу. Тот велел срочно записаться на томографию мозга – «так, на всякий случай». Они бросились в знаменитую иерусалимскую больницу. Обычно ждать этой процедуры приходилось несколько недель. Анна была готова к долгому ожиданию. Поэтому забеспокоилась, когда врач, проглядев заключение их семейного доктора и результаты уже сделанных анализов, назначил обследование через три дня.
Естественно, на томографию она отправилась вместе с Рувой. Она вообще ни на секунду старалась его не оставлять. В сам кабинет ее не пустили. Анна сидела в комнатке рядом с регистратурой на том же минус первом этаже, что и кабинет МРТ, и впервые в жизни молилась. Только она не знала, как это – молиться? Поначалу ее молитва была больше похожа на приказ.
– Сделай так, чтобы все обошлось!
– Нет, так нельзя! – ужаснулась она. – Ох, я не знаю, как к Тебе обращаться и что говорить. Но ведь ты и так всё понимаешь? Пусть все будет хорошо. Если так уж надо, если нельзя иначе, без жертвы – пусть это случится со мной. Все, что угодно – но со мной! Только не с ним. Ну, пожалуйста… – молила она.
Но молитва не помогла. То ли Он не любит, чтобы с ним разговаривали в приказном тоне, то ли по обыкновению в самый критический момент «сокрыл лице свое», то ли Его попросту нет, но через неделю их пригласили для беседы. Тот же врач сообщил им диагноз – опухоль мозга. Она вдруг стала часто-часто дышать, как дышат, когда воздуха не хватает. Врач встревожено поглядел на нее и налил стакан воды. Анна жадно пила, чувствуя, как зубы лязгают о стекло. Рува, напротив, выглядел очень спокойным, и только Анна могла расслышать необычные нотки:
– А что дальше?
Врач сказал, что надо не откладывая, начать сеансы облучения. А там посмотрим, как поведет себя опухоль, как отреагирует на облучение. Не исключено, что потребуется операция. Но это не раньше, чем через два-три месяца.
– Значит, эти месяцы у меня есть? – все так же тихо спросил Рувим. Анна догадалась, что он думает о том, успеют ли они за этот срок закончить перевод новой, четвертой книги.
– Есть, – ответил доктор. – Может, и больше.
Удивительно все-таки устроен человек! Всего несколько дней назад Анна молилась, чтобы все обошлось, но сейчас от этих слов врача она ощутила внезапную и огромную радость.
– Три месяца – это же море времени. Целая вечность!
На следующее утро они пришли в отделение лучевой терапии, где женщина в белом халате долго изучала результаты томографии, чтобы определить интенсивность облучения, число и частоту сеансов.
Эта женщина, Вера, по стечению обстоятельств оказалась моей доброй знакомой. Многое из того, что потом происходило, я знаю с ее слов. Она была физиком, а не врачом. Ведь эти сложнейшие лучевые приборы надо было как-то калибровать, подбирать правильную дозу.
Врачи пытались нанести болезни такой удар, чтобы она, пусть и временно, отползла, как раненный зверь. Сеансы облучения проходили ежедневно. Рувим понимал, что с каждым сеансом пока еще незаметно, но необратимо выжигаются клетки его мозга. Но ему хватало мужества шутить по этому поводу:
– Что, доктор? Сколько сеансов потребуется, чтобы я превратился в растение?
Вера ужасно терялась, но пыталась, игнорируя главный его вопрос, увести разговор в сторону, отвечать ему в тон:
– Зачем вы дразнитесь? Я же сто раз вам говорила, что я не доктор.
– Нет, – возражал он. – Вы доктор, и притом самый лучший. Вы просто чеховский земский врач. Только с вами я могу поговорить. Остальные вечно заняты. А что для нас, всегда недовольных пациентов, самое важное? Человеческий разговор о наших болячках.
Однажды вечером у Веры дома раздался звонок. Это была Анна, и была она не в себе. Плакала, умоляла помочь, кричала бессвязное. В конце концов, трубку взял Рувим. Своим обычным тихим голосом он объяснил, что происходит:
– Понимаете, у меня довольно неприятные ощущения. Словно мой мозг поднялся, как тесто, и давит на череп. И, кажется, вот-вот раздавит его и выплеснется наружу. Можно ли что-то сделать?
– Это отек! Отек мозга! – закричала Вера. – Я позвоню нашему заведующему. Потерпите пару минут. Сможете?
– Смогу.
Вера бросилась звонить. К счастью, тут же дозвонилась.
– Да, это отек. Пусть немедленно примет сразу 10 дневных доз своих таблеток. Должно помочь. Если нет – скорую срочно. И держите меня в курсе.
Вера перезвонила Анне, та отказывалась:
– Это же сумасшедшая доза! Он не выдержит!
Снова трубку взял Рувим.
– Да, сейчас приму, – все так же спокойно сказал он. – А что делать, если не поможет?
– Поможет. Должно помочь. Я через каждые десять минут буду вам звонить.
Тогда все обошлось. Уже через час Рувим сказал, что боли исчезли, и он чувствует себя как прежде…
Они приходили в больницу каждый день. Казалось, Анна заговаривается.
– Ничего, ничего, мы успеем. Вот увидишь, успеем. Ведь время еще есть. Есть же время? – говорила она, словно бредила, обращаясь даже не к нему, а сразу ко всем, кто находился рядом. Они не понимали, о чем она, но ободряюще кивали. Мол, да, успеете. Время еще есть.
***
После каждого облучения Рувим все сильнее слабел, его постоянно тошнило. Но вот что бросалось в глаза и поражало даже опытных, повидавших всякое врачей – он ощущал слабость, и Анну шатало, у него подступала тошнота, и ее тут же рвало. Ее тело будто превратилось в прибор, улавливающий и отражающий его состояние. Или в зеркало. Стоило на его лице появиться гримасе боли, как тут же – разве что с секундной задержкой – такая же гримаса появлялась и на ее лице. Даже в тех случаях, когда она на него не смотрела.
К следующему сеансу он чуть отходил, но после него чувствовал себя еще хуже. Но Анна не теряла надежды на чудо. Она еще успевала ежедневно обегать каких-то целителей, раввинов, экстрасенсов и даже бабок, в, основном, марокканского происхождения. И покупать у них за бешеные деньги чудодейственные снадобья, которые ничуть не помогали. Впрочем, и не вредили.
Вдобавок к облучению Рува глотал еще множество прописанных ему препаратов. В том числе, и обезболивающие. Хотя боль как раз его не особо мучила. Она должна была прийти позже.
Была еще одна странность. Рувиму вдруг каждую ночь стали сниться сны. И Анне тоже, что раньше случалось редко. Она была уверена, что в случае Рувы эти сны были последними следами сгоравших от облучения мозговых клеток, как последнее прости отлетающей души. Но ничего ему не говорила.
Однажды утром Рува проснулся сам не свой.
– Какой-то дикий сон приснился, – поежился он. – Яркий как кино. До сих пор стоит перед глазами.
– Расскажи, – сказала Анна, незаметно вздохнув.
– Я стою в Москве у кинотеатра «Буревестник». Там очередь за билетами. Но продаются они не в кассе, а на улице. Я спрашиваю всех, как называется фильм? Но они молчат. Тогда я стучу по плечу огромного роста и толщины мужчину, стоящего передо мной. Он оборачивается и оказывается медведем. Даже не очень страшным, каким-то карикатурным. Он больно хватает меня за руку своими желтыми когтями. Мне как-то удается вырваться, и я убегаю.
Просыпаюсь и сразу проваливаюсь в другой сон. Я в концлагере. Знаю, что сегодня меня должны расстрелять. Вокруг только белые стены с выбоинами и бурьян. Вдруг вижу маму. Она не изменилась. На ней ее старое зимнее пальто с шелковой подкладкой. Я любил прижиматься к ней щекой, когда мама приходила с мороза. Она целует меня, а в руках у нее большой кулек с апельсинами. Знаешь, такие багровые. Корольки. Я их страшно любил. На них была такая маленькая наклейка, на которой было написано «Яфа». То есть, апельсины были из Израиля, хотя продавались, как марокканские. Я всего и ел их, может, раза два в жизни. И вот она держит пакет с апельсинами и говорит, что сейчас пойдет и договорится с начальником, чтобы меня не расстреливали. И протягивает мне один апельсин – самый красивый. Я оглядываюсь по сторонам, боюсь, что его сейчас отберут, и начинаю чистить. Но не могу. Корка такая твердая, пальцам больно. А мама начинает смеяться. Все громче и злее. И вдруг превращается в медведя. Я понимаю, что так нечестно. Так не должно быть, ведь медведь из другого сна. А он вырывает у меня апельсин. Вонзается в него своими желтыми когтями. Из него начинает сочится, брызжет красный сок. Попадает мне в глаз. Щиплет. И тут я понимаю – ведь это расстрел, смерть. И просыпаюсь.





