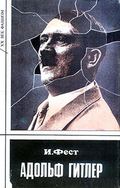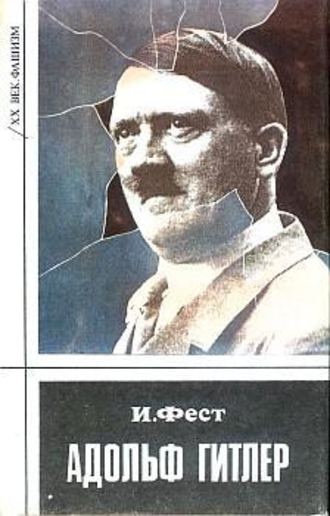
Иоахим Фест
Адольф Гитлер (Том 2)
Глава III
Перед вратами власти
На выборы, на выборы! Ближе к народу! Мы все очень счастливы.
Йозеф Геббельс
Предвыборные бои. – Ход Брюнинга и дилемма, вставшая перед Гитлером. – Решение принято. – Победа Гинденбурга. – «Гитлер над Германией». – Смерть Гели Раубаль. – Гипнотизирующие речи. – Демагогический ритуал. – Отключение мышления. – Самоослепление. – Причины массового притока. – Лозунги и формулы. – Результаты выборов. – Интриги. – Падение Брюнинга. – Франц фон Папен. – Антипрусский государственный заговор. – Отказ президента. – Размышления о жестокости.
Восхождение Гитлера – это результат не только его виртуозной демагогии, ловкости и пыла радикала; казалось, что путь ему расчищали сами силы иррационального. В течение 1932 года пять крупных избирательных кампаний позволили ему, главным образом из-за случайного совпадения сроков, эффектно показать своё превосходство в области, наиболее ему близкой, – в агитации.
Весной истекал срок полномочий президента страны. Чтобы избежать риска и последствий радикализации, Брюнинг заблаговременно разработал план, согласно которому поправкой к конституции Гинденбургу должно было быть обеспечено пожизненное правление. Все его намерения имели одну цель – выиграть время. Зима принесла новое, невообразимое обострение кризиса. В феврале 1932 года число безработных превысило 6 миллионов. Но как трезвый специалист, уверенный в том, что его принципы гораздо выше любого низменного приспособленчества политика, Брюнинг жёстко держался своего курса: он надеялся на окончательную отмену репараций, успех конференции по разоружению, достижение Германией равноправного положения, а также в значительной мере на весну и свою концепцию суровой экономии вплоть до голода.
Но люди не разделяли ни его суровости, ни его надежд. Они страдали от голода, холода и всех унизительных условий существования. Они ненавидели бесконечные чрезвычайные постановления с их шаблонными призывами к готовности приносить жертвы: многие упрекали правительство в том, что оно только управляет нищетой, вместо того, чтобы её устранить[230]. Но если проповедуемая Брюнингом политика неумолимой бережливости была проблематичной с точки зрения экономики, то в политическом отношении она оказалась просто недейственной и не находила отклика у отчаявшихся людей. В холодной деловитости Брюнинга не было того патетического жертвенного обертона, который даже из крови, пота и слез способен сделать восторженно встречаемый цирковой номер. Никто не склонен так легко согласиться с тем, что нищета – это просто нищета, и больше ничего. Растущее неприятие республики происходило и от её неспособности придать бедственному положению и постоянным призывам к жертвенности какой-либо высший смысл.
Политика Брюнинга, направленная на выигрыш времени, зависела от того, насколько его поддерживает президент. Однако Гинденбург совершенно неожиданно воспротивился планам продления своих полномочий. Ему уже исполнилось 84 года, он устал от своих обязанностей, а кроме того, боялся, что связанная с его персоной дискуссия вокруг этого плана неизбежно вызовет новые нападки на него со стороны его и без того разочарованных друзей справа[231]. И только когда речь зашла о продлении его полномочий всего на два года, он, наконец, согласился, правда, после долгих уговоров со всех сторон и, что примечательно, после ссылки на пример Вильгельма I, который в своё время на девяносто втором году жизни заявил, что у него нет времени на усталость. Но при этом Гинденбург потерял доверие к Брюнингу, которого он с полным основанием считал движущей силой всей этой мучительной для него осады: добившись своего, канцлер, по сути, потерял то, на что он рассчитывал.
Переговоры Брюнинга с партиями с неизбежностью превратили Гитлера в центральную и очень для всех важную фигуру, так как любое изменение конституции предполагало его согласие. Но одновременно они поставили его перед чрезвычайно опасной дилеммой: ему предстояло либо действовать заодно со «столпами системы» и тем самым укреплять позиции Брюнинга и отказаться от собственного радикализма – либо вести предвыборную борьбу против престарелого, окружённого общим благоговением президента, верного слуги и «эрзац-кайзера» нации. Но такая предвыборная борьба могла серьёзно поколебать легенду об обречённости его движения на успех и, помимо всего прочего, вскрыть его противоречия с Гинденбургом. А это в связи с решающими полномочиями президента в том, что касается доступа к власти, неизбежно повлекло бы за собой непредсказуемые последствия. Грегор Штрассер советовал Гитлеру принять предложение Брюнинга. Рем и особенно Геббельс, напротив, категорически возражали. В своём дневнике Геббельс записал: «Речь идёт здесь о рейхспрезиденте; дело в том, что г-ну Брюнингу хотелось бы надолго упрочить свои собственные позиции и позиции своего кабинета. Фюрер попросил времени на размышление. Ситуацию нужно исследовать со всех сторон… Шахматная партия за обладание властью начинается. Она, возможно, продлится весь этот год. Эту партию следует играть в темпе, умно, а в чём-то и изощрённо. Главное для нас – оставаться сильными и не идти ни на какие компромиссы».[232]
Загнанный ходом Брюнинга в чрезвычайно неудобную позицию, Гитлер долго не знал, что предпринять. Если Гугенберг сразу и грубо отклонил предложение Брюнинга, то Гитлер ещё колебался, и ответ, который он в конце концов дал, отражал не только его сомнения, но и его осторожность. Оба эти ответа вскрывали всю разницу между Гутенбергом как весьма недалёким тактиком, постоянно пытавшимся догнать своего радикального партнёра и даже, хоть и задыхаясь, перегнать его, – и самим Гитлером, который пользовался своим радикализмом как орудием и комбинировал его с элементами лукавого рационализма. Во всяком случае, он обставил своё несогласие таким количеством оговорок, что оно кое в чём очень походило на приглашение к дальнейшим переговорам. Главное же для него было расширить хоть немного наметившуюся трещину в отношениях между Гинденбургом и канцлером, которую Гитлер инстинктивно, но совершенно точно уловил. Прибегая к казуистическим доводам, он выставлял себя ярым защитником конституции и в длиннейших речах, посвящённых якобы заботе о соблюдении президентом клятвы верности, приводил множество юридических возражений против плана канцлера.
Хотя Гитлер тем самым уже решился выставить свою кандидатуру в противовес Гинденбургу, он ещё несколько недель медлил и не обнародовал своего решения. Дело в том, что его жизненная концепция всегда предусматривала «благосклонность» г-на президента, а не противопоставление ему. К тому же он яснее своих сателлитов осознавал, насколько рискованно было соперничать с легендарным Гинденбургом. Поэтому напрасно Геббельс и прочие осаждали его советами объявить о своей кандидатуре. Тем не менее он всё же согласился с предложением прибегнуть к помощи брауншвейгского министра внутренних дел Клаггеса, члена НСДАП, чтобы обеспечить ему немецкое гражданство, необходимое для выставления кандидатуры[233]. На примере этого эпизода особенно хорошо видны его так часто упоминаемая нерешительность, боязнь решающего шага и – как странный контраст с образом действующего с уверенностью лунатика фюрера – его склонность оттягивать какое-либо решение до последнего момента, пока все не решат обстоятельства, на которые он фаталистически полагался. Ведь, строго говоря, решение было давно принято. Дневник Геббельса шаг за шагом прослеживает мучительную, почти несуразную нерешительность Гитлера:
«9 января 1932 года. Всеобщее смятение. Все гадают: что же сделает фюрер? Вот кое-кто удивится! – 19 января 1932 года. Обговорил с фюрером вопрос о выдвижении его кандидатуры на пост рейхспрезидента. Доложил о своих переговорах. Решение ещё не принято. Я очень настойчиво выступаю за его собственную кандидатуру. Если говорить серьёзно, теперь, пожалуй, и нет других вариантов. Мы просчитали все с цифрами в руках. – 21 января. В этой ситуации нам не остаётся ничего иного, как выставить собственного кандидата. Борьба тяжёлая и напряжённая, но нужно пройти и через неё. – 25 января. Вся партия дрожит от боевого нетерпения – 27 января. За или против Гинденбурга – такая предвыборная формула теперь, очевидно, неизбежна. Мы должны, наконец, открыто назвать своего кандидата. – 29 января. Заседает комитет Гинденбурга. Нам придётся выложить карты на стол. – 31 января. Фюрер примет решение в среду. Каким оно будет, сомневаться не приходится. – 2 февраля. Аргументы в пользу кандидатуры фюрера настолько убедительны, что ни о чём другом больше и речи быть не может… Днём долго совещался с фюрером. Он излагает свой взгляд на президентские выборы. Он решился выставить свою кандидатуру. Но сначала нужно выяснить, что происходит на противоположной стороне. Тут решающее значение имеет СДПГ. Затем о нашем решении будет оповещена общественность. Чрезвычайно тягостная борьба, но через это надо пройти. Фюрер делает свои ходы в этой партии без всякой спешки и с ясной головой. – 3 февраля. Гауляйтеры ждут опубликования решения о кандидатуре на пост президента. Ждут напрасно. Тут идёт игра в шахматы, а в этих случаях никто не говорит, каким будет его следующий ход… Партия вся – сплошное беспокойство и напряжённое ожидание, тем не менее, пока царит молчание… Фюрер в часы досуга занимается планами строительства нового партийного дома и гигантской перестройки имперской столицы. Проекты у него совершенно готовы, и не устаёшь удивляться, в каком количестве вопросов он разбирается как специалист. Ночью ко мне зашли многие верные, старые товарищи по партии. Они подавлены, так как все ещё ничего не знают о решении. Их беспокоит, что фюрер слишком долго тянет. – 9 февраля. По-прежнему неопределённость. – 10 февраля. На улице трескучий мороз. В ясном воздухе носятся ясные решения. Ждать их остаётся уже недолго. – 12 февраля. Просчитал вместе с фюрером в „Кайзерхоф“ ещё раз все цифры. Риск есть, но на него надо идти. Итак, решение принято… Фюрер снова в Мюнхене. Опубликование решения откладывается на несколько дней. – 13 февраля. На этой неделе должно быть публично объявлено о решении по вопросу о президентских выборах. – 15 февраля. Теперь нам уже нет нужды скрывать решение. – 16 февраля. Работаю так, словно предвыборная борьба уже идёт. Это создаёт известные затруднения, так как фюрер официально ещё не назван кандидатом. – 19 февраля. У фюрера в „Кайзерхофе“. Долгий разговор с глазу на глаз. Решение принято. – 21 февраля. Вечное ожидание почти изматывает».
На следующий вечер Геббельс назначил общее собрание в берлинском Дворце спорта. Это была его первое появление с тех пор, как 25 января был снят запрет на публичные выступления. Между тем срок выборов приблизился на целых три недели, а Гитлер все медлил. Днём Геббельс отправился в «Кайзерхоф», чтобы изложить основные тезисы своей предстоящей речи. Заговорив о проблеме кандидатуры, он вдруг услышал долгожданное разрешение объявить о том, что Гитлер принял решение. «Слава Богу!» – записывает Геббельс в дневнике и продолжает:
«Дворец спорта переполнен. Общее собрание членов партии Западного, Восточного и Северного районов. Бурная овация сразу же в начале собрания. Когда я после часовой вступительной речи открыто объявляю о кандидатуре фюрера, на целых 10 минут разражается буря воодушевления и восторга. Люди встают, ликуют и выкрикивают приветствия фюреру. Кажется, вот-вот обрушится потолок. Грандиозная картина. Это действительно движение, которое не может не победить. В зале – неописуемая атмосфера упоения и экстаза. Поздно вечером фюрер ещё раз позвонил мне. Я доложил ему обо всём, и он ещё зашёл к нам домой. Он рад, что объявление о его кандидатуре произвело такой эффект. Он был и остаётся все же нашим фюрером».[234]
Последнее предложение выдаёт сомнения, которые Геббельс совершенно очевидно испытывал в течение последних недель, видя слабость Гитлера как руководителя. Но если этот эпизод – одно из ярчайших свидетельств флегматичности и нерешительности Гитлера, то не менее характерна и та внезапная, можно сказать, с места в карьер начатая бурная, энергичная деятельность, которую он, приняв решение, развил в предвыборной кампании. 26 февраля на церемонии в отеле «Кайзерхоф» он позволил назначить себя на неделю регирунгсратом Брауншвейга и тем самым получил немецкое гражданство. Днём позже он восклицал во дворце спорта, обращаясь к своим противникам: «Я знаю ваш девиз! Вы говорите: „Мы останемся у власти любой ценой“, а я говорю вам: мы свергнем вас в любом случае!.. Я счастлив, что сейчас могу биться рядом с моими товарищами – в прямом и переносном смысле слова». Потом он ответил на слова берлинского полицай-президента Гжезински, который ещё раньше пригрозил выгнать его арапником из Германии: «Вы сколько угодно можете грозить мне собачьей плёткой. Мы ещё посмотрим, будет ли она у Вас в руках, когда эта борьба закончится». Одновременно он попытался как-то уклониться от противостояния с Гинденбургом, навязанного ему Брюнингом, и заговорил о том, что чувствует себя обязанным сказать генерал-фельдмаршалу, чьё «имя останется для немецкого народа именем вождя великой борьбы»: «Старик, мы слишком чтим тебя, чтобы позволить людям, которых мы стремимся уничтожить, говорить от твоего лица. И как бы мы ни сожалели – но ты должен отойти в сторону, ибо они хотят борьбы, и мы тоже её желаем»[235]. Вне себя от счастья, Геббельс записал в дневнике: фюрер «снова на высоте положения».
Все это показало, насколько Гитлер и национал-социалисты уже захватили политическую сцену. Настоящая предвыборная борьба началась только теперь, хотя уже давно трое конкурентов противостояли друг другу: Гинденбург, кандидат коммунистов Эрнст Тельман и кандидат радикальных буржуазных правых Теодор Дюстерберг. И опять национал-социалисты не стеснялись применять грубую, все опрокидывающую силу. Внезапно развернувшаяся деятельность по организации собраний свидетельствовала не только о более полной партийной кассе, но и о все более густой сети агитаторских опорных пунктов. Ещё в феврале Геббельс перевёл руководство партийной пропагандой в Берлин и предсказал предвыборную борьбу, «какой ещё не знал мир». Мобилизована была вся ораторская элита партии. Гитлер сам с 1-го по 11 марта объездил на автомобиле всю Германию и, как утверждалось, выступил в общей сложности перед 500 тысячами слушателей. Этому «демагогу крупнейшего масштаба» помогала, как он и требовал, «армия подстрекателей, которая разжигала страсти и без того измученного народа»[236]. Изощрённость и изобретательность этих людей, впервые применивших и современные технические средства, снова дали им громадное преимущество над соперниками. Так, рассылалась пластинка, изготовленная в 50 тыс. экземплярах, снимались озвученные ролики, которые навязывались владельцам кинотеатров в качестве вступления к основным фильмам. Был издан специальный иллюстрированный журнал, началась, как выражался Геббельс, война плакатов и знамён, так что целые города или кварталы за одну ночь окрашивались в кричащий, кровавый цвет. Целыми днями по улицам разъезжали грузовики, часто колоннами, под развевающимися знамёнами стояли, опустив ремни касок под подбородок, подразделения СА, пели или кричали «Германия, пробудись!» Этот грохочущий пропагандистский поход вскоре создал внутри партии – как следствие самовнушения – настолько победное настроение, что Гиммлер вынужден был издать предписание, ограничивающее употребление алкоголя во время победных празднеств СС.[237]
По другую сторону стоял, по сути дела, только Брюнинг; одиночество его производило странное впечатление. Глубоко почитая президента, он ради него взвалил на себя тяжесть этой изнурительной предвыборной борьбы; потому что позиция социал-демократов слишком ясно показывала: они поддерживали Гинденбурга, только чтобы добиться поражения Гитлера. Двойственность их положения разделял и сам Гинденбург. В своей единственной за всю предвыборную кампанию речи по радио он решительно отверг упрёки в том, что будто бы являлся кандидатом «черно-красной коалиции». Но так или иначе, а выбор, перемешавший все фронты и устранивший любую лояльность, существовал только между Гиндснбургом и Гитлером. Вечером накануне 13-го марта берлинская газета «Ангрифф» самоуверенно заявила: «Завтра Гитлер станет рейхспрезидентом».
По контрасту с этими радужными надеждами тем тяжелее был шок, когда стали известны результаты. Гинденбург одержал внушительную победу, собрав 49, 6 процента голосов и оставив Гитлера (30,1 процента) далеко позади. Торжествующий Отто Штрассер приказал расклеить на улицах плакаты, изображавшие Гитлера в роли Наполеона, отступающего из Москвы. Подпись гласила: «Великая армия уничтожена, его величество император изволят чувствовать себя хорошо». Отброшенный далеко назад (6,8 процента голосов), окончил свою карьеру Дюстерберг; но его поражение все же раз и навсегда решило соперничество внутри лагеря националов в пользу Гитлера. За Тельмана проголосовали 13,2 процента избирателей. Кое-где национал-социалисты приспустили свои флаги со свастикой.
Но Гинденбург все же чуть-чуть не дотянул до предписанного абсолютного большинства, и предстоял новый тур выборов. Реакция Гитлера на ситуацию была опять-таки примечательной. В партии распространялась нежелательная депрессия, кое-кто уже подумывал об отказе от второго, явно бесперспективного тура выборов. Гитлер же, не предаваясь эмоциям, уже вечером 13-го марта призывал в своих обращениях к партии, СА, СС, Гитлерюнгенду и национал-социалистическому корпусу шофёров к новой, удесятерённой активности. «Первый этап борьбы на выборах окончен, второй начался сегодня. Я и его буду вести с полной самоотдачей», провозгласил он и, как восторженно писал Геббельс, «этой симфонией наступательного духа» снова поднял и распрямил партию. Однако же один из его сопровождающих застал его поздно ночью в тёмной комнате, погруженного в задумчивость и безучастного – «фигура разочарованного, потерявшего мужество игрока, поставившего на карту больше, чем он мог заплатить».[238]
Тем временем Альфред Розенберг взбадривал приунывших приверженцев в «Фелькишер беобахтер»: «Теперь мы пойдём дальше – с ожесточением и безоглядностью, которых Германия ещё не знала… Основа нашего борения – это ненависть против всего, что нам противостоит. Теперь никакой пощады не будет». Всего через несколько дней в специальном обращении в поддержку Гитлера выступили около 50 известных лиц – представители знати, генералы, гамбургские патриции и профессора. Выборы были назначены на 10 апреля. Чтобы хоть как-то сдержать подстрекательскую агитацию правых и левых радикалов, окрашенную ненавистью, обидами и лозунгами гражданской войны, правительство со ссылкой на предстоящие пасхальные праздники объявило «гражданский мир», ограничивший предвыборную борьбу приблизительно одной неделей. Но как всегда в ситуациях, когда его загоняли в угол, Гитлер, вдохновлённый именно этой помехой, придумал особенно эффектный пропагандистский трюк. Чтобы как можно действеннее использовать свой ораторский потенциал и лично охватить как можно большее число людей, он нанял самолёт для себя и своего ближайшего окружения: Шрека, Шауба, Брюкнера, Ханфштенгля, Отто Дитриха и Генриха Хофмана. 3 апреля он предпринял первый из тех ставших знаменитыми полётов по Германии, в ходе которых он посетил 21 город, где день за днём выступал на четырех-пяти манифестациях, организованных в стиле операций генерального штаба. Конечно, партийная пропаганда сплела немало легенд вокруг этого мероприятия. Однако нельзя не признать, что полёты создавали впечатление богатства идей, дерзкого новшества, воинственности и жутковатой вездесущности. «Гитлер над Германией!» – таков был эффектный лозунг, в своей двусмысленности отражавший и ожидания, и страх миллионов людей. В своей самовлюблённости Гитлер, видя окружавшее его ликование, говорил, что ему кажется, будто он орудие в руках Бога и призван освободить Германию.[239]
Как и ожидалось, Гинденбург, за которого проголосовали почти 20 миллионов избирателей, собрал 53 процента голосов и без труда обеспечил себе необходимое абсолютное большинство. И всё же Гитлер, за которого проголосовали 13, 5 миллионов человек, сумел добиться гораздо большего прироста голосов: всего за него было подано 36, 7 процента. Дюстерберг на этот раз не баллотировался, а Тельман получил всего немногим более 10 процентов голосов.
В тот же день, в атмосфере усталости, спешки и упоения успехом, Гитлер отдал распоряжения, касающиеся выборов в ландтаг, которые через две недели должны были состояться в Пруссии, Ангальте, Вюртемберге, Баварии и Гамбурге. В них втягивалась опять почти вся страна – четыре пятых её населения. Геббельс записал: «Мы не останавливаемся ни на мгновение и сразу же принимаем решения»[240]. Гитлер снова отправился в полет по Германии и за восемь дней выступил в 25 городах. Его окружение хвастливо говорило о том, что будет поставлен «мировой рекорд» личных встреч. Но этого как раз и не получилось. В лихорадочной активности Гитлер утратил индивидуальные черты, казалось, что вместо него действовал некий динамический принцип: «Вся наша жизнь сейчас – это изнурительная погоня за успехом и властью».
Теперь личность этого человека, и без того трудноуловимая, на долгие отрезки как бы растворяется и не поддаётся истолкованиям биографов. Напрасно окружение Гитлера силилось придать его образу яркость, своеобразие, человеческое обаяние. Даже его могучая пропаганда, владевшая практически любым трюком, перед лицом этой задачи оказалась вскоре у предела своих возможностей. Красноречивое свидетельство тому – дневники и описания событий, вышедшие из-под пера Геббельса или Отто Дитриха. Бесконечные истории о Гитлере-друге детей, уверенном навигаторе, чутьём выводящем заплутавший самолёт на верный маршрут, «абсолютном» стрелке из пистолета или находчивом полемисте среди «красной черни» всегда казались вымученными и только усиливали впечатление о Гитлере как человеке, далёком от жизни, – а между тем задача подобных историй была как раз обратной. Только кое-какие внешние атрибуты, за которые он упорно держался, придавали ему некоторую индивидуальность: плащ-дождевик, фетровая шляпа или кожаный шлем, стек, которым он постоянно пощёлкивал, характерные чёрные усики и неподражаемая чёлка. Но поскольку последние не менялись, они одновременно как бы и лишали его личностных черт. Геббельс наглядно описал всю ту лихорадочную, поглощавшую любую индивидуальность суету, которая тогда изнуряла всех руководящих деятелей партии:
«Снова начинается неистовство. Работать приходится, не глядя на то, идёшь, едешь или летишь. Самые важные переговоры ведутся на лестницах, в подъездах домов, у дверей, по дороге на вокзал. Просто не успеваешь опомниться. Тебя несёт по всей Германии поездом, машиной, самолётом. Приезжаешь в какой-нибудь город за полчаса до начала, иногда и позже, сразу же поднимаешься на трибуну и говоришь… Когда речь окончена, ты в таком состоянии, словно тебя только что во всей одежде вытащили из горячей ванны. Потом снова – в машину, двухчасовой переезд…».[241]
За эти последние полтора года, ещё до того, как такой неустанный бег приведёт Гитлера к успеху, обстоятельства только пару раз вырвали его из этой безликой суеты и на мгновение бросили свет на его личный характер.
Ещё в середине сентября предыдущего года, как раз в начале гонки через всю Германию, Гитлер, только что выехавший из Нюрнберга и направлявшийся на предвыборное собрание в Гамбург, получил известие, что его племянница Гели Раубаль покончила с собой в их совместной квартире на Принцрегентенштрассе. Гитлер был потрясён, по словам очевидцев – испуган и растерян. Он немедленно повернул назад. Многое говорит в пользу предположения, что, пожалуй, ни одно событие личной жизни ни до, ни после этого не переживалось им так болезненно. Несколько недель он был на грани нервного срыва, твердил, что хочет уйти из политики, а в моменты помрачения не раз намекал, что намерен покончить счёты с жизнью: это опять было то эмоциональное состояние – броситься в бездну, отбросить все, – которым сопровождалась каждая полоса неудач в его жизни. Оно заново приоткрывало завесу над тем, под каким высоким напряжением проходило все его существование, скольких постоянных усилий воли стоило ему его стремление быть тем человеком, которым он хотел казаться. Энергия, которую он излучал, была отнюдь не эманацией могучего характера, а скорее актом насилия невротика над собственной натурой. В полном соответствии со своей максимой о том, что величие не знает чувств, он на несколько дней уединился от всех в доме на Тегернзее. Как утверждают люди из его близкого окружения, он и позже говорил о своей племяннице нередко со слезами на глазах; но по исписанному правилу никто не смел напоминать о ней. Верный своей склонности к патетике, включавшей в себя и любовь к смерти, он и память о племяннице превратил в предмет преувеличенного культа. В её комнате в «Бергхофе» все осталось так, как было при её жизни, а в помещении, где её обнаружили лежащей на полу, был установлен её бюст, и много лет Гитлер в годовщину смерти Гели запирался там на несколько часов для размышлений.[242]
Это преувеличенное, экзальтированное обожание, странное на фоне обычной для Гитлера отчуждённости и холодности в отношениях с людьми, тем не менее характерно для его реакции на смерть племянницы. Кое-что заставляет думать, что поведение его определялось не только склонностью к театральщине и жалостью к самому себе. Вероятно, в этом эпизоде следует видеть одно из ключевых событий его личной жизни, навсегда наложившее отпечаток на его отношение к противоположному полу, и без того перегруженное комплексами.
Со времени смерти матери женщины, если верить имеющимся свидетельствам, играли в его жизни только побочную роль – или роль заменителя. Мужское общежитие случайные знакомства в мюнхенских пивных подвалах, ночлежки, казармы и партия, дух которой определялся военной формой и мужскими компаниями – таков был мир Гитлера, а дополнение к этому миру – бордель, хоть и презираемый им, фривольные мимолётные связи, с которыми он при его тяжёлом угрюмом характере мирился, очевидно, не так-то легко. Его отношение к женщинам выразилось ещё в его эмоционально странно обеднённой симпатии к его юношескому кумиру Стефании. Среди фронтовых товарищей он считался «женоненавистником»[243]. И хотя он постоянно сохранял тесные общественные связи, постоянно был окружён множеством людей, биография его прямо-таки пугающе безлюдна – в ней нет отдельных, индивидуальных связей. Характерный для него страх раствориться в другом человеке включал в себя, по наблюдению одного из членов его окружения, и постоянную боязнь «стать из-за женщины предметом пересудов».
Только с появлением Гели Раубаль, питавшей к «дяде Альфу» мечтательную, поначалу, вероятно, полудетскую склонность, Гитлер как будто начал освобождаться от своих комплексов. Может быть, страх перед непринуждённым, не стилизованным поведением, перед вынужденным отказом от позы государственного человека, перед психологическим самообнажением все же смягчался родственными отношениями; не исключено, однако, и то, что его чувства к Гели были более сомнительного происхождения: склонность его отца к шестнадцатилетней девочке, которую он взял в свой дом и сделал своей возлюбленной ещё до того, как она стала матерью Адольфа Гитлера, была не лишена элементов инцеста. Ни одна из женщин в жизни Гитлера – ни Женни Хауг, сестра его шофёра, ни Хелена Ханфштенгль или Юнити Митфорд, ни все те, кого он в стиле австрийского «интима» (в том числе и в разговоре с другими) называл «моя принцессочка», «моя графинечка», «телёночек» или «плутовочка», ни даже Ева Браун – так и не заменили ему Гели Раубаль. Она была его единственной и, как бы неуместно ни звучало это слово, большой любовью, к которой примешивались и ощущение запретности этого чувства, и настроения Тристана, и трагическая сентиментальность.
Тем более поразительно, что он при всём своём несомненном психологическом чутьё, очевидно, не понимал двусмысленного положения этой неуравновешенной, импульсивной девушки. Никто так и не знает, была ли она действительно его любовницей, хотя некоторые исследователи это утверждают и истолковывают её самоубийство как отчаянную попытку найти выход из запутанных отношений с дядей, ставших для неё невыносимым грузом. Другие пишут даже, что девушку довели до этого некие противоестественные требования предрасположенного к извращённости Гитлера. В третьей же версии вообще оспаривается какая-либо сексуальная связь между Гитлером и его племянницей, но зато подчёркивается, что племянница была не слишком разборчива и строга по отношению к военизированному персоналу Гитлера[244]. Во всяком случае, достаточно достоверно, что она наслаждалась славой своего дяди и наивно верила, что отблеск этой славы падает и на неё.
Однако, несмотря на многолетние общие мечты, походы в оперу и радости пикников на природе и совместных сидений в кафе, связь эта мало-помалу, вероятно, приобретала тягостный характер. Теневая сторона характера Гитлера – его мучительная ревность, его завышенные требования – а он, например, посылал свою весьма средне одарённую и к тому же почти лишённую честолюбия молоденькую племянницу к знаменитым учителям пения, чтобы они сделали из неё вагнеровскую героиню, – как и вообще его бесконечное вмешательство в её жизнь все больше ограничивали возможности личного самовыражения девушки. В окружении Гитлера знали, что перед самым его отъездом в Гамбург между ними произошло бурное, проходившее на повышенных тонах объяснение из-за того, что Гели хотелось на некоторое время переехать в Вену. Скорей всего, именно эти запутанные и в общем действительно безвыходные обстоятельства в конце концов и толкнули её на роковой шаг. Политические противники Гитлера распространяли самые нелепые слухи, которые именно поэтому мгновенно подхватывались публикой. Так, они утверждали, что девушка застрелилась, т. к. была якобы беременна от Гитлера, обвиняли самого Гитлера в убийстве или же заявляли, что с ней расправился «фемегерихт»[245] СС, чтобы она не отвлекала своего дядю от исторической миссии. Гитлер жаловался временами, что эта «ужасная грязь» убивает его, и мрачно угрожал, что не забудет своим противникам злословие тех недель.[246]