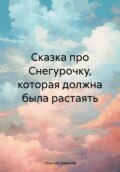Георгий Шевяков
Степан. Повесть о сыне Неба и его друге Димке Михайлове
– Все в порядке, брателло, – прозвучал над ухом голос Степана.– Утром мы вместе с Юрием уедем отсюда.
– Откуда они взялись?
– Десять миллионов рублей сделали свое дело. Они увидели в городе объявление с твоим портретом и вспомнили про тебя. Это твои утренние обидчики.
– Они же потом все равно расскажут.
– Как знать.
Хотел было Димка подробнее расспросить Степана, что он думает делать с рыбаками, но тут выскочили они из могилы, как ошпаренные, тараща вглубь нее глаза.
– Стой здесь. Остальное дело мое.
Степан слегка надавил на Димкино плечо, отчего тот невольно шмякнулся на землю, а сам направился к разрытой могиле. Повинуясь его незримой воле, рыбаки все так же без слов и строем направились к реке, откуда вскоре раздался скрип лодочных уключин и застучали весла по воде. А Степан спрыгнул в могилу, недолго там пробыл и появился с окоченевшим телом Кудрявцева. На руках он понес его к дороге, коротко бросив Димке на ходу: «Палатку и все что в ней надо сжечь. Машина на дороге».
Минут через двадцать в опустевшей могиле ярко вспыхнули брошенные вещи, обильно политые бензином из принесенной Димкой автомобильной канистры. После этого они со Степаном засыпали яму землей, бережно уложили завернутое тело Юрия Александровича в машину и навсегда покинули это место.
Вслед им долго смотрели пустые глаза рыбаков. Мерно журчала вода под килем лодки, тугие веревки заброшенных сетей врезались в кожу рук. Внезапно очнувшись, потянули они сети, и вместе с рыбой из черной глубины потянулись к ним распухшие до омерзения белые руки утопленников. И вынырнувшие смердящие лица зашевелили бескровными губами: «Вытащите меня, вытащите». Бросились в ужасе мужики в воду, поплыли к берегу, двое остались навсегда в воде – то ли запутались в сетях, то ли утащили их на дно незваные гости. Третий из последних сил выполз на берег и всю свою оставшуюся жизнь при виде рыбы вареной, жареной или живой падал навзничь и бился в падучей.
Отправившись в путь, газель ненадолго заехала в памятный пригород Затон, где остановилась перед подвалом одного из домов. Моргнув, померкла лампочка сигнализации над железной дверью, лязгнули затворы замков, Степан ненадолго исчез в темноте и вернулся с красным гробом в руках. «Еще нужны документы», – напомнил Димка, когда они тронулись в путь. «Свидетельство о смерти, справка из морга», – похлопал Степан по нагрудному карману рубашки. И в молчании прошел весь остальной путь, тем более, что Димка, укачавшись, уснул.
Ксения медленно опустилась на стул, услышав горестную весть. Долго молчала, невидяще уставясь перед собой. «Я так и знала, что добром это не кончится», – проговорила наконец. И заплакала: «Как же так, Степан Иванович, как же так?, – когда он, утешая, стоя перед нею на коленях, гладил ее волосы. – Почему вы его не уберегли? Вы же обещали?»
– Я не смог. Была перестрелка в городе. Вы ведь слышали. Я не сумел заслонить его от всех пуль. Простите меня, Ксения Александровна. Я не всемогущ.
В прибранной на скорую руку избе установили гроб, собрались застигнутые черной вестью соседи. Бабушки в черных одеждах, выпроводив мужчин из дома, выполняли свою извечную работу – встречать и провожать людей на белом свете. Они омыли покойника, одели в чистые одежды, уложили в гроб, сложили его руки на груди, вставили между неживых пальцев свечу и зажгли ее. В комнате с задернутыми занавесками, с накрытыми черным крепом зеркалами сразу стало темно и запахло, как в церкви, – ладаном и чем-то неживым.
Отрешенно, пребывая в какой-то прострации, сидела в углу Ксения, предоставив распоряжаться по дому пришлым людям. Витька со Степаном отправились на кладбище, заказать могилу. Димка, белобрысый и одетый как девочка, дабы не вызывать вопросов, забился в угол сада, где и уснул на скамеечке между кустов смородины. Проснулся он от голосов Степана и Ксении Александровны, звучавших неподалеку.
– За что вы меня так, Ксения Александровна? Я ведь от чистого сердца. Ваш брат перед смертью просил меня помочь вам. Это лишь малая толика того, что я могу сделать.
– Вы уж простите, Степан Иванович, не возьму я эти деньги. Не приносят они счастья. Те, что дал брат, оставлю, а эти не возьму.
– Как же так, – потерянно промолвил Степан, – я ведь от чистого сердца.
Ничего не ответила Ксения Александровна, но уткнула глаза в землю и замолчала. И в этой тишине, глядя на внешне беспомощную женщину, Степан понял, что она вычеркнула его из своей жизни. Что та, кто прежде, как ребенок, радовался подаркам брата, сейчас не то чтобы оттолкнула его, Степанову, помощь, но замкнулась в себе, ушла в свой мир, отвергла все, что сулил ей Степан и его вместе с его дарами. И что всей его чужеземной мощи не хватит, чтобы снова приблизится к ней. Много-много дней спустя скажет он Димке: «Она догадалась, что у меня нет сердца. Что здесь что-то не так. Я теперь перед нею, как прокаженный. В вечном долгу. И этот долг невозможно вернуть. Зачем ты дал мне человеческую душу, создатель. Невыносимая боль…».
А в те минуты, когда оставила его Ксения Александровна со спортивной сумкой у ног, набитой долларами и рублями, надолго застыл Степан. Потом перевел взгляд на Димку и был тот взгляд как у ребенка, которого несправедливо обидели.
– Спиноза, мы здесь не нужны.
Как побитые псы шли они со двора. Но взял мальчик в свою руку ладонь гиганта и вздох облегчения услышал в ответ. И ощутил легкое пожатие могучих пальцев. В машине Степан долго сидел, уткнувшись локтями в руль и вперив недвижный взгляд перед собой. «Спиноза, почему самую нестерпимую боль наносят те, кого мы любим?», – услышал Димка его слова и увидел глаза названного брата, обращенные к нему, Такие же глаза годы спустя он увидит на ликах святых в православных храмах и поймет, что уже тогда знал Степан слова, которые скажет ему Димка на железнодорожной станции Приютово много дней спустя.
На следующий день они, держась в сторонке, проводили в последний путь Юрия Александровича. Дождавшись, когда скромная процессия удалится с кладбища, подошли к могиле и положили на холм сырой земли две охапки цветов. И тихие и печальные отправились в Уфу.
Город встретил их замкнуто, настороженно. Нашествие призраков и прежние невнятные слухи о таинственном гипнотизере, о грабителях, перестрелка с которыми дорого обошлась случайным прохожим, вырвала обывателей из привычной колеи. Казалось, все также дымились заводские трубы, гудели автомобили, шумели людские голоса, но все эти привычные голоса и звуки звучали неуверенно, в каком-то томительном ожидании новых бед и чудес. Храмы не пустовали ни днем, ни ночью. Звонили, не таясь колокола церквей, усиленные динамиками разносились молитвы имамов из мечетей. «Господи Иисусе» и «Аллах Акбар» произносились к месту и не к месту. Испуганными становились взгляды и взрослых и детей при любом внезапном движении и шуме, исчезла дерзость водителей на дорогах, толстокожая братва умерила свою наглость и заодно поборы с ларьков и киосков, к месту и не к месту повторяя: «Все мы люди, и все не без греха».
Проселочными дорогами, минуя посты на въезде с телекамерами, выставленными ведомством генерала Коршунова, въехала газелька в Уфу проселочной дорогой и медленно покатила по грузовому тракту в окружении таких же газелей, бычков, КАМАЗов. Два-три цепких взгляда постовых гаишников мгновенно тухли, натыкаясь на лицо Степана. Без приключений, бросив на краю города грузовик и приобретя на автомобильном рынке потрепанный жигуленок, добрались наши герои до Сипайлово – растущего микрорайона города в излучине Уфимки. И благодарно прижался к Степану Димка, когда из окон снятой им квартиры увидел вдали силуэт родного дома.
– Нам еще долго ждать?
– Думаю, нет. Кое-что уточню, намечу дорогу, по какой ехать, подготовлю машины. Все надо сделать не так, как тогда второпях. Мы просто не должны ошибиться, слишком дорого это обходится. Кстати, я придумал, как тебе поговорить с мамой.
– Ну да? Ты молоток!– Димка даже толкнул от восторга Степана.
– Молоток? Идиома. Судя по тону, это хорошо хотя и непонятно. Но неужели ты сомневался в моих способностях? У меня много времени для мыслей. Это будет не встреча, – разговор на расстоянии. За нею слишком плотно следят. За нею, за Катей, за домом. Но вот те крест, мы их всех обманем.
– И когда я поговорю?
– Скоро. Ближе к вечеру. Когда твоя мама придет на работу.
Мальчик уселся у окна, положил руки на подоконник, а подбородок на руки и уставился в сторону родного дома.
– Я боюсь, – медленно проговорил он, – что они примутся за них вместо меня.
– Не посмеют. Главный, кто приказал в нас стрелять, наказан. На его столе я оставил бумагу, где написал, что у каждого из них есть матери, жены и дети. И что пощады никому не будет. Они меня поняли.
– Неужели так живут люди? – прозвучал детский голос, и наступила долгая тишина, потому что нечего было ответить.
Как и несколько дней назад подходило к концу рабочее время в безликой четырнадцатиэтажке. Следуя генетическим привычкам, о которых упоминалось выше, сотрудники банка раскладывали бумаги на столах, дабы хоть на ночное время придать этим столам пристойный вид, закрывали компьютерные программы и двери кабинетов, выпроваживали почем зря посетителей. В сопровождении двух неразговорчивых молодцев вошла в здание Валентина Михайлова и приступила к своим нехитрым обязанностям. Надо сказать, что когда она впервые в сопровождении явилась на работу, причем сопровождение это отнюдь не собиралось без нее покидать стен банка, управляющий отделением, как только до него дошел такой слух, тут же распорядился уволить ее от греха подальше. Но спустя буквально несколько минут до него снизошел из Москвы сам хозяин банка, чей предок в свое время потряс Россию и так рявкнул в телефонную трубку: «Повешу, мать твою, если Михайлову уволишь», что лишь ночью в постели утряслись поджилки заведующего. «Весь в прадеда Емельку, подлюга. Одно знает: «повешу», да «плетей всыплю» жаловался он жене. На что жена мудро ответила: «Зато деньги платит, и живем лучше других».
Так и в этот день сопровождающие наскоро прошлись по кабинетам, для проформы сунули Димкину фотографию под нос охране – не появлялся ли, – и, получив отрицательный ответ, встали у входной двери, цепко провожая взглядом, прежде всего, фигуристых банкирш.
Разгребая и убирая завалы бумаг, вытирая пыль и моя полы, Димкина мать, как и все последние дни, была хмурой и неразговорчивой. Она не понимала, что происходит вокруг их маленькой семьи. Она догадывалась, что истоки всему в таинственном спасении Кати, но почему чудо не может быть безнаказанным – этого она не могла понять. Страх за сына, сгинувшего неизвестно куда и неизвестно с кем, точил ее день и ночь. Молитвы к богу и поставленные за здравие свечи не помогали. Дома было еще хуже, чем на работе: такие же больные, как и у нее, Катины глаза, в которых замер вопрос «Димка? За что?», бормотания бабушки: «Внученек, где же ты? Валя, когда же он вернется?» – все это угнетало и резало по сердцу острее острого ножа.
Да и сейчас она, как робот, двигалась по кабинетам, переставляла, перекладывала, особо не вглядываясь и не прислушиваясь ни к чему, занятая своими безысходными мыслями, и вздрогнула, когда коснулась ее чья-то рука.
– Валя. Не оборачивайтесь. Это Сергей Иванович. За вами могут наблюдать. Идите в мой кабинет, убирайте мой стол и все поймете.
Сказанные полушепотом, эти слова завершились звучным: «Валентина, вы мой стол не убрали, забыли видно. И кстати, там, в корзине, мусор. Заберите».
Мужчина, который в свое время учил Димку обращению с компьютером, прошел мимо Михайловой навстречу холодным взглядам фээсбешников. Сама Валя, стараясь сохранить прежний понурый вид, словно нехотя повернула назад, скрылась за дверью указанного кабинета и, едва за ее спиной захлопнулась дверь, ринулась к знакомому столу. Рыская взглядом по поверхности стола и папкам бумаг, где она надеялась найти весточку от сына, до ее слуха не сразу проник негромкий Димкин голос.
– Мамка, мамка. Да ты на монитор посмотри. Здесь он, я.
Широко раскрытыми глазами взглянула та на мерцающий экран и увидела широко улыбающееся лицо сына и рядом с ним знакомого детину, который кивнул ей: «Здравствуйте мол».
– Ты его знаешь. Это Степан, мама. Теперь он мой брат и волшебник. Но это потом. У меня все хорошо. Не бойся. Скоро мы все уедем отсюда. Степан все придумает и сделает. Как вы там? – беспорядочно сыпались Димкины слова.
– Сыночек, живой. А почему волосы белые?
– И не только волосы, – хмуро буркнул Димка, – пришлось девчонкой одеться, чтоб не узнали. В общем, мам, времени мало. Через день, два мы вас увезем. Степан просит, чтобы вы ничего не боялись и ничему не удивлялись.
– Димка, – протяжно и нежно говорила Валентина и гладила монитор, где было лицо ее сына. Она не особенно вслушивалась в его слова, но, когда их смысл дошел до нее, вздохнула. – Димка, бабушка болеет.
– Как..?
– Третий день не встает. Лежит, молится. Твое имя шепчет. Старенькая она уже, сынок.
– Степан? – Димка обернулся к брату. Тот виновато взглянул не него и опустил глаза. – Ладно, мам, мы что-нибудь придумаем. Но запомни и нашим скажи – ничего не бояться и ничему не удивляться. Держитесь мам, немного осталось.
Экран померк, опустилась на стул Валентина. Вздрогнула, когда услышала скрип открывающейся двери, взглянула испуганными глазами. Настороженный фээсбешник сунул голову в кабинет, не удивился слезам на ее глазах – другими эти глаза он и не видел – рыскнул взглядом по углам – столам и исчез.
Только и оставалось перекреститься Валентине Михайловой: «Господи, что же будет». Но с той поры во всех сердцах маленькой квартирки поселилась робкая надежда.
– Как же так, Степан? – обернулся мальчик к другу.
– Я не властен над биологией, Спиноза.– Ответил тот на его возмущенный вопрос,– Я и раньше говорил. Я ничем не могу помочь твоей бабушке. Прости…
– Почему же ты молчал?
– Тебе и так не сладко. Если бы узнал про бабушку, ты мог совершить какую-нибудь глупость, и все бы тогда пошло насмарку.
– Она…, – хотел было Димку спросить, будет ли жить бабушка, но побоялся узнать правду, которая могла быть горькой. И отвернул лицо в сторону.
По молчаливому уговору все заботы о скором спасении были оставлены на потом. И решили они воздать должное всем, кто причинил им горе.
Все началось с вопроса, который может быть только у взрослеющих детей.
– Степан, почему люди такие?
– Не знаю. Когда я смотрю на вас, мне кажется, что есть люди, как птицы, и есть люди, как змеи. Одни летают, стремятся к солнцу, обжигают крылья, падают на землю. Простор и воля – им судьба и бог; часто-часто бьются их сердца и коротки их жизни. Другие, подобно змеям, прячутся среди травы и камней и терпеливо и холодно ждут, когда птицы упадут на землю, чтобы пожрать их. Не знают змеи, что такое сердце, и солнце для них – не маяк, а печка. Мир, как это ни грустно, не может состоять из одних только птиц или одних только змей. Есть вещи, которые не исправить.
– И что же делать?
– Наверное, что можешь. Глядишь, что-нибудь, да получится.
– А те, кто меня бил, кто они?
– Они бандиты, работали по заказу. Кто отрубил тебе палец, был дядя одного из тех в джипе. Он хотел показать, что мстит за племянника, хотя работал за деньги.
– Ты сказал «был».
– Да. Мой друг Юрий сказал: «Убийц убей». Я так и сделал.
– А если не убивать? Если просто сделать людей добрыми. Ты так можешь?
– Нет. Это будут уже не они, а я. И у меня не хватит рук и ниток, чтобы дергать их как в кукольном театре и говорить за них.
– А кто ему платил эти деньги, Степан? – вдруг задумался Димка. Значит был еще кто-то.
– Ты прав. Ты на самом деле прав, мой юный брат. Рано я успокоился. Тот выполнял чужую волю. Беда к нам пришла от другого человека, – как в трансе с закрытыми глазами, словно всматриваясь в невидимое и недоступное Димке, – забормотал Степан, уселся в угол комнаты и стал раскачиваться из стороны в сторону. – И если бы не он, все было бы иначе, Спиноза, Как я проморгал. Ты подожди немного, я разберусь. Я найду того, кто все затеял. Я исправлю.
– Могу я вместе с тобой, – попросил Димка, сам не ведая, что его ждет.
– Хорошо, – ответил Степан, также не догадавшись и не разумея, какое испытание ждет неокрепший мальчишеский разум.
Так сердце Димки погрузилось в ад. Стал ли он Степаном или тот проложил мостик между собой и Димкиным мозгом, но как в калейдоскопе замелькали перед ним жизни Сливака, Карелы, других. Он видел поруганные мужские и женские тела, их стоны, и боль, которую испытывали они, испытывало и его тело, раздираемое насилием. Он становился теми, кого резали, жгли и убивали, и плоть его, пронзаемая ножами и пулями, трепетала в последних судорогах жизни, лишь за мгновение до смерти покидая обреченные тела. От всего этого зашатался Димка и рухнул на пол. И перед тем, как погрузится в спасительное забытье, губы его прошептали: «Как много боли, Степан…».
Тот, кто причинил им горе, на следующий день стоял у могилы Кудрявцева и слушал рассказ Костика. О том, как через номер упомянутой резидентом машины вышли на ее владельца. О бесполезной засаде, устроенной на квартире. О соседях, что ненароком обмолвились о Бирске, куда Кудрявцев ездил к сестре. О том необычном, что недавно случилось в этом городе, напоминая события в Уфе.
По знаку Костика дюжие молодцы из свиты Карелина подтащили к ним упирающегося богатыренка из тех троих, что воспитывал император Кудрявцев. Хмуро смотрел на лежащего в пыли от последнего тычка мальчонку сам Карелин. Снял темные очки, сел на край ограды, не заботясь о чистоте брюк. Обвел взглядом небо, деревья, кресты на могилах. Остановил его на лице пацана.
– Расскажи мне, что ты видел, что знаешь,– медленно, словно обдумывалось каждое слово, звучал его голос. – Можешь не спешить. Но вот насчет того, что можешь не бояться, этого я обещать не могу. Все зависит от твоей памяти и чистосердечия. Говори все, абсолютно все, я сам решу, что важно, что неважно.
Испуганный мальчишка, как на духу, поведал о Витьке Кудрявцеве, с которым он и его друзья грабили ларьки. О Витькином дяде, грянувшем как гром среди ясного неба. О кинжале, наполовину загнанным в дуб, о раках, которых они увидели на дне Белой.
– Сам я не видел, как привезли Витькиного дядю мертвым. Вечером услыхал, – продолжил он. К гробу не подходил. Не то, чтобы боялся, но так, не люблю. Один из тех мужиков, что нас везли тогда, тоже не подходил, сбоку держался. Пойми, что у него на уме. В автобус тоже не сел, следом поехал на газельке.
– Один он был?
– Вроде да, других не было.
– Мальчик был с ним?
– Нет. Девчонка была. Белобрысая. Корявая какая-то.
– Как это, корявая?
Пожал плечами парнишка.
– Ну, неловкая какая-то. Все спотыкалась.
– Волосы черные?
– У мужика не совсем. Темноватые
– А у девчонки?
– Нет. Светлые.
– Точно?
– Вот те крест, – мальчишка перекрестился.
– Еще что добавить можешь? Про мужика этого, про девчонку. На какой машине уехали, цвет, номер. Может вмятины, царапины какие?
– Не заметил, отвлекся. Откуда я знал, что это важно?
– Это важно, мальчик. Очень важно. Пока ты будешь вспоминать и говорить, ты будешь жить. И это суровая правда. Потому что никто не должен знать, что я был здесь и интересовался этими людьми.
Сник было пацан от этих слов. Но вдруг выпрямился, бросил дерзко.
– Ну и черт с тобой. Я уже умирал один раз. Кудрявцев не ты. Сильный был и добрый. Не тебе чета. В тебе одна злоба.
Сверкнули глаза Карелина обок от пацана, и вошел тому под лопатку длинный и тонкий клинок разбойничьей финки. Без звука упал он на траву и навсегда застыл. Страшными оказались взрослые игры, в которые втянулись парнишки.
Когда кавалькада черных джипов направилась к дому Ксении Александровны, раздался в одной из них телефонный звонок. Выслушав несколько слов, протянул Костик аппарат Карелину.
– Николай Владимирович, это Меньшов говорит, водитель вашей супруги. Тут такое дело, не мне судить…
– Слушаю. Короче.
– После обеда выскочила из дома, – по-военному четко донесся голос, – Вскочила в машину, помчались в Гостиный двор, все говорила «быстрее, быстрее». Там вышла, принесла два чемодана, сейчас понесла их домой. Да, еще, взяла у меня ключи от машины, сказала сегодня не нужен.
– Какого черта отдал?
– Так сами ж говорили. Сколько раз такое было.
– Ладно. Найди ребят во дворе. Глаз с нее не спускать. Быть всегда со мной на связи.
– Николай Владимирович, чемоданы выносит. Мишка с нею.
– Делай, как сказано.
Карелин грязно выругался.
– Час от часу не легче. Мчи, что есть духу домой (шоферу). Что-то случилось, Костя (помощнику)? Что-то случилось?
На выезде из Уфы недалеко от последнего КПМ в районе аэропорта стояла задержанная братвой машина жены Карелина. Маленький мальчик с любопытством выглядывал в окно вместе с такой же любопытной мордашкой котенка. «Мама, мама, мы скоро поедем. Мама, мама, папа скоро приедет», – то и дело раздавался его звонкий голосок, от которого теплело сердце. Но тревога не сходила с лица его мамы, и кусала она губы и прижимала к плечу русую головку, уверяя: «Скоро, скоро, мой сладенький».
Взвизгнув остановился чернокожий джип мужа, стихла сирена. Вытянулись бравые молодчики при виде хозяина. Хотел было старший подбежать, доложиться, отмахнулся от него Карелин.
– Маша, в чем дело?
Бросилась та ему на грудь со слезами на глазах.
– Колька, я должна увезти Мишку. Ты все поймешь, когда увидишь кассету.
– Какую кассету? Маша, что с тобой?
– Я приехала с Мишкой домой. Когда вошла, работал телевизор. Я точно помню, что когда уходила, он не работал, но он светился. Там был ты на экране. Я не буду рассказывать, ты сам увидишь. Крутилась пленка, и шел фильм.
Я уеду, Колька. Я уеду и спасу Мишку. И ты тоже должен уехать, пока не поздно. Когда ты увидишь фильм, ты все поймешь. Я испугалась не фильма, нет. Я знала, за кого выходила замуж. Я испугалась того, как этот фильм мог возникнуть и как он появился в нашем доме. Человек не мог это сделать, Коля. И все то, что творится в городе – это все одно. Надо бежать отсюда. Здесь нечистая сила. Здесь не чудо в нашем городе, не спектакль. Здесь сатана. Я поеду к матери. Ты найдешь нас там. Пойми, Мишка – это главное, что у нас есть.
– Хорошо, езжай Маша. Главное успокойся и езжай. Я разберусь и позвоню.
– Ты только береги себя.
– Ладно. Про деньги ты знаешь.
– Да. Береги себя. Ты нам нужен.
– Не бойся. У тебя еще будет три медведя. Все будет хорошо.
Поцеловал Карелин жену. Надолго прижал к себе сына, потискивая пухленькие ручонки, пока тот дергал его за волосы и смеялся заливистым детским смехом. И поехал назад в проклятый неведомой силой город. Смахнул слезу на дороге. Мелькнула непрошенная мысль «не к добру я расчувствовался».
Он сразу узнал эту избу. Ее закопченные бревенчатые стены, тусклый свет за грязными стеклами окон. Засаленный стол и груду долларов на нем – первую огромную добычу. Узнал себя, Костика, Шайтана. Странно было видеть со стороны то, что порой прорывалось в жутких снах, заставляя хрипеть, вскакивать в поту и искать пистолет под подушкой. Словно не себя он видел на этот раз, когда вставил в видеомагнитофон кассету, о которой говорила жена, и нажал кнопку пуска.
Странным было видеть себя со стороны. И вальтер Шайтана, смотрящий ему в глаза, и прыжок Костика, когда тот принял в себя пулю, назначенную ему, Кареле. И свою звериную волчью схватку с Шайтаном, когда голыми руками рвали они друг друга на части. И приползшего Костика с кровавым следом за собой, из последних сил не руками – зубами – рвущего шею Шайтана и тем давшего еще одну спасительную секунду, достаточную, чтобы хрустнул кадык врага. И себя в пароксизме ненависти отпиливающего ножом голову Шайтана. Только отшвырнув ее в сторону, почувствовал он тогда, что остался жив. И красные от чужой крови губы Костика, когда он хрипло визжал: «Мы его взяли, Карел. Мы его взяли».
Прошлое вернулось к Карелину. Навалилось, задушило. Не помня себя, вскочил он, закричал в белизну потолка.
– Слушай ты, тварь небесная. Если ты все можешь, убей меня. Ну, убей, – рвал он одежды на груди. Но молчали родные стены. Тогда он схватил пистолет и начал палить в телевизор, картины на стенах, кресла. – Что ты молчишь. Тварь. Трус несчастный. Выйди, поговорим.
На излете, непонятно из какого угла донеслось до него словно эхо: «Зачем? Недолго музыка играла…». И вроде бы даже мелькнула тень, или были то глюки в глазах Карелина. Но сколько он не бесновался потом, ломая и круша все вокруг, ни звука, ни тени не появлялось.
А ночью к нему пришли покойники. Он проснулся от прикосновения ледяных рук, полупьяный с трудом открыл глаза и в ужасе вскарабкался всем телом на подушку. Мужчины и женщины, молодые и старые стояли вокруг, распространяя смрад, и глухо, безучастно и безнадежно, словно не веря в исполнение своих слов, шептали: «Забери нас отсюда Карел. Земля сырая, студеная, косточки ломит. Согрей нас». И мужчины тянули к нему свои ледяные руки, а женщины старались прижаться своей ледяной грудью, чтобы согреться. Что было сил, отталкивал их от себя, Карел, но они все тянулись и тянулись. Бросился он из дому, в чем был, и лишь на улице оставила его нечисть.
На следующий день в самом элитном бизнес-центре города напротив торгового центра «Юрюзань», где покойный Кудрявцев менял десять рублей на тысячу, царили бардак и суматоха. И было это вызвано тем, что по блистающим и благочинным коридорам здания шел мужчина, от которого все шарахались, как от чумного. Надо сказать, что был этот мужчина вида действительно необычного: грязный, замызганный, в порванной одежде, и воняло от него за версту непонятно чем. Впрочем, кладбищенские работники сказали бы, что несло от него тленом, смешанным с грязью. Но распугивал он встречных скорее не своей неприязненной внешностью и запахом, но тем, что шел он без головы.
Нет, голова у него была, да только не там, где положено, а под мышкой. И вела эта голова себя соответственно своему положению.
– Вправо, вправо шагай, придурок. Осторожно, ступенька, – командовала она телу, – Вот так, бестолочь окаянная. А ты что уставилась, дура кучерявая? – встреченной девушке – Мертвяка что ли живого не видела? Ух ты, лапонька. Пощекотай-ка ее под микитками (это рукам).
От всего этого разбегались лощенные девки-секретарши или сползали беззвучно по стенам на пол, вызывая глумливый хохот головы: «Барышни кисейные. Забурел, Карел, забурел. Таких цыпочек топчет».
Миновав приемную, откуда бочком выскочили ошалелые охранники, мертвяк пинком распахнул дверь, уверенно вошел в кабинет, будто не раз здесь бывал, аккуратно поставил голову на стол и развалился в кресле. После чего голова облегченно вздохнула: «Давно не виделись, Карел. Давненько». Поводя окрест выпученными глазами, голова заметила пачку сигарет на столе, скомандовала рукам: «Ну-ка, дайте закурить». Руки достали сигарету, вставили между губ, поднесли зажженную зажигалку. Голова задымила и в перерывах, пока руки то и дело вставляли и вынимали изо рта сигарету, проникновенно говорила.
– Зачем ты мне голову отрезал, Карел? Не по-людски это. Нехорошо. Душа мечется от сердца к мозгу. Покоя нет. Собери нас вместе, Карел. Похорони по-христиански, чтобы в одном гробу тело с головой. И тебе камень с души, и мне легче станет.
Молча достал Карелин пистолет из ящика стола, протянул мертвяку: «Убей».
Покачалась голова на столе.
– Ну, нет. Легкой смерти хочешь. У каждого свой срок. Не тебе ли знать это? Сколько кому дадено, сколько тому отбыть. Не по мне амнистия.
Снова взял пистолет Карелин, приставил к виску, нажал курок. Глухо щелкнул затвор без выстрела. Бросил пистолет на стол.
– Помоги мне умереть, Шайтан. С утра стреляюсь, пуля не идет, нож изгибается.
Заговорил в ответ Шайтан, но изменился его голос и догадался Карела, чей он.
– Двенадцать он убил. Любой как я. Двенадцать к одному – неравный счет. Пусть смерть ему милее жизни станет. Двенадцать ужасов смертей и после смерть, так будет справедливо.
– Ты не Шайтан, – словно проснувшись, заговорил Карел, – Ты тот, кого зовут Степаном. Зачем ты здесь, Степан? Зачем мешаешь жить? Ты думаешь, что наведешь порядок. Что воцариться доброта и справедливость? Все ложь. Убьешь меня – придут другие волки.
«Ну, хорошо, давай поговорим» – откинулось тело Шайтана на спинку кресла, и в углу кабинета показался Степан, сидящий на корточках у стены.
– Идущие на смерть приветствуют меня – терять им нечего и каждый стал собой. Что скажешь ты в свое оправдание, Карел. Или хотя бы, что посулишь ты мне. Что я нужен тебе – понятно. Ты хотел возвыситься с моей помощью. Но зачем ты мне? Во всякой сделке, как ты знаешь, должен быть взаимный интерес.
Воспрял Карел, сглотнул слюну.
– Я знаю людей, что стоят у власти. Их тайны, их грязное белье. Знаю, как они обокрали свой народ. Мы можем использовать их в своих интересах. Со мною ты возвысишься быстрее.
– К чему мне их грязное белье. Любой мой каприз они исполнят, считая своим собственным капризом. Насилием я балуюсь слегка. Что до возвыситься – на небесах нет места человеку.
– Я знаю человеческий мир. С моей помощью ты овладеешь им. Знаю потоки денег – этой крови современности. Мы направим их в нужное русло, и мир станет нашим.
– Я пришел спасти этот мир, а ты зовешь его погубить. Тогда ты враг мне.
– Я не враг. Враг не может быть слаб, как я. Я увидел цель, недоступную другим и не мог поступить иначе. Я хочу быть с тобой. Неважно зачем. Возьми, в конце концов, мою душу.
– Зачем? Глупейшее заблуждение людей в безмерности своих ничтожных душ. К тому же твоя бесчестна и продажна, а я служу тому, кто чист сердцем. Не странно ли, – повисли в воздухе слова, – лишь та душа бесценна, которую ничем не подкупить. Я знаю женщину,… а впрочем что тебе?
– Тогда зачем ты здесь? Кому ты нужен? У тебя нет желаний и страстей. Ты – робот, автомат. Ты мешаешь нам жить. Зачем театр, который ты устроил? Ты затеял свару среди нас и сам же не радуешься ей. Ты просто тварь…
– Я послан небом, глупый человек. То, что ты называешь театром, все эти пистолетные пульки, жизнь одна, другая… – такая мелочь. Мои спектакли впереди. В них будут играть не актеры, но народы и цивилизации. Не тысячи и не десятки тысяч, но мириады человеческих существ запляшут танец под мою свирель. И мне ты предлагаешь свою руку, тому, кто держит миллиарды рук в своей.
– Тогда убей меня. К чему эти детские игры.
– Есть кое-что страшнее смерти. А убить? – такое сделают другие, недолго ждать