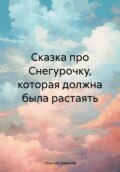Георгий Шевяков
Степан. Повесть о сыне Неба и его друге Димке Михайлове
Очарованная мечтами, вызванными словами брата, Ксения туманно смотрела вдаль и видела себя счастливой и беззаботной.
Они еще долго пили чай в маленькой кухоньке, где с трудом можно было повернуться. Они то взахлеб, перебивая друг друга, то скупо и понимая с полуслова, обсуждали города, где можно жить, квартиры, обстановку, тысячу мелочей, из которых состоит повседневная жизнь человека в городе от выноса мусора до покупки бриллиантов. И успокоились, когда спохватились: «А где же Степан»? «Здесь я, здесь, – шумно вошел в домик добродушный гигант. – Не хотел мешать. А вы, Ксения Александровна, – дотронулся он до локтя женщины, – в словах брата не сомневайтесь. Все так и будет, что бы ни случилось».
Словно убаюканная тепло улыбнулась Ксения ему в ответ, и только много дней спустя слова «все так и будет, чтобы не случилось» предстали перед ней во всем их зловещем смысле.
– Ну ладно – хлопнул себя по колену Юрий Александрович. – С одним делом покончили. Где теперь этот юный отпрыск, недоросль и шалопай?
Виноватый взгляд сестры был ему ответом. Но тут, словно в спектакле, где действие ни на миг не прерывается, хлопнула калитка и ломкий мальчишеский бас произнес: «Мам, ты дома? Чья это машина у ворот?»
«Заходи, заходи, к нам Юрка приехал» – вся светясь каким-то испуганным светом, надеждой и страхом эту надежду потерять, воскликнула женщина, распахнула дверь и семнадцатилетний юноша появился на пороге. Вновь были объятия, шумные приветствия, чай на столе и жадный аппетит подростка, который со словами «Ну классно» налетел на колбасы, окорока и прочие лакомства. Между тем по знаку брата Ксения, словно по делам, вышла к соседям, а Кудрявцев плотно усевшись напротив племянника и знаком показав Степану быть под рукой, приготовился было начать обещанный разговор, когда тот сам дал повод к откровению.
– Ты чего, дядь Юр, банк взял?
– Я банки не беру, они сами ко мне приходят.
– Классно. Научишь, – все так же беззаботно и шутя, дожевывая колбасу, произнес подросток.
– Почему не научить. Запросто, если в тюрьму не сядешь?
– Ты чего, дядь Юр? – мальчишка аж поперхнулся. – Типун тебе на язык. На кой ляд мне в тюрьму?
– Как это на кой, – невинно произнес дядя, доставая из кармана пиджака и расправляя на столе лист бумаги. – Как это на кой, ежели заслуженно. Вот, например, 12 апреля ты с Никушиным Виталием, Борзовым Петром и Николаем Гращенко в три часа ночи вскрыли киоск на улице Коммунаров и унесли оттуда один ящик водки, пять блоков сигарет «Соверен», которые потом и продали за тысячу рублей с копейками. В прокуратуре города по факту ограбления заведено уголовное дело за номером 149 дробь 12. Статья УК такая-то, срок от трех до восьми лет. Дальше, 29 апреля в том же составе…
– Ты чего, дядь Юр, белены объелся, – испуганно вскочил мальчишка из-за стола.
«Сесть», – рванул как граната в комнате громкий окрик Степана, сопровождаемый оглушительным ударом широченной ладони по столу, и его фигура, нависшая над пацаном, вдавила того обратно на табуретку. – «Я полковник Алмазов, служба внутренней безопасности ФСБ, друг твоего дяди. И я не позволю, чтобы ты пропал и чтобы у него – кивок в сторону Кудрявцева, – были такие родственники и из-за них неприятности». И в подтверждение своих слов железной рукой обхватив тонкую шею мальчишки, он приподнял его над столом вместе с судорожно прижатой к заду табуреткой и хлопнул об пол. Пацан, хотя и вытаращил глаза, выдержал такой натиск, а вот табуретка сломалась. Но как ни смешна была ситуация, никто не смеялся, Степан и Кудрявцев выдерживали условленную игру до конца. Под стальными взглядами взрослых мальчишка выбрался из обломков. И в довершении разговора не просто пистолет, вроде Макарова, но мощный «магнум», из которого можно убить слона, хлопнув, положил Степан на стол, так что тот вздрогнул в унисон с Витькиной головой, но не сломался.
– Я не шутки шутить приехал, ди-тят-ко, – зловеще по слогам произнес Степан последнее слово. – Я все могу, – пальцем закивал он на бумажный лист на столе, – И все знаю. От меня не уйдешь. А с кодлой твоей я разберусь, да так, что весь город задрожит.
Не менее пяти минут стояла потом в доме тишина, так что Ксения, прислушиваясь к звукам из дому, начала тревожится. Но потом мужчины вместе с перепуганным, потерявшим весь свой залихватский вид Витькой вышли из дому. Бросившейся к ним сестре Кудрявцев сказал: «Ты, Ксюша, не томись. Сейчас разберемся с его знакомыми и вернемся домой. И все станет хорошо. Вот увидишь». Мужчины сели в четверку и уехали, а женщина долго смотрела им вслед, потом села на крылечко и стала ждать.
В кафе на улице Ленина (такие уж были времена, что центральные улицы всех городов и деревень России назывались именем злобного карлика, затеявшего самую кровавую смуту на Руси) было тихо и немноголюдно. Степан пока остался в машине, а дядя с племянником уселись за столиком у окна, заказали чай и, попивая его, изредка перебрасывались словами.
– Дядь Юр, ты не думай, что я какой-то закоренелый бандюган, – волнуясь и оправдываясь, шептал Витька. – Они меня угощали, на дискотеку вместе ходили, ну выпить там, покурить вместе. А потом на «атасе» попросили постоять. Не мог же я отказать, дядь Юр?
– Запомни, Витя. Прежде чем что-то делать, подумай, чем это может кончиться. Если бы ты попался милиции, то неважно, на стреме ты стоял или шуровал в киоске. Сел бы ты в тюрьму, и даже я не смог бы тебе помочь. Матери бы горе навек принес, род бы наш опозорил. Да и жизнь бы свою сломал. Стала бы она – эта жизнь у тебя – как день и ночь: тюрьма да воля, пьянки да лесоповал. Ни просвета, ни радости. Кто туда попал, Витька, не возвращается. Не телом не возвращается, душой пропадает. Вовремя твоя мать спохватилась. Не пустим мы тебя в такую жизнь. А что касается твоих …(он ненадолго умолк, обдумывая слово) «подельников», другого выражения здесь не подберешь, поверь, не друзья они тебе. Не из дружбы, приятельства, доброты или симпатии делились они с тобой сигаретами, вином, деньгами. Заманивали они тебя в свою стаю. Это как прокаженный мстить здоровым людям, стараясь заразить их своей болезнью, сделать подобными себе – гниющими, отверженными, обреченными, так и эти в кавычках «твои друзья» хотели сделать тебя мелким пакостным, злым.
– Они идут, дядь Юр, – прервал его шепот племянника, смотрящего в окно. – Вон те, в куртках.
Проследив его взгляд Кудрявцев увидел трех парнишек, пересекавших улицу, вида одновременно смешного и наглого. Их можно было назвать простыми и обычными ребятами, если бы не громадные не по размеру кожаные куртки, внутри которых вальяжно, судя по лицу, передвигались щуплые плечи, если бы не застывшее высокомерие на еще детских лицах, и неспешная вразвалочку покачивающаяся походка. Не как три богатыря, какими видимо представлялись они себе, на как три богатыренка шли они плечом к плечу через широкую улицу, заставляя ехавшие машины останавливаться. Два-три автомобильных гудка отнюдь не заставили их прибавить шагу, разве что крайний слева поднял руку в популярном, благодаря американским фильмам, жесте – с вытянутым средним пальцем, – демонстрируя свое отношение к окружающим, после чего гудки умолкли: связываться с ним никто не захотел. И святая троица торжественно и безмолвно вошла в кафе.
Только после того, как они уселись, расслабились, с хрустом потянулись все с тем же ленивым и скучающим выражением лица, только после того как по мановению пальца к ним подошла настороженная и недовольная официантка и приняла заказ, взгляд одного из них невысокого плотненького и плохо побритого, остановился на Вите и глаза не то чтобы раскрылись, но мелькнуло в них как бы живое. «Витек, сколько лет, сколько зим. Чапай доселе. Гостем будешь, – громогласно на весь зал пророкотал он и призывно махнул он рукой. – Посидим, покалякаем».
– Виктор! И эти колобки твои друзья? – интеллигентно, (что, надо сказать, у Кудрявцева всегда хорошо получалось) и громко, чтобы быть услышанным, произнес Юрий Александрович. – Ты меня удивляешь. Я был лучшего мнения о тебе. С твоими талантами и твоей родословной путаться непонятно с кем? Это абсолютный нонсенс. (Слегка разведенные руки только дополнили высшую степень возмущения). Наша бабушка в гробу перевернется, узнай она такое, Виктор. Она ведь была дворянских кровей. Разве можно так огорчать покойную бабушку?
– Че, че, ты че там лопочешь, недомерок? – раздалось со стороны вожака компании, уже другого, крупнее, подростка.
– А дедушка, красный командир, – Не обращая внимания, продолжал Кудрявцев. – Его именем названа улица в городе Свистоплятове. Ты позоришь его седины. Его натруженные в мозолях от сабли руки. Которыми он громил всякую бандитскую нечисть в суровые годы Гражданской войны.
Такого оскорбления и равнодушия владыка улиц и дворов стерпеть не мог. То был удар не просто по его личному достоинству, но по новым порядкам, которые он и иже с ним устанавливали, удар по касте новоявленных хозяев жизни, чье лицо он представлял в этом невзрачном кафе. И потому грозно нахмурившись и вытянувшись во весь свой обыкновенный рост и топорща локти, чтобы плечи под зловеще черной кожаной курткой казались шире, а также не вынимая рук из карманов для наведения страха, он, мерно ступая, подошел к столу наших друзей и стал напротив.
– Ну? Здесь будем говорить или выйдем?
– Конечно, выйдем, мальчик. При людях откровенно не поговоришь, да и выражаться при дамах зазорно, а с литературными словами ты, по-моему, не в ладах. Конечно, выйдем.
С этими словами Юрий Александрович поднялся, аккуратно поставил стул на место, потрепал по голове племянника: «Ты посиди, Вить, это недолго», – и пошел к выходу. Его противник, махнув подскочившим с мест корешкам рукой: «Один справлюсь», – отставая на три-четыре метра, вышел вслед за Кудрявцевым в холл.
Эти три-четыре метра и изменили для него роковым образом ситуацию. Все такие же скучающие глаза подростка раскрылись от изумления, когда дверь за ним захлопнулась. Вместе с этим звуком железной хваткой с каждой стороны тела были схвачены его руки и резчайшим безжалостным движением заведены назад. Одновременно и в правый и в левый висок, раздирая кожу, уперлись холодные стволы пистолетов, о чем он скорее догадался, чем увидел. И в довершении всего, поводя глазами, двух совершенно одинаковых детин в черных костюмах и белых рубашках с галстуками, зловещность вида кому усиливали непроницаемые черные очки на глазах, и которые и совершали с ним описанные действия, разглядел он искоса. Третьей, казалось бы, рукой правый из них сунулся в карман куртки, вытащил финку, нажал кнопку, демонстративно показал оружие Кудрявцеву и метнул в кресло у выхода. (До половины лезвия вошло он в полированный дуб, так что ничьи усилия не смогли его вытащить и служило это кресло впоследствии особо почетным посетителям). После этого также безжалостно толкнули руки его на пол вперед, заставив уткнуться носом в ботинки Юрия Александровича. И пальнули для острастки из пистолетов в потолок, откуда посыпалась на всех штукатурка.
– Ты че, братан, мы же свои, – только и смог прошепелявить дрожащими губами подросток, – мы ж тоже по понятиям живем. Как надо, так сделаем, только скажи. Ей богу, мамой клянусь.
– Значит так, щенок, – важно произнес Юрий Александрович, сидя как император в кресле. – Ближе чем на 100 метров к моему племяннику не подходить, никогда с ним не разговаривать, писем не посылать, по телефону не звонить. Случится такое, а я непременно узнаю, похороним… быстро … и очень больно. Я понятно объясняю?
– Братан. Да я, да мы, – только и мог, клятвенно и преданно смотря в глаза Кудрявцеву, проговорить подросток.
Тут распахнулась дверь, могучие соратники, услышав выстрелы и шум, пришли на помощь богатыренку. И точно также по два бугая совершенно одинаковых и точная копия первых в костюмах и черных очках с пистолетами возникли из пустоты и схватили каждого.
– Значит так, – грозно, войдя в роль, загремел императорский голос. – Не подходить, не разговаривать, забыть. Подробности он – тут Кудрявцев указал пальцем на распластанного пред ним подростка, – расскажет. Ну а чтобы понятней было, покажите-ка Степушки этим гаврикам, где раки зимуют. Да так, чтобы запомнили навеки».
Невероятное зрелище могли наблюдать спустя минуту у стен достопамятного кафе прохожие. Вдруг, не понять откуда, примчалась и с визгом затормозила у его крыльца пассажирская Газель с гигантским водителем в черном костюме и черных очках за рулем. Сама собой распахнулась у нее боковая дверь. Друг за другом вышли из кафе помятые с бледными полинявшими лицами три фигурки в огромных кожаных куртках, стиснутые каждый черноочковыми гигантами и огромными пистолетами у каждого виска. Невесть каким образом погрузилась достопамятная девятка в автомобиль, и тот рванул с места так, что задымились шины.
– Ну, братаны, – рассказывали много дней спустя, перебивая друг друга, герои происшествия, – думали все, последние минутки доживаем. Мафия пришла по нашу душу. Машина несется, тормоза скрипят, каждого держат так, что кровь в руках застыла, по стволу у виска. И главное, все одинаковые, как в кошмарном сне, не приведи его господь увидеть. В голове одно: сейчас выедем за город – и прощай белый свет, ладно еще могилки заставят копать, все на полчаса жизнь продлится, воздухом подышим, на травку, да на деревья посмотрим. Но нет, выехали за город, КП миновали, налево свернули. Ну, думаем, действительно, зачем время тянуть, могилки копать, ждать чего-то. Бирь впереди. Шлепнут и в реку скинут. Бирь – речка тихая, омутовая, уляжемся смирно, сомиков покормим. Нет, дальше мчимся, к Белой путь держим. Знать там и конец. Прощаемся друг с другом, не словами, какие уж тут слова: только рот раскроешь – пистолет в зубы. Глазами прощаемся, вспоминаем всех – и корешей, и отца с мамкою, девчонок недоцелованных. Точно, так и есть. Выехали на берег, вытащили нас из машины как мешки с мукой – волоком, к воде тащат. В голове одно: «господи, прости», да «за что господи». В воду заводят, ну теперь уже все – пуля в висок и душа в рай. Нет, волокут дальше. Под воду суют, по дну идем, не поверите. По камням, да глине, да корягам, вот те крест, что правду говорим. Дышать нечем, топят, братцы, не иначе. И тут головой каждого на дно, и светло стало как днем. Верьте, не верьте, братцы, но что было, то было. Вода, как чай бледненький стала, травка колышется, по дну раки ползают, клешнями шевелят. И норы на дне, а оттуда головы ихнии торчат, глаза как буравчики черные, усы шевелятся. И тут пропали киллеры, словно и не было их, как в воде растворились. Из последних сил рванули мы вверх, куртки, штаны скинули, отдышались и к берегу. Неделю дома пластом лежали, температура под сорок, еле выкарабкались. До сих пор грудь ломит, и раки перед глазами усами шевелят и глазками-буравчиками сверлят.
Вот такие дела. Сказал бы кто, не поверил бы. Да и самим сейчас с трудом верится.
Бесхитростно посмеивались собеседники и собутыльники парнишек, слушая их рассказ, не таясь, крутили пальцами у виска, так что вскоре пропала у тех охота откровенничать. Не попали потому их сумбурные россказни за полной фантастичностью в милицейские сводки, не стали они предметом внимания капитана Харрасова, что, как паук, раскинул свою сеть над Башкирией.
С того дня мир и покой воцарился в покосившемся бревенчатом домике на краю города Бирска. Витька усердно налег на учебу, готовясь к выпускным экзаменам. Ксения Александровна, молясь на брата и его внушительного спутника, под их давлением забрала свою трудовую книжку в отделе кадров швейной фабрики, где уже год не видели зарплату. Надо сказать, что не столько увещевания брата, сколько триста тысяч долларов – царский по тому времени подарок, надежно спрятанный в подполе, заставил ее так поступить. Подарок, да еще нехитрый расчет, который однажды она произвела. Дождавшись, когда в доме никого не было, Ксения вооружилась кургузым карандашным огрызком и на листочке бумаги произвела нехитрые расчеты. Цифры ее ошарашили. Получалось, что деньги, переданные ей братом, по тамошнему в те дни валютному курсу были равнозначны ее заработной плате за сто пятьдесят три года, четыре месяца и восемь дней. Восемь дней в расчетах ее доконали. «Это же надо же», – только и прошептала она, в пятый или шестой раз произведя нехитрые подсчеты и получив одну и ту же цифру, Смяла и сожгла в печи бумажный листок, чтобы, обнаружив его, не смеялись над ней домочадцы. И на следующий день с решительным лицом вырвала заветную трудовую книжку, где и было то записей: «принята на работу в 197… году» и «Уволена по собственному желанию в году 1998».
По этому случаю вечером посидела она с подружками за бутылочкой винца, излили они друг другу душеньки, попели песенки, поплакали наперебой над своими неудавшимися жизнями, проходимцами-мужьями, бестолковыми детишками. Потом наперебой стали подыскивать невесту Юрию Александровичу, так что тот от их натиска сбежал из дому, да так пьяненький и уснул в сарае, укрывшись старым зипуном.
А в остальном жизнь их текла спокойно и размеренно. И брат, и сестра ждали, когда Витька закончит школу, чтобы потом всем вместе перебраться в Уфу. Витька зубрил, сдавая экзамены. Ксения ходила на рынок, да в магазины, готовила, форсила в новых одеждах. Изредка появляющийся дома Степан не доставлял никому беспокойства, разве что прилипал к купленному по его просьбе компьютеру и круглые сутки порой торчал в Интернете. («Так надо по работе», – объяснял домочадцам Юрий Александрович, и те уважительно моргали ресницами). Бывшие Витькины знакомцы за версту обходили его дом, и, памятуя слова о недопустимости контакта с Витькой, подобострастно здоровались с его матерью, чем та, ничего не подозревая, гордилась.
По вечерам под цветущими яблонями нередко беседовали дядя с племянником о разном. О людях, жизни, работе, деньгах. Об огромном мире, что простирался вокруг и не ограничивался страной по имени Россия и планетой по имени Земля. Порою как завороженный слушал Витька монологи дяди об устройстве мира, вдвойне после поучения бывших друзей зауважал его, узнав о написанной книге. С горечью внимал его словам о сегодняшнем дне.
– Ты пришел в несправедливый мир, племянник. Мир априори не может быть справедлив, но тот, который сейчас у нас, несправедлив десятикратно. Сто лет назад наши великие предки затеяли построить царство добра и света на земле. Не их вина, что задуманное не вышло. Оно просто не могло получиться, природа человека стала препятствием мечте. Но в те дни… В те дни рабы отняли богатства господ. В них проснулось достоинство. Они отомстили за тысячелетнее рабство, когда их безнаказанно вешали, пороли, продавали, разлучая мужей и жен, родителей и детей. Они отомстили за свое вековое скотское состояние и были правы. И то, что они сделали, не раз уже бывало в истории. Благородны были их помыслы, и большой кровью заплатили они за победу. И весь этот человеческий мир, все эти могучие страны и народы – Англии, Франции, Америки ничего не смогли с ними поделать, не смогли поставить их на колени.
Но то, что происходит сейчас, что началось всего несколько лет назад и уже торжествует втихомолку, такого ни свет, ни время, ни история еще не видели. Все, что сделано нашим могучим и молчаливым народом в последние сто лет отнято у него. Отнято ложью и обманом. Никогда еще несправедливость не была так явна и сильна, как в наши дни и на нашей русской земле. Бандиты и проходимцы сейчас у власти. Одни грабят открыто, другие втайне и намного больше. Придумывая под самих себя законы, под прикрытием слов «демократия», «рынок» страну обездолили те, кому народ себя доверил.
Не знаю я, что будет. Боюсь, что разразится новый гром, сильнее и страшнее прошлого. Потому что это будет гнев отчаянья.
Внимательно слушал эти слова Степан, не раз скептически улыбался. Но однажды, провожая Витьку в школу, положил свою тяжелую руку ему на голову и сказал: «Сохрани в памяти слова своего дяди, юноша. У него светлая голова».
После сданного Витькой на четверку второго экзамена по русскому языку, мужская троица, приняв неимоверное количество еды от Ксении, отправилась на реку купаться, загорать, рыбачить, делать шашлыки. Погода стояла отличная, солнечная, слабый ветерок еле ворошил листья деревьев, первые комары еще не осмеливались покидать влажную темноту леса, но нестерпимо жалили всех, кто нарушал их покой. Ежесекундно отмахиваясь от их натиска, племянник с дядей с трудом набрали дров для шашлыка и растопили костер. Придав себе блаженный вид, словно отдыхая от непосильного труда, чему Кудрявцев, понимая, подыгрывал, Степан наблюдал за ними, мысленно, видимо, учась тому, чего не умел. Однако, уразумев несложность операций, просто о колено стал ломать толстые в человеческую руку жерди и бревнышки, вызывая восторг мальчишки. Потом он аккуратно докладывал дрова в костер и с удовольствием смотрел на огонь. Также быстро он уразумел искусство рыбной ловли, и после двух-трех, как бы нехотя, наблюдений за Витькиными манипуляциями стал умело насаживать червяков на крючок и забрасывать удочку. Вытащенный им их воды окунь привел его в такой дикий восторг, что стая ворон, уснувшая неподалеку, с громким гоготом поднялась в небо и недовольная улетела прочь. К удивлению Витьки окуня Степан отпустил в воду. «Пусть живет. Всякая тварь хочет жить на этом свете», – сказал он и удочку оставил.
Когда шашлык поспел, мужчины уселись в кружок, разлили по глоточку французского «мартеля», выпили и набросились на мясо, урча от голода и удовольствия. Дожевывая последний кусок, размягченный от коньяка и солнца Кудрявцев, словно что-то вспомнив, благодушно спросил: «Да, Степан, как там этот мальчик Спиноза? Чем занимается?» И кожей, шевелением волос на голове почувствовал нехорошее, страшное. Встретились глаза мужчин, не сговариваясь, отошли они в сторону, чтобы ничего не слышал Витя. И ответил Степан: «Его схватили бандиты и держат в подвале. Ему только что отрубили палец, чтобы он нас выдал, но он молчит». Застыли облака, померкло солнце в небе, умолкли далекие птицы, тяжелый камень вошел в грудь Кудрявцева, не давая вздохнуть. Мир перестал быть прежним. Стало тревожно и больно. Не глядя под ноги, не видя ничего вокруг, пошел он к машине, бросил на ходу Витьке: «Оставь здесь все, надо срочно ехать». Степан взгромоздился за руль. И на этом счастливые дни закончились.
А в Уфе тем временем происходило вот что. Сопоставительный анализ, проведенный в Москве, более чем двух десятков женских волос с теми, что были найдены в джипе, показал абсолютную идентичность вплоть до генной волос Катерины Михайловой 16 лет отроду, проживающей в отмеченном Харрасовым треугольнике на улице Уфимское шоссе. Вместе с нею в квартире жили мать, бабушка и черноволосый (здесь генерал Коршунов довольно хмыкнул и глянул на капитана) двенадцатилетний брат Дима. Наконец-то появился хоть какой-то конкретный результат; надо сказать все посвященные в тайну давно испытывали сомнение в выводах ученых и не раз и не два высказывали это сомнение генералу.
Был немедленно собран оперативный штаб, где наметили снять наблюдение отовсюду и сосредоточить все силы в одном месте. А также запросить дополнительную аппаратуру, переводчиков, читающих по губам и под предлогом ремонтных работ установить в квартире Михайловых подслушивающие устройства. Машина розыска едва начала разворачиваться, как произошел сбой, который и генералу и капитану мог привидиться разве что в самом страшном сне.
Через несколько минут после того, как оперативная группа вышла от генерала, в кабинете небезызвестного нам Костика – в миру Константина Львовича, личного секретаря всесильного упомянутого ранее Карелина – зазвонил телефон и мужской голос произнес коротко и четко: «Уфимское шоссе дом, квартира такие-то, семья Михайловых: бабушка, мать, Катя шестнадцать, Дима – двенадцать лет. Катя была в джипе, Дима рядом. У вас двадцать, от силы двадцать пять минут».
Еще через две-три минуты дежурная бригада Сливака, о которой мы упоминали, помчалась по указанному адресу. Там выяснилось, что все три женщины дома за бронированной дверью, которую не собираются открывать ни электрику, ни милиции, ни кому бы то ни было. Димка же, по словам дворовых мальчишек, находился на уроках в 114-й школе. Учитывая, что оставалось не более 5 минут из отпущенного бригаде времени, а на взлом квартиры и похищение женщин потребовалось бы времени значительно больше, за непредсказуемостью поведения и женщин и соседей, бригада после новой команды дружно рванула к школе, и там произошло следующее.
Женский голос в телефонной трубке, которую подняла рука директора школы, звучал взволнованно и тревожно.
– Екатерина Петровна, вы уж просите, что беспокою Вас. Я мама Димы Михайлова из 6-б класса. У нас с бабушкой очень плохо. Скорая даже в больницу вести не хочет, – тут голос совсем задрожал. – Екатерина Петровна, вы не могли бы отпустить его с уроков. Пусть кто-нибудь скажет. Ради бога …
– Конечно, конечно. Я распоряжусь. – крупная пожилая женщина встала со своего директорского кресла, вышла в коридор и послала к мальчику охранника.
Вызванный в коридор, Димка услышал горькую весть, крикнул Мишке Коломийцеву, чтобы портфель он занес к нему после уроков домой, выбежал из школы и помчался по малолюдной в то время улице. Навстречу ему скучающе шел молодой человек. Когда Димка пробегал мимо, он брызнул ему что-то в лицо из баллончика, отчего глаза мальчишки закатились. Еще один мужчина, шедший следом, подхватил падающее тело, и вдвоем с первым они занесли Димку в подъехавший автомобиль. Из проезжающих машин, быть может, и обратили на это внимание, но мало ли что происходит в городе…
Через двадцать минут, когда закончились занятия в школе, Димкин сосед по парте занес его портфель домой. Растерянно опустилась на стул Валентина Михайлова, услышав его рассказ, и зарыдали в голос мать и дочь, почуяв страшную беду. «Это из-за меня, из-за меня. Лучше бы я умерла тогда, мама», – причитала Катя. С широко раскрытыми глазами слушали эти слова с помощью подслушивающих устройств в здании ФСБ, подлое слово «измена» зашелестело в коридорах, и объявил почерневший лицом генерал Коршунов данной ему властью блокаду городу Уфе.
Остановились, заскрежетав тормозами, поезда на рельсах, застыли на взлетных полосах самолеты, многокилометровые очереди машин столпились на выездах из города, все проселочные дороги в радиусе ста километров перекрыли посты омоновцев. А в самом городе на перекрестках и между ними встали наряды милиции с короткоствольными автоматами, проверяя и изучая чуть ли не с лупой в руках буквально каждый сантиметр автомобилей. Первоначально матерясь, а в пятый и десятый раз лишь обреченно вздыхая, открывали водители багажники и капоты, вскрывали каждую сумку или коробку груза. Недовольно выходили и пассажиры, выкладывали документы, клали руки на капот, давая себя ощупывать. Нередки были и сцены с женским голосами от возмущенного «мерзавец» со звонким шлепком по щеке, до тихого «что же вы при людях-то, товарищ милиционер?». Кинологи с собаками и хотя бы одной Димкиной вещью обходили поезда, трамваи, автобусы и просто улицы и переулки города. Горестный шепот «облава на черненьких» пронесся над городом. Черноволосые пацаны в возрасте от семи до пятнадцати лет попрятались, как тараканы, в щели квартир и дворов, а тех, кто не успел, под внушительным и почтительным (слава генералу Коршунову, ибо кусались они как пойманные волчата, и не будь строгого приказа, попало бы им на орехи от суровых спецназовцев) конвоем из двух-трех автоматчиков, державших за руки, сопровождались в ближайшее отделение милиции для выяснения личности. Вал телефонных звонков из всевозможных высоких сфер накатывался как лавина, как цунами на генерала Коршунова, и опадал проткнутым резиновым шариком от прямых генеральских слов в трубку: «Насрать. Будет, как я сказал». И еще одни слова твердил он как заклинание, мечась по кабинету: «Не могли они далеко уйти. Не могли. Печенкой чувствую, рядышком прячутся». Жизнь столицы остановилась. Готовилось беспрецедентное: в город стягивались войска, в полночь в окруженных кварталах группы их трех-пяти солдат с сотрудником милиции во главе должны были осматривать каждое предприятие, магазин, дом, квартиру, подвал, ни на что и ни на кого не взирая.
В камерах ФСБ заплечных дел мастера пытали уличенного в измене, но волшебные слова «миллион долларов в иностранном банке» грели тому сердце, пока оно билось. Сдал в эти часы храбрый генерал, опустил гордую голову. Понуро брел он вместе с Харрасовым из подвала, где на их глазах умер предатель, тихо твердил как заклинание: «Будем работать, капитан. Будем просто и честно работать. Такова наша планида». Мрачные мысли свои скрывали они друг от друга.
Димка пришел в себя от холода. С трудом разлепив тяжелые как гантели ресницы, он увидел амбала, который стоял над ним, широко расставив ноги. В руках тот держал ведро, из которого тонкой струйкой текла на голый Димкин живот ледяная вода. Вокруг было сумрачно; тонкая полоска грязного стекла под потолком едва пропускала свет, освещая темно-серые стены, какой-то черный ящик с торчащими из него и уходящими в стену трубами.
– Еще плеснуть? – спросил в это время амбал, обернувшись к кому-то сзади.
– Давай. Времени нет мусолить.
Еще одна порция колодезной воды хлестнула Димке на голову. Он закашлялся, хотел приподняться на локтях, но огромная нога придавила его грудь: «Лежи, сопляк». Из-за спины первого показался другой мужик, вроде бы и пожиже ростом и плечами, но всем своим нутром почуял в нем Димка не просто главного здесь, но беспощадного зверя. Он наклонился над мальчиком, схватил его за волосы, поднял, повернув к себе лицом, голову.
– Возиться некогда, щенок. Я знаю, что ты был там, и твоя сестра была, и что ты знаешь, кто это сделал. Кто вытащил твою поганую сестру из джипа? Кто убил в нем моего племянника? Пока не скажешь, отсюда не выйдешь. Ну…?
В страхе забилось было Димкино сердце, но слово «поганая», сказанное про его Катю, не то чтобы возмутило и прояснило сознание, но вызвало в нем отпор и слепящую, как солнце, ненависть. И еще мелькнула страшная и заслонившая все мысль, что живым его отсюда, чтобы он ни сказал, не выпустят.
В это время откуда-то издалека донесся крик: «Слива. Тут к тебе приехали». Мужик, державший Димку за волосы, отшвырнул руку так, что голова мальчика гулко ударилась о бетонный пол, и вышел, бросив на ходу амбалу наручники: «Прикуй». На затылке стало тепло и липко. На правой ноге что-то щелкнуло. И зашептал Дима про себя: «Катя, мама, бабушка. Катя, мама, бабушка», – черпая в этих словах силы.