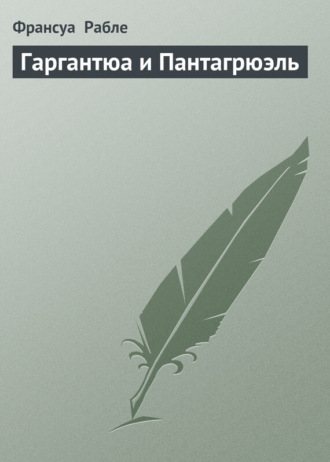
Франсуа Рабле
Гаргантюа и Пантагрюэль
ГЛАВА XI. Как господа де-Безкюль и Гюмвен тягались перед Пантагрюэлем без адвокатов
И вот Безкюль начал нижеследующую речь:
– Господин мой, правда в следующем: одна из женщин, принадлежащих к моему дому, пошла на рынок продавать яйца.
– Наденьте шляпу Безкюль, – сказал Пантагрюэль.
– Благодарю вас сударь, – сказал де-Безкюль. – В дальнейшем ей пришлось пройти между двумя тропиками, по на правлению к зениту, шесть серебряных бланков[145], поскольку Рифэйские скалы в этом году оказались бесплодными на фальшивые камни по причине возмущения, имевшего место между баррагуэльцами[146] и аккурсийцами из-за бунта швейцарцев, которые восстали и собрались в числе немалом, желая Новый год встретить под омелой и провести этот первый день года в раздаче супа быка а ключей от кладовых девкам, – чтобы те кормили овсом собак. Всю ночь, руку держа на горшке, только и делали, что рассылали депеши, пешие да конные эстафеты, дабы задержать корабли. Ибо портные собирались из краденых отрезков сделать трубу, чтобы покрыть ею море-океан, которое в этот момент, по мнению уборщиков сена, было брюхато, собираясь разродиться горшком щей. Однако физики говорили, что можно в урине его распознать признаки того, что оно наелось топоров с горчицей, – с тою же уверенностью, с какой можно выследить дрофу по ее повадке. Разве что господа судьи бемольным декретом запретят дурной болезни преследовать медников, – так как бездельники уже потрудились, протанцовав в такт песенки доброго Раго:
В огонь ногою лезь
И голову повесь.
«Ах, господа, божья воля неисповедима, и против дурного глаза возница пускает в ход хлыст. Когда Андроны приехали, как раз происходило очень пышное чествование магистра Антитюс де-Крессоньер. Но пост был перед этим, – ведь каноники говорят: «Beati lourdes, quoniam ipsi trebuchaverunt»[147], – пост был, клянусь святым Фиакром Брийским, такой строгий, только оттого, что
Не бывает троицы
Без того, чтобы хозяйству не расстроиться…
Но – «небольшой ветер прогоняет большой дождь».
«Принимая во внимание, чтобы сержант не так высоко ставил цель, стряпчий и подъячий не грызли ногтей на пальцах и своих гусиных перьев… Мы ясно видим, что каждый берется за нос, чтобы вглядеться и в перспективе рассмотреть место у камина, куда вешают питейный флаг с сорока змеями, необходимыми для двадцати поводов к отсрочке. Во всяком случае, кому не хотелось бы выпускать птицу «на поваров, так как, когда штаны наденешь навыворот, становишься беспамятным? Храни бог от зла Тибо Митэна».
Тогда Пантагрюэль сказал:
– Прекрасно, друг мой, прекрасно! Продолжайте не торопясь и без раздражения. Все ясно, говорите дальше.
– Так вот, милостивый государь, справедливо говорят: ум хорошо, а два лучше. Женщина, о которой я говорю, читая свои акафисты и паремии, никак не может укрыться под сенью университетских привилегий, – разве что по-евангельски погружаясь в воду, покрываясь семеркой бубен, извлекая метательное копье близ места продажи старых хоругвей, которыми пользуются живописцы фламандской школы, когда они хотят ловко подковать кузнечика. Очень удивляюсь, как это мир не кладет яиц, раз он так хорошо высиживает их.
На этом месте г-н де-Гюмвен намеревался его прервать и что-то оказать, но Пантагрюэль запретил:
– Клянусь животом святого Антония, кто позволил тебе вступать в разговор? С меня сходит седьмой пот, когда я слушаю речь вашего противника, а ты еще мне подбавляешь жару. Тише, чорт побери! Твой черед настанет, когда этот окончит. Продолжайте, – обратился он к Безкюлю, – не торопитесь.
Безкюль продолжал:
– Принимая во внимание, что
В прагматической санкции
Ничего об этом не упоминается,
и что папа разрешил всем испускать газы совершенно свободно, в случае, если сукно не исцарапано, какая бы нищета ни царила в мире, лишь бы только не подписывались левою рукою под развратом. Только что отточенная в Милане радуга для выводка жаворонков пришла к соглашению относительно упомянутой особы женского пола, дабы она разбила себе ноги выше колен, и с протестом против метания икры рыбками, которые с тех пор признаны необходимыми для понимания конструкций старых башмаков.
«Однако, Иван Теленок, троюродный ее брат, отодвинувшись от костра, посоветовал ей не вмешиваться в эту историю и вымыться щелоком для стирки, не зажигая предварительно бумаги.
«Господа счетоводы не будут иметь мнения относительно суммы немецких флейт, пошедших на сооружение очков для принцев, только что изданных в Антверпене. И вот, господа, таким-то образом плохая отчетность может послужить к выгоде противной стороны. Повинуясь желанию короля, я вооружился с ног до головы четырехугольными латами, чтобы поглядеть, как наши сборщики винограда подрезали свои высокие шапки, чтобы лучше играть в чурки. Ибо стояло несколько опасное время, пора ярмарки, и иные из вольных стрелков отказались от испытания, не потому, чтобы трубы не были достаточно высоки, но из-за подседов и трещин у нашего друга Бодишона. Благодаря этому во всем Артуа раковин было в этом году в изобилии, что составляло немалое подкрепление для господ дровоносов, раз без особого удовольствия обжирались турусами на колесах. Мое желание, чтобы у каждого был красивый голос, – тогда игра в мяч пойдет лучше, и те маленькие тонкости, что служат для этимологизирования высоких ботинок, легче будет спускать в Сену для обслуживания Моста Мельников, как это уже давно предписано указом Канарского короля, и указ этот все еще находится там в капитуляции.
«Посему-то, милостивый государь, я и настаиваю, чтобы ваше превосходительство высказались по этому делу вполне, с уплатой судебных издержек и возмещением проторей и убытков»[148].
Тогда заговорил Пантагрюэль.
– Друг мой, – сказал он, – к этому вы ничего не имеете прибавить?
– Ничего, – ответил Безкюль. – Я изложил все подробно и точно и без всяких изменений, клянусь честью.
– Ну так вы, – сказал Пантагрюэль, – вы, г-н де-Гюмвен, изложите, со своей стороны, содержание дела, хотя бы вкратце, но отнюдь не упуская ничего, что могло бы послужить материалом для приговора.
ГЛАВА XII. Как защищался перед Пантагрюэлем господин де-Гюмвен
Читатель достаточно ознакомился с образчиками судебного красноречия в пародии Раблэ, поэтому мы опускаем речь Гюмвена.
Пантагрюэль не нашел дела трудным, сделал два-три круга по зале в глубоком размышлении, производя впечатление осла, у которого чересчур затянули подпруги: его занимала мысль, как бы удовлетворить обе стороны, не «дав ни одной предпочтения».
Приговор его своим бессмыслием вполне отвечал речам обеих сторон.
ГЛАВА XIII. Как Пантагрюэль решил тяжбу двух вельмож Невероятная вещь, но обе стороны на состязательном судоговорение были вполне удовлетворены и одинаково довольны окончательным приговором
Что касается советников, а равно ученых, присутствовавших на суде, то последние в течение по меньшей мере трех часов пребывали в настоящем экстазе: до такой степени были они восхищены сверхчеловеческою мудростью Пантагрюэля, который так блестяще разрешил столь запутанное и щекотливое дело. Их удалось вывести из экстатического оцепенения, и привести в обычное состояние только с помощью уксуса и розовой воды, пролитых на них в значительном количестве.
ГЛАВА XIV. Рассказ Панурга о том, как ему удалось вырваться рук турок
Все сейчас же узнали и услышали о приговоре Пантагрюэля; он был отпечатан в большом количестве и внесен в архивы суда, так что все начали говорить:
«Соломон, которому только по догадке удалось вернуть ребенка матери, никогда не проявлял такой совершенной мудрости, как добрый Пантагрюэль. Мы счастливы, что он принадлежит нашей стране».
В самом деле, его хотели сделать докладчиком и председателем суда, но он отказался от всего, милостиво поблагодарив их.
– В этих должностях, – сказал он, – слишком много рабского, и слишком трудно спастись тем, кто занимает их; имея в виду человеческую испорченность, я думаю, что если свободные кресла ангелов не буду заполняться людьми другого сорта, то и через тридцать семь юбилейных лет не наступит последний суд, и Кузанус[149] обманется в своих предположениях. Но если у вас найдется несколько бочек доброго вина, я охотно приму их в подарок.
Они охотно это сделали и послали ему лучшего вина, что был в городе, и он хорошо выпил.
Но бедный Панург выпил здорово, так как был сух, как копченая селедка, оттого и двигался, как драная кошка.
Кто-то ему сделал замечание, когда он одним духом осушил большой кубок с красным вином, сказав:
– Потише, куманек, слишком вы неистово глотаете!
– К чорту, – сказал Панург, – здесь тебе не парижские жалкие питухи, что пьют точно зяблики и глотают корм только тогда, когда их, как воробьев, похлопаешь по хвосту. Ох, приятель, если бы я так же поднимался вверх, как я спускаю вино вниз, я был бы уже с Эмпедоклом выше лунной сферы! Но что за дьявол! Что это значит: это вино прекрасно, восхитительно, но чем больше я его пью, тем больше хочу пить. Я думаю, что тень господина Пантагрюэля порождает жаждущих, в роде как луна – простуду.
Все присутствующие рассмеялись. Пантагрюэль же, видя это, сказал:
– Панург, чему это вы смеетесь?
– Ах, сударь, я им рассказывал, как эти дьяволы-турки несчастны оттого, что они не пьют ни капли вина. Если бы в Магометовом Коране не было другого зла, кроме этого, – и то я ни за что бы не стал мусульманином.
– Но расскажите же мне, – сказал Пантагрюэль, – как вам удалось от них вырваться?
– Хорошо, сударь, – сказал Панург, – расскажу и не совру ни слова.
Разбойники-турки посадили меня на вертел, обернув салом как кролика; ведь я был таким поджарым, что без этого из меня вышла бы преплохая еда. Итак, когда они поджаривали меня, я поручил себя божественной благодати, памятуя о святом Лаврентии и надеясь на господа, что он освободит меня от мучений, что и случилось самым необыкновенным способом. От глубины сердца взывал я к господу богу: «Помоги мне, господи боже, спаси меня, господи боже! Господи боже, избавь меня от мучений, причиняемых мне предателями этими и собаками за приверженность твоему закону!» Тогда тот, кто меня поджаривал, заснул по воле божьей, – или, быть может, по воле некоего доброго Меркурия, ловко усыпившего стоглавого Аргуса. Заметив, что он больше не ворочает вертела, на котором я жарюсь, я посмотрел и увидел, что он спит. Тогда я схватил зубами головешку с того конца, где она еще не загорелась, и бросил ее в мучителя, а другую, размахнувшись, закинул под походную кровать с сенником господина моего поджаривателя, стоявшую возле камина.

«Огонь сейчас же охватил солому, с соломы перескочил на кровать с кровати на пол из сосновых досок, – материал горючий. Что особенно удачно, так это то, что головешка, кинутая мною в моего палача-разбойника, прожгла ему венерин бугорок и т. д. Но не будь он таким вонючим, он бы до утра этого не почувствовал… А тут он, ошалев, вскочил и закричал во всю глотку в окно:
«– Даль барот, даль барот! – что означает: «Пожар, пожар!»
«Он побежал прямо ко мне, чтобы окончательно бросить меня в огонь, и уже разрезал веревки, которыми были связаны мои руки, и стал резать веревки на ногах. Но тут хозяин дома, заслышав крик: «Пожар!» и завидя дым на улице, где он как раз гулял с несколькими пашами и муфтиями, бросился со всех ног к дому, чтобы помочь спасти свои драгоценности. Прибежав, он схватил вертел, на котором я был посажен, и убил им наповал моего мучителя, отчего тот и умер за недостатком ухода: он пронзил его вертелом несколько правее и выше пупка, проткнув третью долю печени, а также диафрагму. Через сердечную сумку вертел вышел наружу у плеча, между левой лопаткой и позвоночным хребтом.
«Когда он выдернул из меня вертел, я упал на землю, близ тагана, и ушибся, хотя не сильно, потому что сало смягчило удар.
«Мой паша, видя, что дело безнадежно и что дом его неминуемо сгорит и все имущество погибнет, взмолился всем дьяволам, призывая по девяти раз Грильгота, Астарота, Раппала и Грибуйля.
«При виде этого страх мой удесятерился: дьяволы сейчас сюда явятся за этим безумцем: будут ли они настолько порядочными, чтобы захватить и меня? Я наполовину изжарен, и сало, которым я нашпигован, будет причиной моего несчастья. Ведь здешние дьяволы – большие охотники до сала, о чем есть авторитетные указания в сочинениях философ Ямвлиха, и у Мюрмо в «Апологии калек и горбатых, посвященной великим учителям». Я сотворил крестное знамение и возопил: «Хагиос, атанатос, го тэос», и никто не пришел. Видя это, мой противный страж собирался себя убить, проткнув свое сердце моим вертелом. Он приставил его к своей груди, но недостаточно острый вертел не протыкал. Паша давил изо всей силы, но все было бесполезно. Тогда я подошел к нему и сказал:
«– Господин басурман, напрасно теряешь время: так ты себя никогда не убьешь, только ранишь, и всю жизнь будешь страдать. Хочешь, я тебя убью очень легко, так что ты ничего почувствуешь? И поверь, я уж многих так приканчивал, и все они великолепно чувствовали.
«– Друг мой, – говорит паша, – прошу тебя, я подарю тебе за это мой кошелек; вот он: в нем шестьсот серафов, и несколько бриллиантов и рубинов чистейшей воды».
– Где же они? – сказал Эпистемон.
– Клянусь святым Иоанном, очень далеко! – отвечал Панург. – Где прошлогодний снег? Вот главный вопрос, которым мучил Вильона, парижского поэта.
– Ну, кончай, – сказал, Пантагрюэль, – прошу тебя, чтобы мы знали, как ты нарядил своего пашу.
– Честное слово порядочного человека, – сказал Панург, – я не вру ни слова. Я его затянул полуобгоревшим, ни на что не годным гульфиком от штанов, руки и ноги связал ему накрепко, чтобы он не мог лягнуться; просунул вертел ему в горло, подвесил его, прицепив вертел к двум крюкам, поддерживавшим алебарды, разжег хорошенько огонь и стал поджаривать моего милорда, как коптят сельдей в камине. Потом, взяв его кошелек и висевший тут же на крюке кинжал, убежал во всю прыть. Бог знает, как болело у меня поджаренное плечо! Когда я вышел на улицу, я увидел, что все сбежались на пожар и тащат воду, чтобы его тушить. Видя меня, полузажаренного, надо мной, естественно, сжалились и вылили на меня всю воду, освежив меня, что мне было очень полезно. Потом дали мне немного подкрепиться, но я почти не ел, потому что для питья, по своему обычаю, они подали только воду.
«Другого зла они мне не причинили, кроме того, что один маленький негодяй турок, с горбом спереди, пытался потихоньку содрать с меня сало – я так его ударил по пальцам копьем, что он больше не посмел.
«Заметьте, однако, что поджариванье вылечило меня от ломоты в бедре, которой я был подвержен больше семи лет, с того бока, на котором оставил меня жариться мой мучитель, когда заснул.
«И вот, пока они занимались мною, огонь распространился, не спрашивайте как, и охватил тысячи две с лишком домов, так что кто-то из них заметил это и закричал:
«– Клянусь чревом Магомета, весь город в огне, а мы тут прохлаждаемся!
«И каждый побежал к своему дому, а я направился к воротам.
«С холма около ворот я обернулся назад, как жена Лота, и увидел весь город в огне, чем был так доволен, что от радости чуть не обмарался. Но бог покарал меня».
– А как? – спросил Пантагрюэль.
– Вот как. Когда, в великой радости, я смотрел на этот прекрасный огонь и кричал: «Ага, бедные блошки, ага, несчастные мышки! Вам предстоит дурная зима! В ваших норах огонь!» – из города выбежали, спасаясь от огня, шестьсот, – да нет, тысяча триста одиннадцать, если не больше, – собак, и больших и маленьких. Почуяв запах моего поджаренного мяса, они помчались прямо ко мне, и съели бы меня, если бы ангел-хранитель не вдохновил меня, научив прекрасному средству от зубной боли.
– А почему ты, – говорит Пантагрюэль, – боялся зубной боли? Ведь от ревматизма ты уже вылечился.
– Pasques de soles[150]! – отвечал Панург. – Разве зубная боль хуже, чем собаки, которые тянут вас за икры? Так вот – я вспомнил о своем сале и стал бросать его в середину кучи. Собаки стали грызться между собой из-за сала, а меня оставили. Я их тоже оставил. Так я вырвался, веселый и радостный. Да здравствует жаркое на вертеле!
ГЛАВА XV. Как Панург учил строить стены вокруг Парижа по совершенно новому способу
Однажды Пантагрюэль, чтобы отдохнуть от занятий, прогуливался у предместья Сен-Марсо, желая посмотреть фабрику гобеленов. С ним был и Панург, у которого всегда под плащом была фляжка и кусок ветчины: без этого он никогда не выходил; он шутил, что это его телохранители. Другой шпаги он не носил. Когда Пантагрюэль хотел подарить ему настоящую шпагу, он ответил, что она ему будет греть селезенку.
– Хотя бы и так, – сказал Эпистзмон, – но если на тебя нападут, чем ты будешь защищаться?
– Ударами сапога, – ответил он, – пускать в дело оружие запрещено.
На возвратном пути Панург рассматривал стены, окружавшие город, и с насмешкой сказал Пантагрюэлю:
– Вот прекрасные стены! Они как раз крепки настолько, чтобы защищать гусей, когда те линяют! Клянусь бородой, для такого города, как этот, такие стены никуда не годятся, потому что звука одной коровы достаточно, чтобы повалить брасов шесть.
– Друг мой, – сказал Пантагрюэль, – знаешь ли ты, что сказал Агезилай, когда у него спросили, почему столица лакедемонян не окружена стенами? Он показал на жителей и граждан города, столь опытных в военной науке, столь сильных и хорошо вооруженных, и сказал: «Вот стены города», указывая этим, что стены должны быть только из кости, и что для городов нет стен более верных и более крепких, чем доблесть их граждан и обитателей. Так и Париж настолько крепок большим количеством воинственного населения, что ему не нужно заботиться о постройке других стен. А кроме того, кто хотел бы окружить его стенами, наподобие Страсбурга, Орлеана или Феррары, не смог бы этого сделать, – столь велики были бы расходы и издержки.
– Пожалуй, – сказал Панург, – но все-таки недурно иметь, когда нападает неприятель, так сказать, каменное лицо, хотя бы для того, чтобы успеть спросить: «Кто там?» Что же касается огромных издержек, которые, вы говорите, необходимы на то, чтобы поставить стены, – Так я научу горожан постройке по совершенно новому и очень дешевому способу, – если они захотят угостить меня хорошей кружкой вина.
– А какому способу? – спросил Пантагрюэль.
– Я вас научу, – отвечал Панург, – только никому не говорите об этом. Я вижу, что в этом городе женщины дешевле камней: так вот из женских частей и следовало бы строить стены, при чем расставлять их в полной архитектурной симметрии: большие ставить в первые ряды; дальше – поднимая на два ската – средние, и наконец – маленькие. Потом прошпиговать – как большая башня в Бурже – затвердевшими шпагами, населяющими монастырские гульфики. Какой дьявол разрушит такие стены! Нет металла, который мог бы так сопротивляться ударам, и потом пусть выстрелы трутся об эти стены – вы увидите, как благословенный плод…[151] черт возьми! И к тому же молния никогда не ударит в них, потому что они святы и благословенны! Только я вижу одно неудобство.
– Ой! Ой! А какое? – сказал Пантагрюэль.
– То, что мухи до этого удивительно лакомы, – налетят и нагадят, и тогда все испорчено. Но против них тоже средство: надо хорошенько вымести их лисьим хвостом.
ГЛАВА XVI. О характере и обычных занятиях Панурга
Панург был среднего роста, ни высок, ни низок; его несколько орлиный нос был с изгибом, как ручка от бритвы. В то время ему было лет тридцать пять или около того; охотник до чужого, учтив и любезен, – только что несколько похотлив и с предрасположением от природы к одной особой болезни, в то время называвшейся «фот д’аржан», причинявшей боль ни с чем не сравнимую. «Faulte d’argent; c’est douleur non pareille»[152].
Тем не менее у него было шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным была простая кража. При этом он был озорник, шулер, пьяница, гуляка и забулдыга, каких мало в Париже. «А в остальном – чудесный человек»[153].
Он всегда измышлял что-нибудь против полицейских и караульных. Бывало, соберет троих или четверых парней, напоит их, как тамплиеров, к вечеру и ведет их к св. Женевьеве или к Наваррскому коллежу. Когда подходил обход, – а это он узнавал, кладя шпагу на мостовую, а ухо – рядом: если он слышал, что шпага дрожит, то это был верный знак, что обход близко, – тогда он и его товарищи брали какую-нибудь тележку, раскачивали ее и сталкивали со всей силой вниз: весь караул валился на землю, как куча свиней, а они убегали в другую сторону. За два дня он знал все улицы, переулки и перекрестки Парижа, как «Deus det»[154]. Другой раз рассыпал по пути, где должен был проходить патруль, порох и – как только патруль проходил – поджигал порох и развлекался, смотря, с какой грацией те убегают, думая, что огонь святого Антония охватывает их ноги.
Что же касается несчастных «магистрои искусств», то, встретив кого-нибудь из них на улице, никогда не пропускал случая сделать им какую-нибудь гадость: либо кинет навозу к ним на шляпы, либо привяжет сзади лисий хвост или заячьи уши, или сделает еще какую-нибудь неприятность.
Однажды, когда всем богословам было предписано отправиться в Сорбонну, он приготовил так называемую бурбонскую смесь, из чесноку, камеди, вонючей смолы, касторки, свежего, еще горячего навоза и развел ее в гное злокачественных язв. Ранним утром он жирно намазал этой смесью всю мостовую, так что сам дьявол не захотел бы прогуляться по ней, и всех этих добрых людей стало рвать при всем народе, будто они ободрали лису. Десять или двенадцать из них умерли от чумы, четырнадцать – заболели проказой, восемнадцать – нарывами, наконец – более двадцати семи схватили венерическую болезнь. А ему и горя мало.

Под плащом обыкновенно носил он хлыст, которым и хлестал без пощады, чтобы их подогнать, пажей, попадавшихся ему навстречу с вином, которое они несли своим господам. В его кафтане было больше двадцати шести кармашков и карманов, всегда полных всякой всячиной. В одном – пузырек со свинцовой водой и острый, как игла скорняка, ножичек, которым он отрезал чужие кошельки; в другом – флакончик виноградного сока, которым он прыскал в глаза встречным, в третьем – головки репейника с воткнутыми в них гусиными или петушьими перышками: он кидал их на платье и шляпы честных граждан, и часто устраивал им рожки, которые они и носили по всему городу, а иной раз и всю жизнь.
Тоже и дамам всаживал сзади на шляпу украшения, иной раз в виде мужских…
В одном из карманов у него была куча рожков с блохами и вшами (он собирал их на паперти св. Иннокентия с нищих). Через маленькие полые тростинки или перья, которыми пишут, он сбрасывал их на воротники наиболее жеманных барышень, которых встречал, он никогда не ходил на хоры, но всегда помещался внизу, между женщинами, как за обедней, так и за вечерней и за проповедью.
Был у него карман, полный крючков и крюков, которыми он любил сцеплять мужчин и женщин, пользуясь теснотой, – а особенно тех, которые носили платье из тонкой тафты. Расходясь, они рвали себе платья.
В другом кармане держал огниво, трут, кремень и все прочее в этом роде. Еще в одном – два-три зажигательных стекла, при посредстве которых приводил в бешенство мужчин и дам и заставлял их терять всякую сдержанность в церкви.
Еще в одном – у него был запас ниток и иголок, которыми он проделывал тысячи чертовщин. Как-то при выходе из Суда, он, увидев, что в большом зале монах-францисканец собирается служить мессу, предложил ему помочь облачиться. И пока его облачал, пришил стихарь к ризе и подряснику, и потом удалился, когда судейские расположились слушать богослужение. При словах: «Ite, missa est»[155], когда бедный монах хотел снять облачение, он с ним стащил и платье и рубашку, хорошо сшитые вместе, оголившись перед всеми до плеч и обнаружив свои органы – внушительных размеров, само собой разумеется. Чем больше он тянул, тем больше открывался, пока один из судейских не сказал:
– Что это, батюшка хочет заставить нас целовать его зад? Антонов огонь его поцелуй!
С тех пор было предписано святым отцам не разоблачаться при народе, а в своей ризнице, особенно не в присутствии женщин, так как они могут впасть в грех похоти.
Часто слышишь вопрос – почему это у отцов монахов такие длинные…?
Панург нашел прекрасный ответ:
– У ослов длинные уши, потому что матки их не покрывают головы новорожденных ослят чепчиком. От той же причины и это, ведь монахи не носят подштанников…[156]
Затем у него еще был карман, набитый пухом, который он бросал под платье на спину чопорным женщинам, заставляя их или раздеваться при всех, или плясать, как курица на углях, или кататься, как биллиардный шар; другие убегали вперед, он бежал за ними сам; а тем, кто раздевался, он тут же набрасывал на спину плащ, как вежливый и любезный кавалер.
Еще в одном кармане у него была склянка с деревянным маслом; Встретив нарядную даму или господина, он, как будто пробуя материю, замасливал и портил наиболее красивые части платья, приговаривая:
– Вот прекрасное сукно! Прекрасный атлас! Превосходная тафта, сударыня! Пошли вам боже исполнение ваших желаний: новое платье, нового друга, помоги вам боже.
И при этих словах клал руку им на воротник, так что пятно оставалось навсегда, так въедаясь в душу, тело и репутацию, что и дьяволу его было не вывести.
И под конец говорил своей жертве:
– Сударыня, берегитесь, не упадите, потому что здесь большая грязная яма.
Кроме того, у него был карман, набитый мелко натертым молочаем. В этот же карман он клал прекрасной работы носовой платок, который он стащил у придворной кастелянши, снимая с ее груди вошь (которую сам же и посадил туда).
Находясь в дамском обществе, он заводил речь о белье, клал руку на грудь и спрашивал:
– Голландское полотно, или из Эно?
А затем вытаскивал свой носовой платок и говорил:
– Посмотрите, вот это так работа! Это шитье Футиньяна или Фонтараби! – И встряхнув его у самого носа дамы, заставлял ее чихать без отдыху часа четыре.
А он в это время… как жеребец, а прочие дамы со смехом говорили ему:
– Что с вами, Панург? Ну и звуки!
– А это я контрапунктом вторю музыке носа этой дамы, – отвечал он.
В остальных карманах у него были наложены: щипцы, ключи для вырывания зубов, отмычки и другие инструменты, благодаря чему не было ни двери, ни сундука, которых он не сумел бы взломать.
Был у него карман и с бирюльками. Он играл в бирюльки так искусно, что казалось, пальцы у него прямо с руки Минервы или Арахнеи. И когда он менял тэстон или какую-нибудь другую монету, то, будь меняющий проворнее самого магистра Муша, Панург делал так, что пять или шесть бланков исчезали открыто, явно, безболезненно, и меняющий слышал только их запах.



