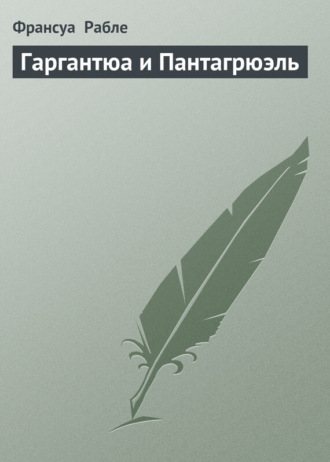
Франсуа Рабле
Гаргантюа и Пантагрюэль
ГЛАВА LVII. Какой порядок был установлен в жизни телемитов
Вся их жизнь распределялась не законами, статутами и правилами, но доброю и свободною волей. С постели вставали, когда заблагорассудится; пили, ели, работали, спали, когда приходила охота. Никто их не будил, никто не принуждал ни пить, ни есть, ни делать что другое. Так постановил Гаргантюа.

В их регламенте значилась лишь одна статья:
«ДЕЛАЙ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ»!
Ибо люди, свободные, благородные, образованные, вращаясь в порядочном обществе, уже от природы обладают инстинктом и побуждением, которые их толкают на поступки добродетельные и отвлекают от порока: этот инстинкт называют честью. Но те же люди, когда они подавлены и порабощены низкоподчинением и принуждением, отворачиваются от благородной склонности в силу которой они свободно стремились к добродетели, – для того чтобы скинуть с себя и сокрушить иго рабства; ибо мы всегда стремимся к тому, что запрещено, и жаждем того, в чем нам отказывают.
Благодаря этой свободе установилось похвальное соревнование делать всем то, чего хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь – мужчина или дама – говорил: выпьем! – все выпивали. Если говорил: сыграем! – все играли. Скажет кто-нибудь: пойдем, порезвимся в поле! – все соглашались идти. Шло ли дело об охоте, – дамы садились на прекрасных иноходцев и сажали сокола, кречета, ястреба или другого хищника на руку, обтянутую перчаткой. Мужчины держали других птиц.
И все они были так благородно образованы, что не было между ними таких, кто не умел бы читать, писать, петь, играть на музыкальных инструментах, говорить на пяти-шести языках, и на каждом языке писать как стихами, так и обыкновенной речью.
Никогда не видали таких храбрых, таких сильных, таких ловких в ходьбе и верховой езде кавалеров. Никто лучше их не владел оружием; не было людей бодрее и веселее, чем они.
Не видывали никогда и таких пригожих, таких милых дам, менее скучных, более искусных рукодельниц, как в шитье, так и во всякой честной и свободной женской работе, какие были там.
И потому-то, когда приходило время, что кто-нибудь должен был выйти из обители или по желанию родителей, или по какой другой причине, то он увозил с собою одну из дам, – ту, которая избрала его своим поклонником; и они вступали в брак. И если в Телеме они жили в преданности и дружбе, то продолжали еще лучшую жизнь в браке и до конца своих дней любили друг друга так же, как в день свадьбы.
Я хочу не забыть описать вам загадку, которая была найдена на фундаменте обители, на большой бронзовой доске. В ней говорится следующее:
ГЛАВА LVIII. Пророческая загадка
В длинных и темных стихах, заимствованных, за исключением двух первых и пятнадцати последних стихов, из сочинения Мелэна де-Сен-Желэ, предсказывается наступление смутных времен, когда сын восстанет на отца, и спасутся только те, кто до конца останется верным своим убеждениям.
В этих стихах видят намек на преследование реформатов. Вообще же оригинальность их только в форме, на чужой язык трудно передаваемой.
Мы оставляем без перевода и остроумное толкование этого пророчества, сделанное в самом конце этой заключительной в книге главы братом Жаном, который находит в этих апокалиптических строках вовсе не предсказание, но «В темных выражениях описанную игру в мяч».
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ И ГАРГАНТЮА
ПАНТАГРЮЭЛЬ, КОРОЛЬ ЖАЖДУЩИХ, В ЕГО НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ,
С ЕГО УЖАСАЮЩИМИ ДЕЯНИЯМИ И ПОДВИГАМИ
СОЧИНЕНИЕ ПОКОЙНОГО МЭТРА АЛЬКОФРИБАСА, ИЗВЛЕКАТЕЛЯ КВИНТЭССЕНЦИИ
1542 г.
ПРОЛОГ АВТОРА
Автор выражает уверенность, что все порядочные люди с увлечением зачитывались «Хрониками об огромном гиганте Гаргантюа», и считает их за это достойными великой похвалы и вечной памяти. Но его желание идет дальше: он советует всем забросить всякие дела и, не отвлекаясь ничем, выучить эти хроники наизусть, чтобы, в случае прекращения книгопечатания, быть в состоянии устно передать их потомкам, в виду их огромного значения для жизни. Эти хроники утешают охотников в их неудачах, облегчают зубную боль (если, обернув их в согретое полотно, приложить к больному месту), они помогают венерикам и подагрикам и т. д. Нет книги, равной хроникам по интересу и приносимой пользе. И публика доказала это, так как за два месяца этой книги было продано больше, чем библии за девять лет.
Побуждаемый успехом «Хроник Гаргантюа», автор, желая дать людям новую возможность для полезного времяпрепровождения, предлагает им другую книгу в таком же роде, но еще несколько лучше, в которой он рассказывает о великих подвигах Пантагрюэля. И пусть его поразят всякие болезни, если в его рассказе найдется хоть одно слово неправды; равно как пусть поразят всякие болезни того, кто не поверит безусловно тому, что он рассказывает в предлагаемых хрониках.
ГЛАВА I. О происхождении и древности рода великого Пантагрюэля
В начале главы рассказывается о том, что вскоре после убийства Каином Авеля наступил такой год, когда пропитанная кровью праведника земля была необыкновенно урожайна, особенно же на кизил, который был крупен, красив и вкусен, но обладал свойством заставлять каждого, кто его съест, распухать: у кого вздувался живот, у кого – плечи, и получались горбуны, из рода коих вышел впоследствии Эзоп; у кого вытягивались ноги, у кого нос, у кого уши, так что они могли из одного уха сшить себе полный костюм, а другим накрываться как плащом.
Иные же вырастали во всех измерениях, и от них произошли великаны. Первым из них был Шальброт, который родил Сараброта, который родил Фариброта, который родил Гюртали, любителя супа, царствовавшего во время потопа который родил Немврода, который родил Атласа, подпиравшего плечами небо, чтобы оно не упало, который родил Голиафа, который родил Эрикса, изобретателя фокусов.
Далее следует более пятидесяти имен знаменитых великанов.
В числе их встречаем известные имена: Полифема, Тифона, Бриарея Сторукого, Адамастора, Антея, Пора, «с которым воевал Александр Великий», еше раз Голиафа, Геммагога, Сизифа, «который родил Титанов, от которых произошел Геркулес», который родил Энея, который родил Фьерабраса, побежденного пэром Франции Оливье, другом Роланда, который родил Моргана который «первый в мире играл в кости с очками на носу»… В конце списка стоят имена: Грангузье, Гаргантюа и, наконец, «благородного Пантагрюэля, моего господина».
Закончив список, Раблэ высказывает от имени читателя недоумение: каким образом сохранились великаны во время потопа? В числе заключенных Ноев ковчег людей великана Гюртали не было; но он сидел верхом на ковчеге, как маленькие дети на деревянных лошадках, или как «большой бернский бык, убитый при Мариньяне» (т.-е. трубач, прозванный быком за то, что пользовался вместо трубы рогом быка; с ним мы встретимся в конце четвертой книги), скакал верхом на пушках. Именно он, Гюртали, спас ковчег, так как правил ногами вместо руля. Из недр ковчега ему подавали в трубу съестные припасы…
«Вы все хорошо поняли? Ну, так выпейте, только не разбавляйте вина водой. Если же вы не верите, – ну, и я не верю».
ГЛАВА II. О рождении грозного Пантагрюэля
В возрасте пятисот двадцати четырех лет Гаргантюа родил сына своего Пантагрюэля от своей жены, по имени Бадэбек, дочери короля аморотов в Утопии. Мать умерла от родов, ибо ребенок был столь чудесно громаден и тяжел, что не мог появиться на свет, не задушив своей матери.
Чтобы вполне понять, почему при крещении дали ему такое имя, надо вспомнить, что в этом году по всей Африке была такая великая засуха, что тридцать шесть месяцев три недели четыре дня и тринадцать с лишним часов и даже немного больше не было дождя, а солнце пекло так, что вся земля пересохла. Даже во времена Илии не было такого зноя, как тогда: на этот раз не было дерева на земле, на котором остался бы хоть лист или цветок; травы пожелтели, реки высохли, источники иссякли; несчастные рыбы, лишенные их родной стихии, в ужасе подпрыгивали и кричали на голой земле. От недостатка росы птицы падали замертво; волки, лисицы, олени, кабаны, козули, кролики, зайцы, ласки, куницы, барсуки и другие звери валялись повсюду на полях мертвые, с разинутыми пастями.
Жалко было смотреть на людей! Они ходили высунув язык, как борзые собаки после шестичасового бега. Иные бросались в колодцы, другие залезали в брюхо коровы, чтобы укрыться в тень. Гомер таких называл алибантами. Жизнь в стране замерла. Жалостно было видеть человеческие усилия, чтобы избавиться от этой страшной жажды. Настоящим подвигов было спасти святую воду для церквей, чтобы она не была уничтожена. Но советом господ кардиналов и святого отца было приказано, что каждый мог получать ее только раз. Несмотря на это, когда кто-нибудь входил в церковь, то можно было всегда видеть до двадцати несчастных страдальцев, теснившихся вокруг того, кто раздавал воду пришельцам, с разинутыми ртами, чтобы получить хоть капельку, точно злой богач в притче о Лазаре. О, как счастлив был в этот год тот, у кого был холодный и хорошо снабженный погреб!
Философ, обсуждая вопрос – отчего морская вода солона, – говорит, что в те дни, когда Феб позволил управлять своею светозарной колесницей сыну своему Фаэтону, – последний, несведущий в этом деле, не сумел проехать по линии эклиптики, проходящей между двумя тропиками солнечной сферы, сбился с дороги и настолько приблизился к земле, что засушил все лежащие под ним страны и прожег значительную часть, которую философы зовут Млечным Путем, а лифрелофры[132] называют Путем Иакова, хотя наиболее хитроумные поэты говорят, что Млечным Путем называется то место, куда пролилось молоко Юноны во время кормления ею Геракла.
Как бы там ни было, земля нагрелась до того, что неимоверно вспотела, отчего вспотело и море и стало соленым, потому что всякий пот солон. Вы убедитесь в этом, когда попробуете ваш собственный пот или пот больных венериков, которых заставляют потеть – мне все равно.
Нечто подобное произошло и в описываемом году. В одну из пятниц все отправились крестным ходом, с многочисленными молебнами и литиями, умоляя всемогущего бога соблаговолить воззреть на их бедствие милостивым своим оком… И вдруг молящиеся увидели, как из пор земли выступают крупные капли воды, точь-в-точь как пот у сильно потеющего человека. Бедняги обрадовались, так как считали возможным извлечь из этого для себя пользу, ибо иные объясняли это явление тем, что в воздухе не осталось ни капли влаги, от которой можно было бы ждать дождя и что земля восполняет этот недостаток. Иные же ученые говорили, что это идет дождь у антиподов, как рассказывает Сенека, в четвертой книге «Натуральной истории», говоря о происхождении и истоках реки Нила. Однако они ошибались, потому что когда кончился крестный ход и каждый захотел вволю напиться этой росы, то оказалось, что это рассол, – солонее и хуже, чем морская вода. И вот в этот самый день родился Пантагрюэль. Потому отец его и дал ему это имя. Ибо «Панта» по-гречески означает «все», а «грюэль» на языке агарян[133] – «жаждущий». Этим отмечалось, что в год, день и час его рождения все в мире жаждало. Это было как бы пророчество: отец младенца предвидел, что некогда тот будет властителем жаждущих. То же самое в тот же час было возвещено еще более очевидным знамением. Когда царица Бадэбек разрешалась младенцем и повитуз готовились его принимать, прежде всего из живота выскочило шестьдесят восемь погонщиков мулов, и каждый держал за уздцы лошак нагруженного солью; за ними последовали девять дромадеров, навьюченных тюками с ветчиной и копчеными языками, семь верблюдов, нагруженных угрями, и затем двадцать пять возов с луком-пореем, чесноком и зеленым луком. Это ужаснуло повитух; но некоторые из них сказал:
– Доброе предзнаменование, чудесная еда: мало мы, значит, пили. После такой пищи много надо вина.
И пока они болтали друг с другом, вылез сам Пантагрюэль, мо натый как медведь. При виде его одна повитуха сказала в пророческом вдохновении:
– Он родился весь в волосах – значит, совершит замечательные подвиги, и если будет жив, проживет долго.
Глава ІІІ. О скорби Гаргантюа по случаю смерти жены его Бадэбек
Когда Пантагрюэль родился, кто был смущен и угнетен, так это его отец Гаргантюа. Видя, с одной стороны, умершую жену Бадэбек с другой – родившегося сына Пантагрюэля, такого красивого и такого большого, он не знал, что ему говорить и что делать. Сомнение, смущавшее его разум, состояло в том, что он не знал, должен ли он плакать от горя по своей жене или смеяться от радости при виде сына. В пользу того и другого у него были софистические доводы, которые подавляли его, потому что хотя он рассуждал in modo et figura, но не мог их разрешить. Под тяжестью сомнения он оцепенел как мышь в мышеловке, как коршун в силках. Он говорил сам с собою:
– Должен ли я плакать? Да! Отчего? Оттого что скончалась моя добрая жена, которая была и такая и сякая, больше чем всякая другая. Никогда я ее не увижу! Никогда-то не найду подобной! Это для меня потеря непоправимая. Боже мой, боже! Что сделал я такого, чтобы ты так меня наказывал? Отчего не послал ты смерти мне раньше, чем ей? Жизнь без нее для меня мука… О, Бадэбек, моя милочка, моя маленькая крошка! (А в ней было в квадратных мерах три арпана с лишним.) О, моя голубка, башмачок мой, туфелька моя родная, никогда-то я тебя более не увижу! О, бедный мой Пантагрюэль, ты потерял свою добрую маму, ласковую свою кормилицу, возлюбленную свою воспитательницу! Злодейка-смерть, сколь ты злобна и жестока, похитив у меня ту, которой бессмертие принадлежало по праву!
Говоря это, Гаргантюа ревел как корова. И вдруг начинал смеяться как теленок, вспомнив про Пантагрюэля:
– О, мой маленький сынок, – говорил он, – мой п…чик, какой хорошенький! Как я благодарен богу за то, что он дал мне такого веселого, такого прекрасного и радостного сына. Выпьем! Бросим печаль! Принеси-ка вина получше, сполосни стакан, положи скатерть, гони собак вон, раздуй огонь, зажигай свечу, закрывай дверь, нарежь хлеб! Гони нищих вон, подай им то, что они просят! Возьми мой плащ; я надену камзол, чтобы лучше отпраздновать крестины.
Но при этих словах он услышал литию и панихиду, которую служили священники, хоронившие его жену, прервал себя на полуслове и, как исступленный, закричал:
– Господи боже, неужели горе мое не кончится никогда! Я не могу примириться с этим: ведь я уже не молод и старею с каждым днем; погода опасная, я могу схватить лихорадку, – чего доброго, сойду с ума. Честное слово, лучше плакать поменьше, а пить побольше. Супруга моя умерла; хорошо! Но, клянусь богом, слезами мне ее не воскресить. Ей теперь хорошо! Она, по крайней мере, в раю, если еще не лучше! Она молит бога за нас, она блаженствует, и ни несчастия, ни бедствия наши не тревожат ее.
«Бог хранит живущих; мне надо подумать о том, чтобы найти другую. Но вы вот, – обратился он к повитухам, – да где же вы? Добрые люди, я не вижу вас… Идите на похороны, а я тут понянчусь с сыном, – я очень расстроен и могу заболеть. Идите, да сперва выпейте как следует. Вы будете лучше себя чувствовать, верьте моему честному слову.
Те повиновались и отправились на похороны, а бедняга Гаргантюа остался в своем жилище. И написал эпитафию в стихах для надгробного памятника покойной своей супруге:
«Она скончалась, благородная Бадэбек, казавшаяся мне всегда такой милой и наивной, скончалась от родов. Лицом – Ревекка, телом – испанка, а дородством – швейцарка. Молите бога, да будет милостив к ней и да простит ей, если она в чем преступила его заповеди! Здесь покоится тело ее, беспорочно жившее и умершее в год и день, как она скончалась».
ГЛАВА IV. О детстве Пантагрюэля
У древних историков и поэтов я нахожу, что многие в этом мире рождаются самым необыкновенным образом, о чем долго было бы рассказывать; почитайте об этом Седьмую книгу Плиния, если у вас есть время.

Но вы никогда не слышали о чем-либо более чудесном, чем младенчество Пантагрюэля. Трудно поверить, в какой короткий срок он вырос и окреп! Это совсем не Геркулес, который убил, будучи в колыбели, двух змей, потому что эти змеи были очень маленькие и слабенькие! А Пантагрюэль в колыбели совершил действительно страшные вещи. Я не буду говорить о том, как за один раз он высасывал молоко из 4 600 коров, и как для того, чтобы построить печь для варки кашицы, были заняты все печники из Сомюра в Анжу, из Вильдье в Нормандии. И эту кашицу ему подавали в огромном колоколе – и теперь этот колокол показывают в Бурже, близ дворца. Но зубы у него были и тогда такие крепкие и сильные, что он отломил ими от посудины порядочный кусок, как это и видно. Однажды утром, захотев пососать одну из коров (кормилиц, как говорит история, у него никогда не было), он освободил одну из рук, которые были привязаны к колыбельке, ухватил корову за ноги и отъел у нее и вымя и полживота, вместе с печенью и почками, – он пожрал бы ее всю, не зареви она благим матом, точно схватили ее за ноги. На этот крик сбежались люди и отняли корову Пантагрюэля, но не удалось отнять у него ногу, и она осталась у него, и он съел ее, как вы съели бы сосиску. А когда у него хотели отобрать кость, он проглотил ее, как баклан рыбешку, – да еще приговаривая: – Хор!., хор!.. – Хорошо говорить он еще не умел, но хотел дать знать, что это вкусно и что только этого ему и надо.
Видя это, прислуживавшие ему привязали его к колыбели такими прочными канатами, какими привязан в Нормандской гавани огромный корабль «Француженка».
Но когда громадный медведь, вскормленник его отца, вырвался и стал облизывать его личико, так как кормилицы не обтерли ему губ как следует, то он освободился от названных канатов с такою легкостью, как Самсон, связанный филистимлянами, схватил господина медведя, разорвал его в клочки, как цыпленка, и сделал из него хорошую теплую закуску.
Тут Гаргантюа, опасаясь, как бы сын не причинил себе вреда, велел привязать его четырьмя железными цепями, а над колыбелью воздвигнуть целый свод. Одну из этих цепей можно видеть сейчас в Ла-Рошели, она висит между двумя большими башнями в гавани. Другая находится в Лионе, ьтретья – в Анжере, а четвертую украли дьяволы, чтобы связать Люцифера, который в ту пору освободился от цепей, так как его страшно мучили колики в животе, потому что он съел за завтраком фрикасе из души какого-то сержанта.
Поэтому можно поверить тому, что говорит Николай Лира относительно одного места в псалтыре, где сказано: «Будучи еще малолетним, Ог, царь басанский, был столь силен и крепок, что понадобилось в колыбели сковать его железными цепями»[134].
После этого Пантагрюэль был мирен и спокоен, так как не мог легко порвать цепей, да и негде было в колыбели размахнуться рукой.
Но вот однажды отец его Гаргантюа в день большого праздника устроил прекрасный пир для принцев своего двора. Я думаю, что все придворные чины настолько были заняты прислуживанием на пиру, что о бедном Пантагрюэле совсем позабыли, и он был оставлен в полном одиночестве.
Что же он сделал? А вот слушайте, добрые люди, что он наделал, начала он пытался разорвать цепи руками, но не смог, потому что они были слишком крепки. Тогда он забрыкал ногами так, что сломал край своей колыбели (который все-таки был сделан из толстого бревна в семь квадратных ампанов, и таким образом спустив ноги, он коснулся ими земли. Тогда он поднялся, неся люльку на спине, как черепаха свою коробку, когда она лезет на стену. А спереди казалось, что встал на дыбы целый корабль. И в таком виде вошел он к ужинающим, да с такой отвагой, что напугал всех присутствующих.
Но так как руки его были привязаны, он не мог ими схватить ничего съестного, а, сильно изогнувшись, старался захватить языком что-нибудь со стола.
И, увидев это, его отец сразу понял, что младенца оставили сидеть голодным, и велел его расковать, по совету присутствовавших принцев и гостей, да и врачи Гаргантюа были того мнения, что если Пантагрюэля продолжать держать в колыбели, он всю жизнь будет страдать каменной болезнью.
Освободив от цепей, мальчика посадили и хорошо накормили, а он ударом кулака в середину своей люльки раздробил ее на сто тысяч кусочков, сделав невозможным свое возвращение туда.
ГЛАВА V. Деяния знаменитого Пантагрюэля во дни его молодости
Так рос Пантагрюэль, со дня на день развиваясь, на глазах отца, чему тот радовался в силу естественной любви. Гаргантюа велел сделать для сына, пока он был маленьким, самострел, чтобы бить птичек. Тепер этот самострел называют большим шантельским арбалетом.
Затем, отец послал его в школу учиться и проводить отроческие и юношеские годы. Мальчик отправился в Пуатье, чтобы учиться, и преуспел. Там он, видя, что школьники не знают, на что тратить досуги, стал жалеть их.
И вот однажды он взял да отломил от большой скалы, называвшейся Паслурдэн, камень в двенадцать квадратных туазов и толщиной в четырнадцать ампанов и свободно положил его на четыре подпорки среди поля, чтобы школьники, когда им нечего было делать, могли забраться на этот камень с бутылками, ветчиной и пирожками и пировать и вырезать ножиком свои имена на камне. Камень этот и сейчас называют «Вознесенным Камнем». В память этого события, никто не вносится в матрикулы университета в Пуатье, пока не напьется из Конского источника в Крустель, не пройдет по Паслурдэну и не слазает на «Вознесенный Камень».
Как-то, читая прекрасные хроники о своих предках, Пантагрюэль нашел, что Жоффруа де-Люзиньян, прозванный Жоффруа Большой Зуб, дед троюродного брата старшей сестры тетки зятя дяди невестки его тещи, был погребен в Мальезэ. Поэтому он однажды взял отпуск, чтобы навестить могилу, как подобает порядочному человеку. Отправившись из Пуатье с несколькими товарищами, они прошли через Лэгюже, навестив благородного аббата Ардильона, через Люзиньян, Сансэ, Сэль, Колонж, Фонтенэ ле-Конт, где приветствовали ученого Тирако, и оттуда прибыли в Мальезэ, где он посетил могилу старого Жоффруа Большой Зуб. Он немного испугался, увидя его изображение в виде свирепого человека, наполовину обнажившего свой меч из ножен, и спросил причину этого.

И местные каноники объяснили ему, что единственной причиной было то, что «Pictoribus atque poetis»[135], т.-е. что художники и поэты пользуются свободой рисовать, что им угодно, как им заблагорассудится. Он, однако, не удовлетворился их ответом и сказал:
– Он изображен так не без причины. И я подозреваю, что перед смертью ему нанесли оскорбление или обиду, и вот он требует у родственников отмщения. Я уж доищусь, в чем дело, и поступлю, как надо.
Он захотел побывать в других французских университетах. Поэтому, минуя Ла-Рошель, Пантагрюэль сел на корабль и приехал в Бордоге, где он не видел особых занятий, кроме того, что корабельщики играли в лунки на песке.
Оттуда он поехал в Тулузу и там изучил танцы, а также искусство фехтования обеими руками, как это в обычае у студентов местного университета. Он не остался там после того, как увидел, что студенты поджаривали живьем своих профессоров, как копченых сельдей, и сказал по этому поводу:
– Да не будет угодно богу, чтобы я умер на костре. К чему мне греться, когда я от природы охотник до выпивки!
Потом он отправился в Монпелье, где нашел хорошиё вина из Мирво и веселую компанию. Он собирался было там изучать медицину, но рассчитал, что врачевание – беспокойное дело и грустное, и что доктора воняют клистиром как старые черти. Захотел был изучать законы, но, увидев, что этому обучались всего трое шелудивых мальцов да один плешивый, уехал.
От Моста Стражей через Луару до амфитеатра в городе Ниме[136] он употребил на путь менее трех часов, что кажется делом скорее божеским чем человеческим. Он прибыл в Авиньон и не провел в этом городе и трех дней, как влюбился: потому что женщины в этих местах очень любят играть в жмурки с объятиями, ибо это папская земля. Видя это, его наставник, Эпистемон, увез его в Баланс, в Дофинэ. Но и там тоже занимались не слишком, а вдобавок городские озорники колотили школяров. Это не понравилось Пантагрюэлю, и однажды в воскресенье, когда все танцовали и один школьник собирался потанцовать, а драчуны его не пустили, Пантагрюэль напал на последних и погнал их прямо на берег Роны, где и намеревался потопить их всех, но они попрятались, как кроты, под землю. Отверстие можно видеть и сейчас.
Отсюда в три шага и один прыжок он достиг Анжера, где е было очень не дурно, и он прожил бы там подольше, если бы не выгнала их чума. Тогда он поехал в Бурж, где долго учился, много работая на факультете права. Он говаривал впоследствии, что юридические сочинения ему напоминают блестящий плащ, вышитый золотом и чудесными драгоценностями, а по краям обшитый сухим г…м.
– Так как, – говорил он, – на свете нет более красивых, изукрашенных и изящных произведений, чем тексты Пандектов, но их толкования, то есть глоссы Акдурса, столь грязны, подлы и вонючи, как навоз и гадость.
Из Буржа он приехал в Орлеан, где нашел множество неотесанных парней – студентов, которые устроили хорошее угощение при его приезде. Он научился в короткий срок игре в мяч так хорошо, что прослыл великим мастером. В этом городе студенты только и делают, что упражняются в этой игре.
Они возили его иногда на острова, где отличались в состязаниях стенка на стенку.
Что же касается того, чтобы там ломать голову над книгами, то этого он избегал из боязни испортить зрение. Даже некий профессор из тамошних не раз утверждал в своих лекциях, что ничто так не вредно для зрения, как болезнь глаз.



