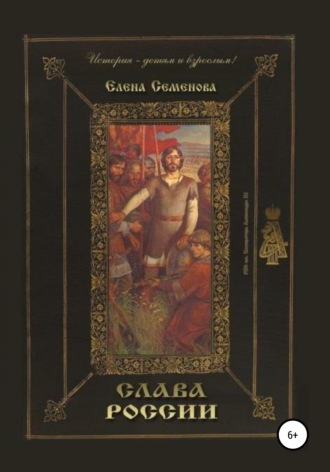
Елена Владимировна Семёнова
Слава России
Треск, грохот, столп огня и пыли возвестил о том, что угловая вежа обрушилась, и путь к сердцу Рязани открыт. Последние ратники заняли круговую оборону, и через считанные минуты смяла, накрыла их визжащая волна рыжих малахаев.
– Хар-р-ра! Хар-р-ра!
Все смешалось перед глазами Еремея. Только мелькали ненавистные татарские рожи, а сам он, не обращая внимание на раны, резал, колол, рубил проклятых захватчиков. Казалось, что конец уже настал, но тут нежданно протрубил рог воеводы Яромира…
– За веру Христову! За княгиню Агриппину! За Русь! – покрыл потонувшую в воплях, грохоте и звоне мечей площадь густой бас последнего предводителя рязанского воинства.
Пятьсот гридней, приведенных им, бросились на татар, беспощадно рубя их. В самую гущу боя въехал и сам он, восседая на гнедом коне. Он прекрасен был в этот миг, величавый, еще крепкий телом, седовласый старец!
– Ратуйте, православные!
На трубный голос его, казалось, поднимались и снова шли в бой не только раненые, но даже убитые.
Тем временем со стороны ворот появилась татарская конница, предводителя которой, Батыева сродника Бари, бывший раб Еремей узнал сразу. Остатки русского войска отступили к самым стенам храма, живым щитом заслоняя затворившихся в нем.
– Ратуйте, православные! – в последнюю атаку, отбрасывая татар назад, ринулся с малым отрядом славный Яромир, и мечом к мечу сошелся с самим Бари. Молод и ловок был татарский тысяцкий, но грозной силой стал на его пути старый русский воевода, защищавший свою госпожу и свой город.
Пронзенный копьем Еремей упал на ступени собора. Его и еще нескольких раненых успели внести внутрь, пока Яромир удерживал натиск поганых…
Когда он очнулся, то понял, что на этот раз все, действительно, конечно. Снаружи неслись торжествующие вопли победителей. За окнами плясали языки пламени, а сам собор все более наполнялся удушливым дымом. Нечестивцы подожгли храм, решив погубить в огне всех, кто укрывался в Господнем доме!
Укрывшиеся понимали это. Все духовенство, облаченное в белые ризы, служило панихиду – по всем павшим, по всем бывшим в храме, по самим себе. Посреди храма гордо высилась облаченная в подобающие княжескому достоинству одежды фигура Великой Княгини. Подле с ней стояли ее снохи, другие женщины, дети, лежали, а иные и силились подняться немногочисленные раненые. Их обходили священники, причащали в последний раз. Сподобился и Еремей приобщиться… Это было последнее утешение, дарованное обреченным мученической смерти.
Дым становился все гуще, и пламя занималось в самом соборе, трещали стены и своды его, готовые обрушиться. Задыхались, кашляли женщины, срывались от смога голоса певчих, и все же уходящие в вечность продолжали выводить сладостную молитвенную песнь.
***
Южные князья живут своими заботами. Ратились здесь промеж собою Изяслав Киевский, Даниил Галицкий и Михаил Черниговский. То Михаил у Даниила Галич отбивает, то Даниил Чернигов осаждает, то Киев делят князья властолюбивые… А то с новгородцами, с курянами которы затевают.
Черниговский стол князь Михаил занял после гибели в битве при Калке своего дяди Мстислава. В той битве и сам Михаил храбровал и звал в ту пору всех князей русских сплотиться против татарского нашествия. Да не все зову тому откликнулись, и черниговский князь, чудом уцелевший в роковом для Руси сражении, этого не позабыл. Потому, когда явился к нему из Рязани князь Ингварь Ингваревич звать на рать с погаными, охотою к тому не возгорелся.
– Брата твоего, Юрия, я тоже некогда призывал идти с нами на поганых, да он убоялся сражения. Теперь враг стучится в его собственный дом, и от сражения уже не уйти, неправда ли? Только почему думает князь Юрий, что я должен выручать его?
Евпатий видел, как при этих словах побагровел князь Ингварь. Укор брату в трусости – великое оскорбление! И хотя в том разе неправ был князь Юрий, о чем и сам сокрушался позднее, но время ли вспоминать о том сейчас? Да и не в боязни же было дело! А только видел Юрий Ингваревич, что при усобице княжеской все одно единого войска не собрать, а, значит, и победы не жди! А на убой пожалел своих рязанцев посылать… Человеколюбив был князь, не смел жизнями христианскими понапрасну разбрасываться. Только не объяснишь этого Михаилу, в сердце своем обиду взлелеявшему…
– Мой брат просит помощи твоей и других князей для спасения от общего бедствия!
Погладил черниговский князь темно-русую курчавую бородку:
– Общего? Но несколько лет назад оно не было общим для князя Юрия.
– Княже, к чему вспоминать ныне былые обиды? – вступил в разговор Евпатий. – Ты давно знал, что беда общая. Знает это и князь Юрий. Батый идет на Рязань, и, если никто не поможет, то Рязань и все земли ее будут разорены, а люди побиты и полонены. Неужто нет дела русскому князю до бедствия русской земли? И ты знаешь, княже, что на Рязани не остановится проклятый нечестивец! Он пойдет дальше! На Владимир! На Тверь! На Чернигов! На Киев! Он придет и к тебе! Неужели ты хочешь такой беды своей вотчине?!
– Вот, когда этот ненасытный зверь дойдет до моей вотчины, тогда, можете быть уверены, мне будет, чем его встретить и попотчевать!
Переглянулись безнадежно князь Ингварь с Евпатием. Дух горделивого упрямого самостийства окончательно обуял русских князей. Даже лучших и храбрейших из них. Тот же ответ прежде дал князь Владимирский…
– Княже, – тихо сказал Евпатий, – ведь ты во Христа веруешь. Неужели не обливается кровью твое христианское сердце от мысли, что орды Батыевы будут жечь наши храмы, терзать священников, ругаться над святынями, что столько душ христианских будет загублено? И что всему этому и сам ты станешь причиной, потому что не протянул руку помощи молящим тебя о ней?! Неужели прежняя обида для тебя важнее?
Нахмурился Черниговский князь, замутилась душа его от этих горьких слов.
– Та прежняя обида стала причиной нынешнего бедствия, и не я за него ответчик…
– Пусть так. Но если ты, мудрый и отважный, столь сурово судишь ныне князя Юрия, то зачем сам повторяешь ошибку его? Или же боишься идти на рать?!
Вспыхнул Михаил, блеснули гневом ярые очи. Показалось Евпатию, что вот-вот убедит он упрямого князя. Но напрасна была надежда. Не пожелал Черниговец помогать рязанскому родичу и посланников его отпустил ни с чем.
Еще не успел Ингварь Ингваревич со свитой покинуть негостеприимный Чернигов, как из Рязани прискакал гонец с вестями грозными, будто бы убит Батыем бедный князь Федор, и сражение с погаными сделалось неминуемым. Ох уж и припустили коней при известии этом! Мчались день и ночь, меняя загнанных коней и не давая передышки себе, надеясь поспеть вовремя и вместе со сродниками биться за родную землю.
Но далеко отстоит Чернигов от Рязани! Поздно примчался Ингварев отряд в родимые края. А краев этих благословенных и узнать нельзя было. Вся земля рязанская в пепелище обратилась. Только черные головешки дымились посреди отчаянного белого безмолвия, и, словно коряги, торчали из-под снега застывшие руки мертвецов, уже запорошенных метелью. Черные стаи воронья кружили над великой поживой, и жадные волки тащили в лес обильную добычу. Ни церквей, ни погостов не осталось окрест, и даже самый град Рязань, крепость белоснежная, черным пугающим остовом вздымалась над Окою…
В этих порушенных и обгоревших стенах нашли ратники сошедшихся туда немногих уцелевших и избежавших полона. От них узнали они об участи княжеского семейства и всех рязанцев. Услышав о гибели возлюбленной матери и братьев князь Ингварь закричал, запричитал диким голосом:
– О милая моя братия и воинство! Как уснули вы, жизни мои драгоценные? Меня одного оставили в такой погибели! Почему не умер я раньше вас?! И куда скрылись вы из очей моих, и куда ушли вы, сокровища жизни моей? Почему ничего не промолвите мне, брату вашему, цветы прекрасные, сады мои несозрелые? Уже не подарите сладость душе моей! Где сила ваша? Над многими землями государями были вы, а ныне лежите на земле пустой! Светочи мои ясные, зачем потускнели вы? Если услышит бог молитву вашу, то помолитесь обо мне, брате вашем, чтобы умер я вместе с вами! О земля, о земля! о дубравы! Поплачьте со мною! – и, сделавшись белее снега, пал на земь князь, будто мертвый.
Его в страхе стали отливать водой, боясь потерять последнего господина. Когда последний Ингваревич вздохнул и открыл глаза, боярин Евпатий перекрестился и кликнул побледневшей от горя и гнева рати:
– А ну, соколики, удальцы-храбрецы рязанские! Пойдем искать погубителя братьев и матерей наших! Отомстим поганым за их муки!
– Отомстим! – дружным хором грянули воины, потрясая мечами в воздухе.
Хан Батый, опустошив Рязань, без промедления ринулся к Владимиру, уводя с собой хашар. По кровавым следам нетрудно сыскать разбойное полчище. Мчалась дружина Евпатиева по горьким пепелищам и равнодушно оледенелым лесам. Что мог сделать один отряд против многих тысяч? Но ярость делала каждого ратника равным десятку, а то и сотне воинов. Тот, кто потерял все, не знает ни страха, ни боли, ни жалости. Тот, кто потерял все, сражается, даже будучи убит. Именно ратью убитых, восставшими из-под земли рязанскими мертвецами показалась татарам русская дружина, вдруг явившаяся из лесной чащи и бросившаяся на них.
Тумэны не успели перестроиться в боевые порядки. Нукеры не ждали нападения. Хашар не был выставлен заслоном. А к тому – страшен был вид восставших мертвецов! Суеверный ужас внушали они безбожным агарянам и язычникам. Смешались, растерялись татарские полчища, и немногочисленные русские ратники насквозь проезжали их ряды. И каждый удар попадал в цель в этом побоище! Так и летели татарские головы, скошенные русскими мечами, а, когда клинки затуплялись, мстители брали мечи поверженных…
Визжали истошно нечестивцы, но не их визг, а плач вдов и сирот стоял в ушах русских воинов. Среди них не было ни единого, кто не лишился бы жены, матери, братьев, сестер, отцов…
Но, вот, сумели санчакбеи построить свои тумэны в боевые порядки, и сам зять Батыев Хостоврул ринулся в бой, желая поразить Евпатия. И тотчас встретил свою смерть – рассекла его до седла богатырская рука рязанского воина. Видя бесславный конец сильнейшего своего батыря, еще больше растерялись татары. Чудилось им, что не человек, не люди стоят против них, но рать бессмертных, неуязвимых для мечей и стрел.
Тогда на маленькую дружину, точно на крепость могучую, обратили осадные орудия. Полетели камни и горящие чурбаны на головы отважных рязанцев. Тех, кого даже многотысячной силой не могли одолеть в бою, решили сокрушить требушетами. Против камнеметов бессильны были мечи русского войска…
***
Ларкашкаши Бату был хмур и задумчив. Целые сутки его бесчисленное войско не могло совладать с крохотной русской дружиной. И потому победа не радовала его. Да и какая победа, если все поле устлано телами его убитых батырей! Не в один слой лежат они, но навалены друг на друга, что курган! Такие потери были бы оправданы в сражении с крупным и сильным войском. Но в сражении против горстки безумцев?
Полог шатра отодвинулся и пред очи хана внесли и положили у его ног тело русского батыря. Его не смогли убить ни мечом, ни копьем, ни стрелою. Но один из тяжелых камней все же настиг его и поверг на землю, проломив могучую грудь.
Батый посмотрел на мертвеца с сожалением. Тела своего убитого зятя он не пожелал видеть. Самодовольный пес похвалялся притащить на аркане русского батыря! Но сам погиб от его руки, поделом же…
В шатер ввели пятерых израненных пленников – всех уцелевших в побоище русских ратников. Ларкашкаши долго смотрел на них, пытаясь найти в их облике что-нибудь необычное, сверхъестественное. Но ничего не находил. Обычные люди… Вот, только глаза… Какой яростью горят они даже теперь! Какая великая необоримость в них! Они изнемогли от ран, они пленники, их могут предать самой жестокой казни, но ничто не вызывает дрожи в них. И смотрят они на всемогущего хана так, словно бы раб он, а не они. Словно бы они… боги…
– Какой вы веры, и какой земли, и зачем мне так много зла сотворили? – спросил Батый.
– Веры мы христианской, – ответил громким голосом один из пленников, – слуги великого князя Юрия Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от князя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать, и с честью проводить, и честь тебе воздать. Да не дивись, царь, что не успели налить вдосталь чаш на великую силу – рать татарскую!
Удивился ларкашкаши смелому и гордому ответу. Никто не отваживался говорить с ним так! Но не воспламенилось гневом сердце хана. Эти люди были слишком достойными противниками…
– Что скажете вы на это? – обратился Батый к обступившим его мурзам и санчакбеям.
Самый старый мурза по имени Гудун, слепой на один глаз, ответил:
– Со многими царями, во многих землях, на многих битвах мы бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и мужественно бьются – один с тысячею, а два – со тьмою.
Ларкашкаши помолчал, а затем, подойдя к телу Евпатия, вздохнул:
– О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих батырей сильной орды моей побил, и много тумэнов разбил. Если бы такой воин служил у меня, – держал бы его у самого сердца своего!
И от того всего более скорбел хан Батый, что такие великие батыри не сражались в его войске. Что великий воин, крылатый человек, почти бог, погиб понапрасну, а каким бы санчакбеем мог стать он в Орде! С этаким – весь мир положили бы к ногам своим!
Хан сделал знак своим людям:
– Отпустите этих храбрецов. Крылатым воинам не место в хашаре. Они избранные! А вы, – обратился Батый к освобожденным пленникам, – возьмите тело вождя вашего и погребите по вашему обычаю со всею славою! Он первый воин из тех, каких довелось мне видеть. И да не будут звери и птицы терзать его кости!
Крылатые люди безмолвно подняли тело своего вождя и вышли из шатра – так гордо, точно не хан только что оказал им неслыханную милость, но они делали честь ему. Словно они были победителями. Впрочем, они и были таковыми. Избранными. Крылатыми. Необоримыми.
Всему свое время
(Святой праведный князь Александр Невский)
Батыевы тумэны до Новгорода не дошли. Предав огню всю южную и срединную Русь, истребив множество людей, они остановились, столкнувшись с непогодью, и лишь опалили едва край новгородчины, опустошив Торжок.
Избегнул господин Великий Новгород страшной участи иных русских городов, но другой враг уже устремился к его стенам, по-стервятничьи рассчитывая на легкую поживу в обескровленной Руси. «Если можешь, сопротивляйся, – я уже здесь и пленяю твою землю», – такое послание получил князь Александр Ярославич от зятя шведского короля ярла Биргера, чьи корабли с нахальною самоуверенностью вошли в устье Невы.
Молодому князю минуло девятнадцать, но уже не новичок был он в деле ратном. Когда отчую землю раздирают междоусобицы и внешние противники, на детство и отрочество времени не остается, и всякий, рожденный мужчиной, скоро становится воином, мужая в походах и ратях. В четыре года Александр был посвящен в воины в Спасо-Преображенском соборе Переславля благодатным старцем Симоном, святителем Суздальским. Отрок едва мог еще удержать в руках меч, но уже всей душой готов был разить им лихих супостатов. В детстве, впрочем, все кажется легче и проще. Лишь с годами узнается, что не со всяким врагом можно разрешить дело мечом, что кроме львиной силы и отваги потребна князю и мудрость змеиная, и кротость голубиная…
Отроческие годы провел Александр рядом с отцом. Когда скоропостижно преставился старший брат Федор, на него, 11-летнего княжича, легла ноша наследовать родителю. К тому времени он уже четвертый год княжил в Новгороде – так пожелал отец, великий князь Киевский и Владимирский Ярослав. До 15 лет он наставлял сына в искусстве правления и ведения войны, а после доверил ему править самостоятельно. За год до этого княжеские войска изгнали литовцев из Смоленска и наголову разбили латинян на реке Эмайыги, где юный Александр впервые ощутил вкус настоящей, большой победы.
Теперь отец был далеко, в Киеве, а враг – уже совсем рядом. И прогнать его прочь из родной земли молодому князю предстояло в одиночку. Первый раз долженствовало ему вести за собою войско, полной мерой ложилась на него ответственность за судьбу своих ратников и своей вотчины, за судьбу самого Новгорода и его жителей. Ошибется князь – пропадай народ!
– Боже славный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ! – шептал Александр, стоя на коленях посреди Софийского собора и не отводя глаз от образа Спаса. – Но прикрывающиеся крестом Твоим забыли Твою заповедь!
Божии заповеди псы-рыцари, на плащах которых был нашит крест, забыли и презрели давно. Еще тогда, когда с Божиим именем на устах предали огню и разграблению Константинополь и Святую Софию! Ныне крестоносцам не давала покоя терзаемая усобицами и нашествиями иноплеменных варваров Русь. Сперва они покоряли языческие племена, обращая их в латинскую веру, а затем добрались и до княжеств православных. В городе Феллин эти радетели за «истинную веру» повесили весь русский гарнизон… Нашивая крест на плащи, папские рыцари мало чем отличались от вышедших из азиатской пустыни татар. Для обороны от них Александр успел еще годом раньше срубить ряд малых городков-крепостиц по реке Шелони. Но эта защита недостаточна была. Как и сами рати новгородские малы были в сравнении со шведскими. Но где бессильны силы человеческие…
– Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне! – трижды перекрестившись и простершись пред святым образом, князь поднялся и вышел из храма. Яркий солнечный свет ударил в глаза ему, не дав в тот же миг оценить необъятное людское море, бурлившее на площади в ожидании своего вождя. Когда он появился, раздался оглушительный рев:
– Князь! Веди нас на бой! Постоим за Великий Новгород!
На дело ратное толпа не надобна. Толпа создает беспорядок. Делу ратному рать потребна. Пускай невелика она будет, лишь бы действия ее были слажены, лишь бы каждый в ней хотя трех врагов стоил.
К крыльцу Софийского собора подвели белоснежного коня, и князь легко вскочил в седло.
– Не в силе Бог, а в правде! – возгласил Александр, обращаясь к своей дружине. – Иные – с оружием, иные – на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! Они поколеблются и падут, мы же восстанем и тверды будем!
С этим кратким напутствием молодой князь повел дружину в свой первый самостоятельный поход. Он успел отправить родителю гонца с извещением о вторжении шведов и намерении сразиться с ними, но по расстояниям русским благословения отчего не приходилось ждать прежде, чем завершится битва.
Направив вперед войска толковых лазутчиков, Александр смог порядочно представить себе расположение вражеские сил, их число и уязвимые места. Шведы стояли у слияния Невы с Ижорой и в своем бахвальстве не ожидали молниеносного русского удара. Князь же рассчитывал именно на внезапность нападения. Именно поэтому русские не разбивали лагеря, но ударили с ходу, не давая врагу опомниться, выстроить свое войско в боевом порядке, продумать свои действия.
Новгородцы уже громили шведский лагерь, а латиняне лишь седлали коней, вынужденные отбиваться от нападавших. Их было много, но число не дает преимущества, если войско расстроено и обращается в вооруженную толпу, не разбирающую, как следует действовать. Единственным человеком, кто мог направить толпу и вновь обратить ее в войско, был ярл Биргер, и с первого мгновения боя Александр острым взором выглядывал королевского зятя, намеревавшегося праздновать победу в самом Новгороде. Отыскав, наконец, вражеского предводителя, князь устремился к нему:
– Ты призывал меня? Я пред тобою!
Навряд ли Биргер разумел русский язык, но намерения противника были слишком очевидны и без слов. Жаркий бой затих в сей миг, обе противоборствующие рати обратились взглядами к своим вождям, в их поединке должен был решиться исход сечи.
Крикнул что-то зычным голосом ярл и, надвинув забрало, пригнувшись к луке седла, помчался на своего врага, целясь копьем ему в грудь. Знатное копье у вельможного шведа! И латы – знатные! Такие не прошибешь копьем! И шлем с забралом – крепок и богат… А все же не все лицо скрывает то забрало. Главное, прицелиться верно…
Ловко увернулся Александр от вепрем несущегося на него Биргера. И, развернув коня, уже сам ринулся на врага. Он не собирался бить его в закованную железом грудь, не собирался лишь выбить из седла. Вражеского предводителя нужно было поразить единожды и так, чтобы уже не поднялся он, не вступил вновь в эту сечу.
Успел ли понять вепрь, что произошло, когда под самую бровь ему ударило копье, и разом померк свет, залитый потоками крови? Рухнуло, громыхнув железом доспехов, бесчувственное тело, охнули шведы, возопили торжествующе русские, славя своего победоносного князя.
До самой ночи длилась затем битва, и многие пришельцы нашли свою смерть в водах Невы. Спешно отплывали рыцарские корабли от русских берегов, увозя на родину полные трюмы убитых, коих предстояло горько оплакивать их осиротевшим семьям.
***
Славная добродетель, именуемая благодарностью, никогда не была в числе достоинств господина Великого Новгорода. Своего победоносного князя вечно чем-нибудь недовольные вечевики изгнали вскоре после Невской победы. Да, вот, беда, недолго привелось им наслаждаться обретенной «волей». Тевтонские рыцари захватили Псков и возвели на русской земле крепость Копорье. Угроза захвата нависла и над Новгородом, и ничего не осталось разом смирившимся вольнолюбцам, как слезно молить князя Ярослава, чтобы он вновь прислал на выручку своего отважного сына.
Неблагодарность заслуживает наказания. Но… русские жизни и русские святыни много дороже княжеской гордости. Отец приказал внять мольбам новгородцев, и Александр поспешил спасать свою вновь обретенную вотчину. С налета освободил он крепость Копорье, а затем разгромил германских крестоносцев на льду Чудского озера. Эта победа надолго охладила воинственный пыл западных варваров и их посягновения на русские пределы.
Куда хуже обстояло дело на рубежах восточных. В Орде был замучен черниговский князь Михаил. Когда-то он призывал русских князей сплотиться и дать отпор татарам на реке Калке. Князья не вняли, и русское войско было разгромлено. Когда же рязанский князь Юрий Ингваревич прислал к нему за подмогой против наступающих на его вотчину Батыевых тумэнов, Михаил отпустил посланников ни с чем, припомнив отказ биться на Калке. Рязань была уничтожена вместе со всем княжеским семейством и большинством жителей. Такова была цена княжеской гордости, которая оказалась превыше жалости…
Теперь перед входом в шатер Батыя языческие жрецы повелели черниговскому князю пройти через священный огонь и поклониться идолам, на что Михаил ответил: «Я могу поклониться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу государств земных; но христианин не служит ни огню, ни глухим идолам». За эти смелые слова князь был немедленно убит со своим приближенным боярином…
А спустя две недели в столице Орды Каракоруме был отравлен Ярослав Всеволодович, отец Александра… Скрепя сердце, принужден был молодой князь вместе с братом Андреем отправиться «ко двору» убийцы своего родителя с тем, чтобы получить от него «ярлык» на правление в осиротевших землях.
– Мы должны были идти сюда войском! – кипел Андрей, едва сдерживая слезы негодования. – Отомстить проклятым нечестивцам за отца! Сбросить ненавистное ярмо!
Уже не младенец был брат летами, а все же совсем юн еще и мыслил, как сущий ребенок. Да и мыслил ли? Скорее лишь чувствовал и горел сплошным порывом – пусть и благородным, но таким бессмысленным и губительным.
– Остынь, братец, – покачал головой Александр. – Всякий добрый меч выковать должно. Всякую победу также. С каким войском ты хотел бы идти в Орду? У нас нет такого войска. Его только предстоит создать. А теперешние наши рати будут, что кутята, избиты, даже не приблизившись к Батыеву логову.
– Что же?! Ты предлагаешь кланяться убийце отца?!
– А что предлагаешь ты? Погубить тысячи вверенных нам Богом людей безо всякой пользы? Отца теперь нет, а потому послушай меня, как старшего. Сражаться надлежит тогда, когда возможно одержать победу. Когда нет ни малейшей надежды на нее, должно смирить гордость, претерпеть и исподволь делать все, чтобы однажды эта победа стала возможной! Отец положил душу за люди своя. И наш долг следовать ему в этом.
– И погибнуть, как Михаил Черниговский? Или, может, ты и идолищу поклонишься – лишь бы соблюсти мир?
– Князь Михаил погиб со славою для христианина. Мученический венец красит пуще всякой короны. Поклонюсь ли я идолищу? Нет, не поклонюсь. Но и навлекать погибель на нашу землю не стану. Я могу защитить Русь от шведов и ливонцев, но от Батыя не могу. А раз я не могу защитить моих людей от вражеских мечей, то не вправе подвергать их угрозе нового нашествия. Лучше я приму унижения от хана и его приспешников, чем кровь православных христиан на свою голову.
– А как же «не в силе Бог, а в правде»? – усмехнулся Андрей.
– А так, милый брат, что «не искушай Господа Бога твоего», – отозвался Александр, с трудом сдерживая раздражение.
Они уже не первый день ехали по землям Золотой Орды, и с каждым днем тягостнее становилось на сердце князя. Он видел теперь воочию, что над Русью нависло смертельной угрозой государство невиданное в истории, небывалое. Государство-чудовище, к которому не подходят никакие привычные меры. Это чудовище невозможно было одолеть извне, одолеть мечом, как одолевают богатыри в сказках трехголового змея. Чудовище должно было начать разлагаться само, подавившись всем проглоченным. И лишь тогда его возможно станет победить… Русская земля претерпела разорение от того, что ее князья жили в распрях друг с другом. Человеческая природа одинакова у всех народов. Являются ли татары исключением? Навряд ли. Их вельможи также могут пребывать в единстве под властью выдающегося вождя, во времена великих походов и завоеваний, не оставляющих времени для усобиц. Но что станет, если вождем сделается один из многих равных? Великие же походы и завоевания имеют свои пределы и не могут длиться бесконечно. А без них чудовище утрачивает свою гибкость и силу, дряхлеет, объедаясь данью, разлагается, не ведая труда, который попросту чужд для живущих разбоем кочевников. Тогда-то и является среда для распрей, столь спасительных для данников! И нужно помогать им…
– Отец недоволен Гуюком. Гуюк ничем не славен, как воин. Вся слава Орды – плод побед отца. Но Гуюк смеет обращаться с ним, как со слугой, и даже угрожать ему! И твоего отца убил Гуюк! – эти пылкие слова исходили из уст молодого, видного татарина – сына ларкашкаши Бату Сартака. Сартак был христианином, хотя и несторианином. Именно поэтому Батый поручил ему заниматься русскими делами. Сартак сопровождал князей Ярославичей в столицу Орды Каракорум, где правил неведомый хан Гуюк.
Гуюк не был известен на Руси. На Руси ужасом звучало имя ларкашкаши Бату, Батыя, этого огненного смерча татаро-монгольской империи… От того тяжко было слышать Александру воспевание Батыевых побед. Но можно ли винить сына за то, что он почитает отца? Несмотря на кровавого родителя, Сартак сразу понравился князю, а за время путешествия между ними сложилась искренняя взаимная приязнь. Странный это был татарин. Христианин, прекрасно знавший русский язык, обладавший незлым сердцем и ясным разумом. Он казался чужеродным этому государству-чудовищу, но тем не менее преданно служил ему.
– Мне казалось, что настоящий властитель Орды не Гуюк, а твой отец, – заметил князь, играя на сыновних чувствах татарина.
– Так и есть! – живо откликнулся тот. – Но Гуюк не желает этого признавать! Этот безумный даже грозит сместить ларкашкаши!
– В таком случае я удивлен, как твой отец, не ведающий поражений, может терпеть подобное положение.
– Мы недолго будем терпеть! – маленькие черные глаза блеснули, подобно кинжалам. – Великая Степь должна принадлежать одному властителю!
Вот, и первая распря назрела. Первая да не станет последней!
– Твой отец желает сам править в Каракоруме?
– Всякий человек должен быть на своем месте, – рассудительно отозвался Сартак. – Ларкашкаши – предводительствовать войском, а хан – распоряжаться в столице. Мункэ наш друг, и был бы куда лучшим правителем, чем подлая собака Гуюк!
Мункэ был христианином, как и Сартак, и считался вождем татар-христиан. Конечно, братские чувства между христианами давным-давно не служили соблазном для Александра, а все же Мункэ и впрямь был бы куда лучше гнусного отравителя Гуюка.
– Чего же не достает ларкашкаши?
– Золота, – коротко ответил Сартак.
Князь не смог удержаться от недоверчивой улыбки. Человеку, опустошившему такие пространства, могло ли не хватать золота? Но юный татарин молчал, не собираясь посвящать Александра в подробности положения татарской казны.
– А если у ларкашкаши будет довольно золота?
– Тогда он пойдет на Каракорум и свергнет Гуюка!
Пока Батыевы тумэны шагают в противоположную от Руси сторону и сражаются с тумэнами Гуюка, русские смогут перевести дух, залечить хотя отчасти раны и собраться с силами…
– В таком случае передай своему отцу, что у него будет достаточно золота.
Кровь всегда дороже золота. И если нет сил побеждать, то, чтобы не растратить напрасно кровь, но выиграть время и скопить силы, нужно жертвовать золотом. А золото Александр найдет. Пусть сколько угодно станут возмущаться новгородские крикуны, он не станет считаться с их вечевыми порядками, но принудит их платить дань, чтобы татары и впредь не ступили в земли Великого Новгорода, чтобы не проливали русской крови.
– Отец не забудет твоей поддержки, – сощурились и без того похожие на щелочки глаза. Сартак был неглуп и, должно быть, прекрасно угадал ход мысли своего спутника, но не подал виду. Оба они искали своей выгоды, и выгоды эти совпадали. К чему же в таком случае лишние разъяснения?
– Скоро ночь, поспешим! – крикнул татарин, указывая на первые звезды, высыпавшие на небе. – Клянусь, что я первым достигну становища!
Предприняв конную прогулку, они удалились довольно далеко от места, где расположился на отдых их караван. Расцветавшая алыми маками степь казалась особенно прекрасный в вечерний час, когда жгучее солнце усмиряло свой пыл. Кони резво мчались вперед, сминая копытами дрожащий на ветру ковыль, и Александр чуть придерживал своего скакуна, давая Сартаку обогнать себя и радоваться победе. Всегда полезно потрафить врагу в мелочи, чтобы он был в добром духе, а, значит, сговорчивее в том, что действительно важно.







