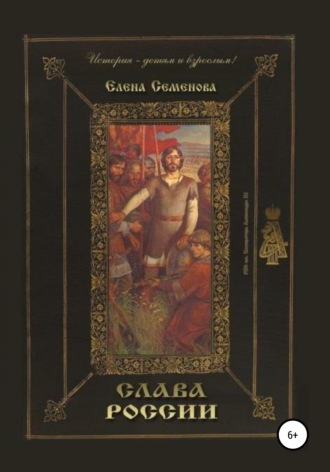
Елена Владимировна Семёнова
Слава России
НЕОБОРИМЫЕ
(Герои земли Рязанской)
Сын Чингизхана ларкашкаши Бату пришел на Русь. Его несметным тьмам уже покорились строптивые половцы и волжские булгары. Взор же предводителя татарского войска устремлен был дальше – Золотая Орда желала распространить свое могущество не только на Азию, но и на Европу. Не только свои ордынцы составляли Батыево полчище, пополнил его и китайский осадный тумэн8. И не было числа захватническим ратям…
Проезжая по татарскому становищу, расположившемуся на реке Воронеж, скорбел сердцем князь Федор Юрьевич. Страшная сила нашла на землю Рязанскую! Куда ни поворотись – до самого горизонта простираются шатры ордынские, дымят зловеще костры. Стотысячное полчище черной тучей наползло на Федорову вотчину и изготовилось поглотить ее безо всякой жалости. И чем отвратить это бедствие? Как защититься от такой бесчисленной силы?
Когда прислал Батый своих послов к отцу Федора, великому князю Рязанскому Юрию Ингваревичу, и потребовал десятину от всего достояния княжества, призвал отец в помощь родича своего – великого князя Владимирского Георгия Всеволодовича. Но тот не пришел на зов. И даже людей не послал на подмогу, надменно решив сам встретить и разгромить татарское войско. Не думал несмысленный гордец ни о том, что в одиночку нельзя противостоять столь несметной силе, ни о том, сколько крови христианской может быть понапрасну пролито из-за его намерения дождаться врага в стенах родного города. Не дождавшись помощи понял Юрий Ингваревич, что лишь на себя и братьев своих может рассчитывать он в защите Рязани. Тотчас явились по зову его другие Ингваревичи – Давыд, Глеб и Олег, а также окрестные князья. Посовещавшись, порешили отец с дядьями, что не имея сил бороться с великой татарской тьмою, должно пощадить русские жизни и откупиться от злодея Батыя богатой данью, какой бы он ни потребовал. С тем решением и снарядили к всесильному ларкашкаши Федора Юрьевича, наказав не жалеть ни даров, ни обещаний, ни слез, вымаливая пощаду для Рязанской земли.
– Знаю, сын, тяжко и нестерпимо будет сердцу твоему унижаться перед проклятым нечестивцем, – говорил отец. – Но иного выхода нет у нас для спасения наших людей. И я, привыкший сражаться мечом и копьем, теперь склонил бы мою седую голову перед безбожным ханом и рыдал бы в ногах у него – лишь бы пощадил он нашу землю! Ты знаешь, какова будет участь Рязани, если нам не удастся умилостивить агарян. Дотла сожжены будут города и веси наши, избиты и старики, и младенцы. В крови утопит хан землю нашу! – при этих словах голос князя дрогнул. – Спасение тысяч невинных стоит нашего унижения… И никто не посмеет поставить нам в вину маломужества. Мы одни, Федор. Одни против стотысячного полчища! Если бы речь шла обо мне, о тебе, о войске нашем, то, клянусь, я предпочел бы принять бой – пусть и безнадежный! Мы погибли бы с честью, как воины, а не скулили бы псами перед безбожником. Но за нами наши матери, жены, чада… Наши люди… И их мы должны защитить. И потому знай, что не на позор отправляю тебя, а на подвиг! Спасение Рязани – в твоих руках! Пред ханом будь смирен, укроти сердце, плачь, кланяйся в ноги проклятому злодею, но вымоли мир! Иначе все мы погибнем.
Смиренно слушал Федор наставления отца, заранее стесняя пылающее гневом против безбожных захватчиков сердце. Он, рожденный для подвига ратного, с младенческих лет навыкший к стремени и мечу, должен был кланяться погаными, лизать вражий сапог покорным псом! Что может быть хуже этого?! И все же понимал молодой князь: отец и дядья правы. Для гордости своей предать истреблению и поруганию всю Рязанщину – дело несмысленное и греховное.
– Лучше унизимся теперь, дабы потом, сохранив людей, в свое время отплатить поганым за наши слезы! – при этих словах глаза Юрия Ингваревича блеснули. Старый воин не смирился, склоняя выю ныне, он уже мечтал и жаждал того часа, когда русские рати окажутся достаточно сильны, чтобы сразиться с Батыем. Сразиться и не повторить горького позора Калки, на брегах которой татары впервые разгромили русское войско, ослабленное и разрозненное княжескими распрями, и с той поры грабили Русскую землю, не зная удержу в алчбе и жестокости.
– Я сделаю все, как ты повелел, отец, – пообещал Федор Юрьевич. – Поклонюсь ныне – с тем, чтобы поквитаться потом.
Горько плакала княгиня Евпраксия, узнав, что возлюбленный супруг ее отправляется с посольством к Батыю.
– Феденька, свет ты мой, сокол ясный, не езди к поганому, Христом Богом молю тебя! Не вернуться тебе живым оттуда! А что же тогда со мной да с сыночком нашим станется?!
Младенец – уже богатырь! – крепко спал в своей колыбели, невзирая на громкие рыдания матери. «Добрый воин будет!» – с отеческой гордостью подумал Федор, обнимая трепещущую жену:
– Полно, голубка моя! Почему я не должен вернуться? Я ведь еду с миром, с богатой данью да обильными слезами. Унижаться еду, а не воевать…
– Нет, Феденька, – покачала головой Евпраксия. – Я тебя униженным представить не могу. Ты воин, ты не сможешь целовать ханский сапог. Поэтому ты не должен ехать! Упроси отца переменить решение! Пусть поедет кто-нибудь из дядьев твоих! Но не ты! Не ты! Твое сердце не стерпит поругания!
– Что же я, по-твоему, Ксюша, щенок какой неразумный, что только лаять и драться годится? – рассердился князь. – Я наследую отцу моему, а потому мой долг ехать к хану и защищать наших людей от погибели. И в числе их – нашего сына и тебя! Если я не поеду, Батый придет сюда и сотрет с лица земли этот город и всех в нем! Ни одна плоть не спасется!
– Пусть поедет кто-нибудь другой!.. – вновь отчаянно застонала княгиня, бессильно роняя голову на руки.
Федору было бесконечно жаль жену. Они обвенчались совсем недавно, и всякий мог позавидовать молодому князю, ибо не было девицы прекраснее, чем Евпраксия. Никогда еще природа не создавала такого чуда. Разве что в древние времена, о которых сохранились записанные учеными греками предания… Даже теперь, в великом горе своем, была она прекрасна. Настолько прекрасна, что разом унялась явившаяся в душе досада при одном лишь взгляде на нее.
– Касаточка моя, лебедушка, радость! Я клянусь тебе, что возвращусь живым и невредимым! – заговорил князь горячо, покрывая поцелуями лицо и руки жены. – И с миром, столь необходимым нам! А ты молись, молись за меня крепко!
Прояснилось лицо любимое, обвились вокруг шеи Федора лебединые руки, белые, нежные. И в полумраке ночном зашептал дрожащий голос – о любви, о том, что никакая сила не разделит их, что соединенные Богом они навеки единое целое и в жизни, и в погибели… И князь отвечал тем же. Что еще мог отвечать и обещать он исполненной ужасом предстоящей разлуки женщине, когда до разлуки этой оставалась лишь ночь – их последняя ночь вместе?..
В посольство Федор Юрьевич отправился с большой свитой и богатыми дарами – везли хану все, что только могли собрать в кратчайший срок, дочиста опустошив рязанскую казну. Но воочию увидев несметность татарских полчищ, впервые содрогнулся молодой князь – этакой стае мало будет привезенной дани! Придется обещать еще. И много обещать! Что ж, Федор пообещает. Все рязанцы пожертвуют последний грош, если речь будет идти об их спасении. И так соберется необходимое. Надо лишь уговорить Батыя дать немного времени на сбор дани…
Ларкашкаши принимал русского князя в богатом шатре. Сразу зарябило в глазах от обилия золота и самоцветных камней, которыми было осыпано буквально все – одежды, оружие хана и его приближенных, стол, на котором он восседал, посуда и прочее. Хан словно нарочно тыкал в глаза своим богатством, желая показать посланнику, сколь ничтожны в сравнении его дары. И то сказать: что может дать Рязань разбойнику, только что проглотившему половцев и Волжскую Булгарию?..
– Что, князь, изведал ли ты силу мою? – усмехались с издевкой маленькие злые глаза ларкашкаши.
– Изведал, – поклонился Федор. – Велика и непобедима сила твоя!
– Правду ты сказал, непобедима. И вся Русь скоро поймет это! Вся Русь будет под сапогом моим!
Эта наглая похвальба ожгла сердце князя, но он не подал виду, смиренно слушая ханские речи.
– Я понимаю, что дары, нами привезенные, ничтожны для твоего величия, но в самом скором времени мы соберем много большую дань для тебя. Дай лишь малый срок на то!
– Соберешь, непременно соберешь! – кивнул Батый. – И срок я дам твоему отцу.
– Безгранична милость твоя! – воскликнул Федор, удивляясь легкости, с какой согласился хан на мольбу Рязани. Но ларкашкаши, между тем, продолжал:
– Есть, однако, и у меня условие.
– Мы исполним все, что ты потребуешь!
– Правильно говоришь. Так и должно говорить рабам, – одобрил Батый с издевкой, от которой князя бросило в жар. – Вы хотите, чтобы я не разорял вашу землю. Чтобы я и мои люди стояли на месте, покуда вы соберете дань. Я и мои люди готовы стать здесь на отдых перед дальнейшим походом. Но ведь ты сам воин, и понимаешь, что нужно воинам в дни отдыха от сражений, не так ли? Обильная еда, вино… – хан помедлил. – Это все есть у нас.
– Что же еще нужно твоему величию?
– Женщины, – прищелкнул языком ларкашкаши, и окружавшие его вельможи расхохотались вслед за ним.
Федор побледнел. Он робко понадеялся, что хан лишь жестоко глумится над ним, но тот был серьезен.
– Дайте нам жен и дочерей ваших на ложе, и мы дадим вам время на сбор дани и не тронем вашей земли. Я слышал, княже, что о жене твоей идет слава, будто бы нет женщин краше нее. Это большое богатство, княже! Им многое можно покрыть! Дай мне изведать красоту жены твоей, и я буду милостив к твоей земле!
При этих словах кровь бросилась князю в голову. Этот поганый богомерзкий злодей требовал у него для блуда его возлюбленную княгиню, жену, мать его сына! Вскинул Федор гордую голову и, прямо глядя в насмешливое лицо хана, воскликнул:
– Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь! – он схватился было за меч, но тотчас был повергнут на землю батыевыми слугами, а с ним и все бывшие в его свите.
Ларкашкаши сошел с трона, приблизился к простертому на земле, скрученному по рукам и ногам князю, схватил его за волосы:
– Ты глупый человек, ты не ценишь и не умеешь распоряжаться своим богатством.
Федор со злобой плюнул в лицо хана:
– Никогда тебе не знать жены моей!
– Посмотрим! – зло усмехнулся Батый, утирая лицо и распрямляясь. – Убейте их, – небрежно бросил он своим слугам. – А тела бросьте на растерзание зверям. Завтра идем на Рязань! Слышишь, княже?! Завтра мы возьмем все то, что вы не пожелали дать нам добром! Завтра мы будем владеть и землями вашими и женами!
Ничего не успел ответить на то князь Федор Юрьевич. В тот же миг обрушились на него удары татарских мечей и копей.
***
Южная вежа9 выше иных возносилась над Рязанью, с нее, как на ладони, видны были окрестные пространства. В этот час еще тихи и незыблемы были они – быть может, последние мгновения доживая в мирной неге замешкавшегося декабрьского рассвета. Но земля уже слышит чутким слухом своим топот копыт тысяч вражеских коней, уже готовится принять в себя верных своих сыновей, как приняла войско князя Рязанского…
Много лет служил воевода Яромир Юрию Ингваревичу, начав службу еще при его отце, и горько было ему, когда князь, уходя на битву с погаными, оставил его с запасным полком в Рязани, завещав беречь город и матушку свою, старицу-княгиню Агриппину Ростиславовну… Мужественный и благородный князь Юрий стоически встретил страшную весть о гибели сына. Но жестокой скорбью полнилось сердце его от сознания тех ужасов, что шли теперь на его землю, и которых не осталось отныне способов отвратить. Князь Михаил Черниговский, к которому послан был за подмогой Ингварь Ингваревич, находился непоправимо далеко. И если бы даже решился он в отличие от князя Владимирского выступить в поход, то уже никак не мог успеть ко времени.
Не желая ждать врага в городе, Юрий Ингваревич собрал все свое войско и вместе с братьями выступил к реке Воронеж, дабы сойтись в единоборстве с вражескими тьмами и… погибнуть с честью, как и надлежит воину. Иного исхода не мог чаять ни князь, ни его сродники и ратники.
– Избавь нас, Боже, от врагов наших! – возгласил Юрий Ингваревич, выезжая пред свое войско. – И от подымающихся на нас освободи нас, и сокрой нас от сборища нечестивых и от множества творящих беззаконие! Да будет путь им темен и скользок! Государи мои и братия, если из рук господних благое приняли, то и злое не потерпим ли?! Лучше нам смертью жизнь вечную добыть, нежели во власти поганых быть. Вот я, брат ваш, раньше вас выпью чашу смертную за святые Божие церкви, и за веру христианскую, и за отчину отца нашего великого князя Ингваря Святославича!
В Успенском соборе служило духовенство напутственный молебен, и бесслезная, величественная старица Агриппина благословляла сыновей в последний поход. Князья Ингваревичи и их войско уходили на смерть, и это сознавали все, кто провожал их, собравшись на высоких тарасах10. Среди них был и Яромир. И как теперь стояло перед взором последнее видение своего князя. Вот, остановилась высокая фигура его, солнце серебрит в одну ночь после гибели сына поседевшую голову, плещется над ним алый стяг с ликом Спаса Нерукотворного. Проходит мимо князя его верная рать, а сам он в последний раз взирает на свой город, крестится на его купола, прощаясь навеки…
Лишь 700 человек возвратилось из того похода. Остальные остались лежать у реки Воронеж, порубленные татарами, или были пленены ими. Пали в бою и все князья Ингваревичи.
Хотя дорого продали рязанцы жизни свои, сражаясь, как львы, и забрав с собой много больше нечестивцев, но это ничуть не облегчило положения Рязани, оставшейся без своих защитников. Яромир сознавал, что спасти город может лишь чудо. Оставалось одно – по примеру павших продать свои жизни как можно дороже, истребив сколь можно больше поганых. И продержаться как можно дольше – ну, как умилостивится Господь, и явится на выручку князь Черниговский? Или же, узнав о битве при Воронеже, очнется и поспешит к Рязани князь Владимирский?
Все свои знания, все умение вложил старый воевода в укрепление города к грядущей осаде. Рязань была сильнейшей крепостью Руси. С одной стороны ограждена она была крутым берегом Оки, с которой невозможно было вести штурм. С других трех сторон город был окружен земляным валом в 9 мер высотой и в 25 шагов шириной, со рвом спереди. На валу высились мощные тарасы, двойные стены из дубовых бревен – с землей и камнями между ними. Тарасы соединялись высокими вежами, выступающими вперед для удобства обстрела атакующих. Внутри крепости располагался еще один вал и тарасы, окружающие детинец11.
Тарасами-то и занялся Яромир в первую очередь, велев залить их водой, которая в декабрьскую стужу тотчас заковала стены в ледовый панцирь. Однако, стены и орудия не спасут, если некому будет оборонять их. Оставив запасной полк в 500 гридней и имея еще столько же, воевода призвал на защиту города простых жителей. Лучшими после гридней воинами были охотники-медвежатники и лесорубы. Но спешили вступить в ополчение все, кто мог носить оружие: от отроков до стариков. Немалое пополнение составили и крестьяне, оставившие свои посады и укрывшиеся в крепости. Разбитые на сотни и десятки ополченцы вооружались мечами, дубинами, луками, топорами, копьями и занимали отведенные им Яромиром позиции.
Не отставали от мужчин и женщины. Они не могли биться с врагом мечами, но могли помогать воинам на крепостных стенах, втаскивая тяжелые камни для метательных орудий, варя смолу, опрокидывая котлы с нею на головы штурмующих… В обезлюдевшей Рязани лишних рук оказаться не могло, и в помощь годились даже слабосильные.
Несколько дней шла лихорадочная работа, и, вот, донесли дозорные, что приближаются Батыевы тьмы, выжигая все на своем пути. Пустошь и дымящуюся золу оставляли после себя поганые, ничего и никого не щадя. В ожидании врага старый воевода прошел в Успенский собор, где денно и нощно молилась осиротевшая княгиня Агриппина. Она и теперь, несмотря на лета свои, стояла на коленях пред образом Николая-Угодника. Выцветшие глаза ее, прежде ярко зеленые, прекрасные, были сухи. Спокойствие этой женщины, потерявшей почти всю семью, поражало и восхищало. Но, может, от того так спокойна была она, что знала – разлука будет совсем недолгой?
Знали это и снохи ее, но в отличие от старицы заходились в горьких рыданиях. Плакали они по мужьям и сыновьям своим и по собственным загубленным жизням, по страшной участи, ожидавшей их.
– Полно, милые, – тихо говорила им Агриппина Ростиславовна. – Такова Божия воля. За муки наши он воздаст нам сторицей. Не бойтесь. Двери Господней святыни нечестивцы не одолеют…
Верила ли она сама в это последнее утешение? Но снохи ее не верили и голосили еще пуще, ломая руки.
Заметив вошедшего Яромира, княгиня поднялась и шагнула ему навстречу:
– Здравствуй, воевода! Чаю, недобрые вести принес ты? Добрых-то ждать нам неоткуда.
Низко поклонился Яромир старице. Вспомнился вдруг, как живой, супруг ее, Ингварь Святославович, с коим в стольких битвах вместе мужествовали! И сама она – еще молодая, полная сил красавица, окруженная гурьбой сыновей… И Юрий Ингваревич, которого именно он, Яромир, впервые сажал на смирную малорослую лошадку – гнедую, в белых «онучах»… Целая жизнь пролетела, и, вот, оканчивалась ныне – горчайше… Нет, не жаль ее, этой жизни. Она уже прожита. Но жаль всех этих юношей и дев, и малых детей, и белоснежной прекрасной Рязани, обреченных в жертву безбожному Батыю.
– Они скоро будут здесь, княгиня, – вымолвил Яромир.
– Мученический венец ждет всех нас, как моих сыновей и внуков, – отозвалась Агриппина. – Мы готовы к тому. Не заботься и не вспоминай о нас!
– Твой сын завещал мне беречь тебя.
– А я приказываю тебе думать лишь о городе. А нас – Господь сбережет, если пожелает.
На глазах старого воеводы выступили слезы. Он опустился на колени перед своей госпожой и, склонив голову, попросил:
– Все князья наши пали, посеченные вражьими мечами. Посему тебя прошу, княгиня, благослови на грядущую битву!
Агриппина Ростиславовна медленно подошла к аналою и сняв с него икону Федотьевской Божией Матери трижды осенила ею Яромира:
– Да поможет тебе Пречистая, воевода! Тебе и всему нашему войску! Всем людям нашим! Да умолит сына своего о нас, многогрешных! Ступай, воевода! Мы все молимся за тебя. И, коли не суждено нам будет свидеться вновь, прими мою вечную благодарность за верность твою, за службу моему мужу и сыну, за все, что ты делаешь ныне. Храни тебя Христос! – и уже не иконой, но иссохшей рукой перекрестила старица своего воеводу, едва коснувшись перстами чела и плеч его.
Получив благословение своей госпожи, Яромир вернулся на Южную вежу и стал ждать, весь уйдя в глаза… Когда первые лучи солнца тронули румянцем снежные покровы, земля на горизонте ожила. Зашевелилась. Понадвинулась вперед. Так полчища саранчи сплошной тучей движутся на нивы, чтобы уничтожить их. Так шли на Рязань тумэны лалкашкаши Бату – непобедимого хана Батыя…
Тотчас ожила и крепость, всякий занял место свое, изготовясь к последней битве. И последний раз тягучим, надрывным, грозным голосом загудел над белым городом набат, возвещая, что наступает судный час и призывая всех на подвиг. На подвиг и на смерть, ибо нет спасения от надвигавшейся тьмы, на которую удивленно взирало беспечное и беспечальное солнце.
***
– Ну, братцы, постоим за князей наших павших! За жен и чад наших! За веру Христову! Крепись, православные! – крикнул Апоница своей сотне, обнажая меч и горя одним-единственным желанием – снести им как можно больше татарских голов.
Верный друг благоверного князя Федора с младенческие его лет, Апоница был с ним в роковом посольстве. Господь сберег его среди немногих уцелевших от избиения, но лучше бы все мечи и копья татарские обрушились на него, нежели видеть очам брошенное на растерзание волкам и стервятникам тело несчастного князя!
Под покровом ночи, когда татары пировали, предвкушая новый поход и позабыли думать об истребленном русском посольстве, Апоница забрал тело своего возлюбленного господина и предал его земле, как велит христианский обычай. После этого с горчайшей вестью он возвратился в Рязань. Именно ему судил Бог сделаться вестником погибели своему граду и княжескому семейству…
Как теперь видел сотенный искаженное ужасом и мукой прекрасное лицо княгини Евпраксии, когда, пав пред ней ниц, он сообщил ей о страшной участи ее мужа. Как теперь слышал ее пронзительный, душераздирающий вопль!
– Сокол мой ясный, не будет твоя лебедушка принадлежать злому коршуну! По тебе гряду!
Вскочил Апоница в ужасе на ноги да уж поздно было! В единый миг выхватила обезумевшая от горя княгиня младенца-сына из колыбели и прижав его к груди выбросилась из окна своего терема. А терем тот был самым высоким в Рязани… С содроганием взглянул верный слуга вниз. Там, на расплавленном алой кровью снегу, лежала бездыханная Евпраксия. Прекрасные руки ее так и прижимали к груди навеки умолкшего княжича, что еще мгновения назад пищал в своей колыбельке.
Горько-горько плакал Апоница по княгине и младенцу, коря себя в их смерти, в том, что не смог удержать от отчаянного шага, спасти. Воевода Яромир, видя его терзания, утешил по-своему:
– Полно убиваться, сыне. Скоро мы все пред Господом предстанем, сам знаешь. Пришло время, о котором Писание говорит, что живые позавидуют мертвым… Знаешь, какова будет участь жен и чад наших, если они уцелеют. Так уж воистину лучше было не дожидаться того нашей прекрасной княгине!
– Но княжич! Он мог спастись!
– Или быть захвачен и взращен татарином? Внук князя Юрия – лучше ангел в чертогах Господних, чем поганый агарянин, Бога и родства не ведающий!
Жестоки был слова старого воеводы, но была в них и правда жестокая. Только не утешила она скорбящую душу Апоницы. И все виделось ему в запоздалых грезах, как можно было бы утаить маленького княжича, отправить прочь из города с неприметными купцами, сберечь… Но что теперь грезить! Ушел младенчик невинный к отцу, отлетела душенька ангельская…
Вражеские тьмы приблизились к стенам Рязани, и содрогнулись защитники ее. Впереди своих тумэнов гнали безжалостные захватчики – хашар… Хашар – тысячи пленных, рабов-смертников, живой щит и живое оружие. Мужчины, старики, дети, женщины… Хлещут их по окровавленным спинам татарские надсмотрщики, и бойся остановиться, бойся повернуть назад – тотчас слетит с плеч голова… Хашар не щадили и не считали. Недостатка в пленных у татар не было. Рабов едва-едва кормили, так как срок жизни им был отмерян в считанные дни – для осадных работ.
У стен Рязани пленники – иные из рязанцев же! из войска князя Юрия и окрестных поселян, не успевших укрыться в крепости! – принялись рубить лес, заваливать рвы вымоченными в воде бревнами, хворостом, камнями и… своими телами. Упал изможденный и израненный раб – никто не поднимет его. Он исполнит последнюю службу – станет материалом для заполнения рва…
Хашар обслуживал и орудия осаждавших. Батыевы требюшеты и тангутские камнеметы имели дальность вдвое короче, нежели орудия осажденных. И чтобы последние не перебили орудийную прислугу перед ними ставили рабов. Чтобы добраться до врага русские должны были сперва выкосить ряды – русских же! Своих собственных братьев и сестер!
Сразу две задачи решали таким способом окаянные злодеи. На борьбу с хашаром уходили силы и боеприпасы осажденных – еще прежде чем шли в бой татарские и китайские тумэны. К тому же необходимость убивать своих подрывала дух обороняющихся.
– Как же, как же стрелять в них? – чуть не со слезами шептал кузнецов сын Василько. – Ведь там сестра моя может быть! И батя…
И дрожала рука юноши, опуская лук.
– Мой брат тоже там, – хмуро отвечал на это Апоница. – И мы должны стрелять.
– И убивать братьев?..
– Не мы убиваем их, а татары. Им нет избавленья…
Быстро наполнялись рвы. Смешивались в них бревна и пленники, камни и защитники крепости, сраженные вражескими стрелами и упавшие со стен. Столь же быстро сооружались тараны и катапульты. Но некогда страшиться этих приготовлений, когда нужно сражаться! Рязанские лучники сменяли друг друга, отогревая у костров коченеющие на морозе руки. По крепостным лестницам спешили бабы и дети, таща на себе тяжеленные камни, охапки стрел и сулиц12.
Поединок лучников дополнился поединком орудий. Огромные камни и деревянные чурбаны с грохотом ударялись в рязанские тарасы, но те были достаточно крепки, чтобы выдержать эти ударом. Следом однако же летели горшки с горючей смесью, и огонь становился куда более опасным врагом для деревянной крепости, нежели катапульты…
– Бабы! Скорее! Туши!
Кому еще тушить, как не бабам, если мужья не могут оставить своих позиций? И бежали рязаночки, заливали пламя из ведер и кадушек, не жалели ни шуб, ни перин своих. И самих жизней не жалели. Достигали и их белых тел татарские стрелы…
Когда рвы были заполнены, тумэны двинулись на штурм. Но вперед снова был брошен – хашар. Тысячи рабов шли к стенам Рязани, направляемые кнутами погонщиков, перебирались через ров, налаживали лестницы…
Заголосили отчаянно бабы:
– Как же мы? Что же мы?! Их, сердечных наших, смолой и кипятком заливать?!
А смола и кипяток уже дымились в приготовленных чанах…
Смутились и воины-новобранцы. Одно дело рубить мечами и топорами лисьи малахаи поганых, но совсем другое обрушить их на головы своих!
Рабы лезли на скользкие стены, то и дело срываясь во рвы. Оборванные, истощенные, полубезумные… У них не было выбора. Вернешься – голова с плеч. Доберешься до верха – голова с плеч. Однако же, лучше бы вернулись! Однова погибать! Так погибли бы от руки врага, не принуждая к братоубийству своих! От этой мысли что-то недоброе загорелось в душе Апоницы, тесня оттуда расслабляющую жалость. Выхватив меч, он ринулся навстречу хашару, увлекая за собой свою сотню.
Взмыл меч над первой показавшейся над гребнем тараса головой и замер в воздухе.
– Стой, брат! Не губи!
Замутились глаза влагой. Братец кровный, Еремеюшка… На Воронеже проклятом в полон угодивший…
Убрав меч в ножны, Апоница кинулся к брату и, подхватив его под руки, втащил на стену.
– Братцы! – закричал он зычно. – Уберите мечи и копья! Это же наши рязанцы! Поможем им вернуться и встать в наши ряды! Думают нечестивцы, что ослабят нас, послав на убой наших сродников! А мы обманем их! И будут наши сродники вновь соратниками нам супротив поганых!
Радостным гулом приветствовали эти слова тарасы и вежи, передавая их по всей крепости. И уже не мечами и смолой встречали хашар рязанцы, не сбрасывали лестниц, по которым взбирались пленники, но, напротив, сбрасывали им веревки, спеша спасти как можно больше несчастных сродников. Те же, обретя надежду на спасение, карабкались на стены с воодушевлением, какого доселе не знавали штурмующие.
Засуетились татары, поняв, что происходит неладное. Засвистели бичи, отгоняя хашар от рязанских стен. Не всех пленников удалось вызволить из неволи, но освобожденные уже спешили надеть на себя кольчуги и с оружием в руках стать подле освободителей, защищая стены Рязани.
Между тем, вслед за хашаром настала очередь нукеров. Отборные Батыевы тумэны ринулись в атаку на крепость с трех сторон. Гул барабанов и рык тысяч нечестивых глоток «Хар-р-ра!» сотряс воздух.
***
Шесть дней билась Рязань. Волна за волной накатывали на белые стены вражеские тьмы, и не было конца тем волнам, и не было передышки между ними. Занимались огнем стены и башни, тупились мечи защитников, и с каждым часом уменьшалось число их, уже не хватало людей, чтобы охватить все крепостные стены. Женщины и дети поднимали тяжелые мечи и дубины павших мужей и отцов, предпочитая гибель в бою участи хашара…
Когда меткая татарская стрела вонзилась в шею Апоницы, Еремей успел подхватить брата, стащить его прочь со стены, чтобы не пал он в проклятый ров, утрамбованный мертвыми и еще живыми телами.
– Братец милый, обожди помирать! Сейчас я перевяжу тебя! – шептал Еремей. Ему удалось вырвать стрелу из раны, и черная кровь хлынула обильным потоком, обагрив его самого.
– Уходи, – прохрипел Апоница. – Иди обратно на стену! Защищай город! Городу нужны воины…
В этот миг раздался оглушительный грохот и отчаянный визг татар. Еремей непонимающе вскинул голову.
– Ворота… – прошептал Апоница, глаза которого неестественно расширились. – Яромир приказал обрушить своды, если протаранят ворота… Это конец…
Еремей не знал принятых воеводой мер, но, как опытный воин, понял все. С утра поганые подкатили к воротам таран и, прячась под его навесом от русских стрел, принялись выламывать городские ворота. Наконец, им это удалось, и нечисть хлынула в долгожданный пролом. Но не знала нечисть, что старый Яромир подготовил ловушку. Дежурившие у ворот медвежатники привели в действие механизм, обрушивший крепостные своды на головы татар. Многие нечестивцы погибли под ними, другие были искалечены. А на пути захватчиков вместо ворот образовались теперь завалы, которые предстояло разобрать прежде чем ворваться в город.
Хитер был воевода, но хитрость его давала лишь малую отсрочку осажденным перед неминуемой развязкой.
– Собери всех уцелевших и отступай в детинец, к собору… – все глуше становился хрип Апоницы. – Защищайте княгиню…
Это были последние слова княжеского друга и сотника. Глотая слезы Еремей закрыл глаза старшему брату и бросился на стену, где последние ополченцы из последних сил отбивали яростные атаки татар.
Белый город был заволочен дымом, в черноте которого то и дело мелькали алые языки пламени. Полыхала погребальным костром угловая вежа. Еще чуть-чуть и обрушится она, открыв захватчикам путь в город, и уже никто и ничто не сможет тогда остановить их.
– Братья! Отходим!
Все княжеские воины были убиты, и потому Еремей, простой ратник, принял на себя обязанности сотенного, прежде исполняемые покойным братом. Свозь мглу, огонь и завалы добрался отряд до главной площади. Здесь, у Успенского собора, уже заняла последний рубеж сотня Спасского погоста во главе с доблестным Гостомыслом.
– Ну, что, други, – обратился он, израненный и от слабости опирающийся, как на посох, на собственный меч, к подошедшим еремеевским ополченцам, – настала пора и нам в Божью рать сбираться?
Бодро звучал голос славного воина, точно не на смерть приглашал он рязанских ратников, но на пир победный.
– В Божью рать мы давно сготовились, – отозвался Еремей. – Да только допреж пусть полчище сатанинское за наши души дорогую цену заплатит!







