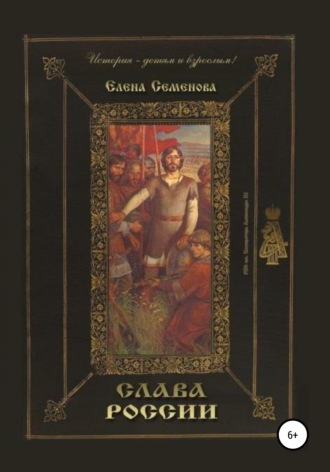
Елена Владимировна Семёнова
Слава России
МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ
(Святая праведная Иулиания Лазаревская)
– О-хо-хо-нюшки, боярышня милая, все-то персты нежные исколола ты, – качает головой Варюшка, помогая Уленьке складывать в корзину нашитую рукодельницей детскую одеженку и нехитрую снедь. – И ведь все-то вышито! И все-то строчечка к строчечке! Такие рубашечки не нищим сиротам, а царевнам да царевичам носить впору! А сарафан-то каков! – девочка с восторгом развернула лазоревый, украшенный затейливой вышивкой сарафан и приложила к своей тучной фигуре.
Уленька не удержалась и чуть прыснула: уж очень мал был пошитый на тоненькую Настену сарафан для ее верной служанки-наперсницы.
– Когда бы мне такую красоту!
– Вот, приспеет тебе срок замуж идти, сошью и тебе, – улыбнулась Уленька.
– Да зачем Настене твоей этакая роскошь? Она всю жизнь босая да в рубашонке пробегала!
– И что же? Варюша, ей ведь замуж идти пора! И молодец добрый сыскался, что люб ей. Да только родители его не примут невесту, у которой вместо приданого четверо братьев и сестричек – сироток! Батюшка Ферапонт рассказывал, что Николай Угодник всегда о бедных невестах попечение имел. Если он узнавал, что та или иная девушка не может выйти замуж, потому что у нее нет приданого, то он тайно одаривал таких девушек приданым. У нас с тобой, правда, не выходит все тайно делать, и это дурно… Но Бог нас простит. Ведь мы не из гордости, а просто не выходит пока иначе…
Уленька опустилась на колени и положила несколько земных поклонов перед образами Спасителя, Богородицы и Николая Угодника.
– Тебя-то еще и прощать… – покачала головой Варюшка. – Да ты, боярышня, всю окрестную нищету благодетельствуете, и кто знает об этом? Мавра Никитична, потому что ты за ней больной ходила, да батюшка Ферапонт.
– И ты, – улыбнулась Уленька, вставая. – И больше никто знать не должен. Тетушка и другие рассердятся, если узнают…
– Это уж к гадалке не ходи, осерчают не приведи Господь, – согласилась служанка.
– А что шитье мое, все ли продалось? – спохватилась Уленька, взглянув на уложенную корзину.
– Как не продаться! Этакая дивная работа! Все утро ноженьки на базаре оттаптывала, все продала. Вот, – с этими словами Варюшка протянула своей хозяйке-подруге позвякивающий монетами кошелек.
Та с радостью приняла его и спрятала под одежду:
– Слава Тебе, отче Николае! Будет теперь нашей Настене приданое! И будет ей муж – добрый молодец!
– Самим бы нам, боярышня милая, без добрых молодцев не остаться, – покачала головой Варюшка. – Вон, ты худенькая какая. Ничего не ешь, по ночам на всю эту нищету горемычную трудишься. Чего доброго, захвораешь от такой жизни! Вот, и бабушка-покойница волновалась, и тетушка сердится, что такую худенькую в жены все брать побоятся.
– Зато тебе бояться нечего, – рассмеялась Уленька, шутливо похлопав служанку по дородным бокам.
– Да уж, – улыбнулась та, – не обделил Бог. Даже и слишком… Может, ты все-таки, боярышня, спать ляжешь, не пойдешь со мной? Час-то какой!
– Прекрасный час! – отозвалась Уленька, распахивая окно и с наслаждением вдыхая яблонево-черемуховый майский дух. – Послушай, Варюшка, как соловей поет! Диво-то какое дивное!
Соловей, действительно, выводил свою чудную песню в саду, видимо, тоже радуясь погожей и благоухающей майской ночи.
– А звезды какие, Варюшка! А месяц! Светло, будто днем!
– Тетушка узнает – худо нам обеим будет.
– Не бойся, она ни о чем не узнает. А если что, то вся вина на мне.
– Конечно… Ты, боярышня, всю челядь распустила. Давеча, вот, зачем сказала, что это ты кувшин разбила? Это же Лизка со своими руками кривыми обрушила его! Зачем ты всех выгораживаешь, все проступки на себя берешь?
– Как зачем? – сплеснула руками Уленька. – Если бы узнали, что это Лиза разбила кувшин, ее бы выпороли! А это… нельзя! Нельзя пороть людей, да еще за такую безделицу! А меня на сутки под замок посадили. Ну и хорошо, и славно! Я успела, никем и ничем не тревожима, работу закончить.
– А теперь в окно прыгать собралась, как сорванец какой, прости Господи…
– Не бойся, Варюшка, зачем мне в окно прыгать? Ключ-то от моей «темницы» у тебя, значит, мы, как добрые люди, а не разбойники, уйдем и возвратимся через дверь.
– А, небось, будь не у меня ключ, так и разбойным бы путем не побрезговала? – лукаво прищурилась Варюшка.
– Пришлось бы не побрезговать, – согласилась Уленька, закрывая окно. – Ну, идем же. А не то вместо соловья жаворонка дождемся, а с ним и солнышко красное.
Девочки осторожно вышли из горницы, задув свечу и заперев дверь, бесшумно сошли вниз и выскользнули в сад. Несколько минут они простояли под шатром любимой Ульяниной яблони, в ветвях которой и избрал себе прибежище в эту ночь соловей, а затем шмыгнули из калитки и торопливо заспешили вниз по улице.
Долю сиротскую Уленька хорошо знала. Сперва сложил голову на Царевой службе отец, нижегородский дворянин Иустин Недюрев, а следом унесла горячка и матушку, рабу Божию Стефаниду… Уленьке тогда лишь шесть годков минуло. Из Мурома приехала за нею бабушка, женщина благочестивая, но властная, привыкшая по давнему вдовству быть распорядительницей всего и всех в своем дому и хозяйстве.
Шесть лет возрастала девочка в бабушкином доме. Детские забавы и шалости были чужды ей, что немало удивляло родных, и вызывало насмешки двоюродных братьев и сестер. Они дразнили ее «черницей» и «богомолкой», но Уленька не обижалась. Богомолка и есть. Всем забавам предпочитала она шитье и иную подобающую девице работу, всем праздным разговорам – молитву и слушание святых книг. Сама Уленька не знала грамоте, хотя и очень жалела о том. Ей так хотелось самой во всякое время, в какое явится потребность, читать Святое Писание, Жития, столь наполнявшие восторгом душу… Но ни матушка, ни бабушка, ни тетушка также не знали грамоте. А дядья да братья принимали желание девочки учиться за причуду и блажь. Да и бабушка не принимала его всерьез.
– К чему тебе, девонька моя, грамотою трудить себя? Я, вот, век без нее прожила – и деток вырастила, и хозяйство вела рачительно, и шить, и ткать, и печь, и варенья варить, и все, что по дому нужно – все умела. А Писание батюшки нам растолкуют, к чему нам больше?
– Так ведь хочется все-все прочитать! От первой строчечки до последней! – возражала Уленька. Хорошо, конечно, батюшкино толкование, да ведь это лишь толика того богатства, что в святых книгах заключено…
Бабушка улыбалась, гладила внучку по голове:
– Полно, девонька! Скоро уж ты в возраст войдешь, сыщется жених по тебе, и совсем иные заботы пойдут у тебя, не до книг станет. К ним готовься. Учись, как хозяйство вести, рукоделью и прочему… А ребята пойдут – будешь учиться, как их воспитать. Это, милая, всем наукам наука! А Писание толковать оставь батюшкам. Наше женское дело – Богу молиться, а не мудрствовать.
– Да я ведь не мудрствовать, бабушка, я только о Господе и святых его, мужах и женах праведных знать больше хочу. Радость мне, когда о них слушать доводится, да мало от кого…
Бабушкин дом по благочестивому русскому обычаю был странноприимным. Здесь всегда имели ночлег странные люди, ходившие на богомолье по святым местам. Их Уленька могла слушать часы напролет, как зачарованная. Сколько дивных мест, оказывается, было на свете! Сколько чудес Божиих свершалось на земле! Сколько мужей и жен праведных великие подвиги несли на раменах своих и муки за Христа принимали! И мечталось Уленьке однажды в самом простом платье да в лаптях, с котомкою за плечами уйти вместе с этими странными людьми по неведомым и манящим путям-дорогам, собственными глазами увидеть святыни великие и поклониться им. Но заповедь послушания превыше мечтаний, даже если благочестивы они. Уленька знала, что ее удел исполнять волю бабушки, а затем – мужа, когда сыщут ей человека доброго…
Но было у девочки и иное стремление, кроме странствий – хоть немного уподобится тем праведникам, о подвигах которых так любила она слушать. И она всячески старалась для этого: строго постилась, отказываясь от завтраков, полдников и ужинов и позволяя себе лишь обеды, спала не более четырех часов, проводя остальное время в молитвах и трудах.
С ранних лет не могла выносить Уленька вида чужой беды, вся душа ее переворачивалась при виде увечных, нищих и всевозможных страждущих. Всякая протянутая рука, культя, всякий молящий взор казались ей обращенными к ней и только к ней одной. И если нечего было положить в ту руку, нечем осушить слез тех глаз, то чувствовала себя Уленька словно обманщицей, словно виноватой, словно бы камень вместо хлеба подала она просящему. И готова она была отдать последнюю рубаху чужой нужде, но кто бы позволил ей раздавать не ей принадлежащее?
Это было всего тяжелее! Она жила в прекрасном тереме, окруженная челядью, не знающая лишений и имеющая все, что потребно человеку, и даже с немалым избытком. Но ничего из этого имения не принадлежало ей, а принадлежало бабушке, дядьям, тетушкам. Всем, кроме нее – сиротки. И не могла она распоряжаться даже как будто своими вещами, не то что по слову Спасителя «раздать имение и идти за Ним». Всякий раз, бывая в городе, в окрестных селах, в церкви, видела Уленька вокруг себя бесчисленное количество страждущих. Да что в городе! Довольно было взглянуть на челядь, что в домах хозяев была на правах бессловесных животных… Убийство холопа даже по закону не считалось проступком много более тяжким, чем убийство животного… Недаром отец Ферапонт и другие батюшки наставляли хозяев прежде нищих, коим заведено было подавать милостыню, заботиться и с сердечным участием относиться к собственной челяди.
У бабушки челядь не голодала и не бывала терзаема почем зря. Бабушка никогда не забывала образа Божия в своих слугах. Но Уленька после очередной проповеди отца Ферапонта пошла дальше. Она стала все для себя делать сама, воспрещая даже подавать себе воду для умывания, разувать и раздевать себя. Бабушка пожимала плечами на такое чудачество, родня посмеивалась, но мешать в этом девочке никто не стал.
Самой же ей такого «подвига» было совсем недостаточно. Ее сострадательное сердечко требовало живой помощи бедным людям. Жертвы! Но для того, чтобы что-то пожертвовать, нужно сперва что-то иметь. А чтобы что-то иметь, нужно это что-то приобрести. Но как? И тут осенило детскую головку! А как простые люди добывают себе пропитание и прочее потребное? Зарабатывают своим трудом! Значит, и она заработает! Только не себе, а нуждающимся!
Эта мысль сделала Уленьку совершенно счастливой и, получив благословение отца Ферапонта, она посвятила в свой замысел свою служанку и подругу Варюшку, без помощи которой задуманное предприятие оказалось бы невозможным, и с горячим усердием взялась за дело.
Ей всегда легко давались хозяйственные заботы, к которым приучала ее бабушка. Готовить, ткать, прясть, шить – всякое дело спорилось в руках старательной девочки. Но особый дар был у нее к шитью. Одежда, покрывала, любые необходимые в обиходе вещи – все выходило у нее на-ять! Такие вещи не только служили, но и радовали тщанием и красотой работы. Узоры же, вышитые Уленькой шелком или бисером, даже строгий отец Ферапонт называл большим искусством, и поэтому доверил девочке вышить ризу для образа самой Пречистой…
Ночи напролет проводила теперь Уленька за шитьем. Плоды ее трудов Варюшка относила на базар и продавала. Эти вырученные деньги были уже собственностью маленькой рукодельницы! За них не должно ей было ни перед кем держать отчета! И она тратила их на нищих и убогих, действуя все через ту же верную подругу.
Когда Уленьке исполнилось двенадцать, бабушка тяжело занедужила и вскоре преставилась, завещав старшей дочери, матери девятерых детей, взять к себе племянницу-сиротку. Было это без малого три года назад. Так началась для Уленьки новая жизнь… Впрочем, нового в ней было мало. Тетка жила неподалеку от Мурома, и уклад в ее доме ничем не отличался от бабушкиного. Из слуг девочка взяла с собой только Варюшку. Из милостей – выпросила у тетки позволение по большим праздникам ездить в ставшую родной церковь, к дорогому отцу Ферапонту.
Все же занятия Уленьки шли по-прежнему. Только уж тяжелее стало в большом семействе от насмешек детей, не понимавших свою слишком набожную сестрицу, от ворчливости тетушки.
– Доведешь ты себя до хвори своими постами да молитвами! Благочестие – дело доброе, но нужно же и меру знать! Ты только взгляни на себя! Жердь жердью! Ведь такую тощую девку ни один жених за себя замуж не возьмет! Всех распугаешь!
Детвора хихикала и не упускала случая поддразнить сестрицу:
– Жердь жердью! Жердь жердью!
И старшая красавица Анфиса, просватанная еще в раннем детстве, вздергивала носик:
– За тебя и впрямь никто не посватается, смотри.
– На все воля Божия, – смиренно отвечала Уленька.
Этою ночью решилась она вместе с Варюшкой идти на дело благотворения. Соскучилась девочка в терему, да и Варюшка много раз жалобилась, что страшно ей в разбойные часы по улицам одной ходить. Хотя и не видали окрест никаких разбойников, ан все одно страшно! А в дневной час нельзя идти – люди увидеть могут, пойдут толки да пересуды, и, чего доброго, дознаются про Уленькину тайну.
Ночь выдалась как нельзя лучше для доброго дела! Тепло, светло, а дух-то какой! Чахли вдоль всей дороги черемухи своими скромными кистями, а кое-где за оградами набухала красавица-сирень. Нет в природе времени лучшего! Светлая седмица совсем недавно отошла, но еще и Церковь, и вся природа в унисон с ней ликовала:
– Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!
Лишь в два двора должно было зайти девочкам: Настене сундучок с приданым оставить и старухе Панкратьевне, что, ходя за расслабленным мужем до последней скудости дошла, мешочек с разной снедью – ей и болящему побаловаться. А уж к Мавре Никитичне можно будет и днем по пути из церкви забежать… Она одна все про тайное Уленькино благотворение знает.
В прошлом году вспыхнула какая-то жестокая болезнь в окрестностях Мурома, много жизней покосившая. Перепугались люди насмерть, до бунтов дело дошло по местам. А всех хуже пришлось болящим, ибо здоровые, боясь заразиться, ничем не желали им помочь, за версту обходили их дома, а случались и безумные, что предлагали такие дома жечь вместе с несчастными.
Среди заболевших оказалась Мавра Никитична, ее муж Борис Тимофеевич и их сынишка Петруша. Этих-то троих несчастных и бросили умирать без ухода, пищи и воды, ибо сами они не могли подняться. Узнав об этом, Уленька решила, во что бы то ни стало, помочь несчастным. Варюшка на сей раз наотрез отказалась помогать ей, заревела горько:
– Пожалей меня, боярышня милая, я смертушки боюсь! Ох-ох-онюшки, как боюсь!
Не то, чтобы Уленька не боялась смерти. Но гораздо больше страшило ее сознание, что три невинных человека в муках умирают, оставленные всеми. И всякую ночь отважная девочка стала, одевшись простой крестьянкой, сбегать из терема, чтобы ходить за больными. Она сама мыла их, готовила и подавала им пищу и лекарства, и, конечно, неустанно молилась об их исцелении. Увы, хозяин дома, и без того хворый, преставился, несмотря на все старания. А, вот, Мавра Никитична с сыном поправились к великому удивлению соседей. Теперь Уленька, которую Господь уберег от смертельной заразы, старалась по возможности помогать бедной вдове, а та свято хранила ее тайну. И когда спрашивали ее, кто же помог им с Петрушей в дни болезни, отвечала коротко:
– Господь милосердный своего ангела послал!
Когда до дома Настены осталось лишь несколько шагов, неожиданно налетел порывистый ветер, и небо, только что столь ясное, затянулось непроглядными тучами. Варюша задрожала и прижалась к Уленьке:
– Ой, боярышня, жуть-то какая! Хоть глаз выколи! Как же мы домой-то возвращаться будем?
– Дорога прямая, не заблудимся, – беспечно откликнулась Уленька.
– Ты уже заблудилась, Ульяна! – раздался вдруг злой и неприятный голос, и прямо перед девочками выросла огромная, страшная тень. Это не был человек, но не было и животное. Уленька не могла разглядеть его самого, но лишь красноватые, как раскаленные угли глаза, впившиеся в нее с неугасимой ненавистью и готовые испепелить.
Над головой неведомого существа сверкнула молния и грянул гром. Варюшка с визгом ничком упала на землю и лишилась чувств. На колени упала и Уленька, уже поняв, кто перед ней.
– Слушай меня, Ульяна! – хрипло сказал бес, кругом которого шел дым от только что ударившей молнии. – Прекращай свое благотворение! Если не прекратишь, то худо тебе придется! Страшною смертью умрешь ты, если не оставишь своих подвигов!
Как ни жутко было Уленьке, как ни похолодела душа ее, но не позволила она страху завладеть собой и, истово закрестившись, взмолилась:
– Святый отче Николае! Приди ко мне на помощь! Защити от нечистого духа!
В тот же миг небесное сияние разлилось между девочкой и нависавшим над ней демоном. А в сполохе света явилась сухонькая старческая фигура с белоснежной бородой и в архиерейском облачении. Святитель Николай поднял руку с архиерейским посохом и приказал:
– Изыди, сатана, и не смей впредь смущать агницу Божию!
Снова загрохотал гром, слившийся с яростным рыком, в котором расслышала Уленька последнюю угрозу:
– Придет время тебе голодом помирать, нежели чужих людей кормить!
В следующий миг исчезло жуткое существо, рассеялся дым, а следом рассеялся и сполох света со старцем-святителем… Вновь вернулись на небо месяц и звезды, улегся ветер. Точно и не бывало ничего, та же дивная майская ночь, ничем не тревожимая…
Уленька, помертвевшая от пережитого потрясения, некоторое время не находила в себе сил подняться, а лишь тихо плакала, вознося благодарные молитвы Николаю-Угоднику и всемилостивому Господу. Когда же силы и спокойствие вернулись к ней, девочка принялась приводить в чувство подругу. Пришлось добежать до ближайшего ручья и зачерпнуть воды, чтобы побрызгать ею в пугающе неживое лицо Варюшки. Наконец, та открыла глаза и тотчас с испугом схватила Уленьку за руку:
– Святые угодники, что это такое было, боярышня милая? Страх-то какой!
– Ничего, Варюшка, просто гроза набежала и рассеялась, а нам, трусихам невесть что помстилось.
– Помстилось?.. – недоверчиво переспросила служанка, пугливо озираясь.
– Конечно, – улыбнулась Уленька. – Видишь, никого нет. А мы с тобой столько времени потеряли… Чего доброго, не успеем вернуться до свету – вот, тогда нам с тобой и впрямь страх будет от тетушки!
Угроза хозяйского гнева возымела действие, и Варюшка, охая и причитая, поднялась на ноги.
– Может, мы лучше домой вернемся? – робко спросила она.
– Ну, уж нет! – воскликнула Уленька. – До дома Настены два шага осталось! Вот, занесем все и вернемся! Только идти надо шибче! Давай, Варя, поспешай! Не отставай, голубушка моя! – и почти бегом припустилась девочка вперед по залитой лунным светом дороге. Варюшке ничего не оставалось, как бежать следом за своей юной госпожой.
Они успели наведаться к Настене и старухе Панкратьевне и уже до рассвета были дома, где никто не заметил их отлучки. Варюшка сразу ушла отсыпаться в людскую, а Уленька, помолясь, также легла и забылась на удивление крепким сном. Разбудил ее голос тетки:
– Не узнаю тебя, душа моя! – говорила та, тряся племянницу за плечо. – То чуть свет на ногах, а то уж солнце давно стало, а тебя не добудишься! Что с тобой? Ты уж не захворала ли? – прохладная рука коснулась лба девочки.
– Я здорова, тетушка, – бодро откликнулась Уленька. – Но вы же сами заперли меня, я долго не могла уснуть, огорчаясь своей неловкости и вашему гневу… А потом, вот, от огорчения и сморило меня.
– Полно! – тетка усмехнулась. – Кувшину тому грош цена в базарный день. Поднимайся живо и приведи себя в порядок. Нет! Нынче я сама прослежу за твоим нарядом!
– Что-то случилось, тетушка?
– Случилось. К обеду гости к нам будут. Осорьины из Лазарева. Сын их, Юрий, будучи наслышан о твоих добродетелях, желает посмотреть на тебя. И родители его тоже.
Так и обмерла Уленька. Смотрины! Так нежданно, и именно после такой ночи…
– Ну, что сидишь-то? Экая ты…
Уленька покорно встала, налила из кувшина воды в тазик для умывания. Тетка смотрела на нее с явным неудовольствием:
– Тоща… Как жердь, тоща… Кто ж тебя такую возьмет. И бледная какая! Надо хоть подрумянить тебя будет. Прошу тебя, душа моя, не пугай ты их своими монашескими привычками, будь за обедом весела и приветлива, как подобает девице на выданье! Осорьины – люди хорошие, благочестивые, род их древний, имение достаточное. И сын их Юрий – молодец хоть куда! О лучшем женихе для тебя и мечтать нельзя! Слышишь ли ты меня или нет?
– Я слышу, тетушка, – кивнула Уленька, принимаясь расчесывать свои длинные, густые волосы. – И я все сделаю так, как вы велите. Буду приветливой и веселой. И по хозяйству покажу все, что умею. Только…
– Что «только»?
– Не надо румян, пожалуйста…
Тетка тяжело вздохнула:
– Бог с тобой! Будь бледным пугалом, коли тебе так больше нравится. Но если твой суженый тебя испугается, пеняй на себя! – с этими словами она распахнула дверь и зычно крикнула: – Варька! Стешка! Палашка! Живо подавайте боярышне одеваться!
Тетка оказалась права. О лучшем женихе мечтать было нельзя. Истинный богатырь русский… И, как подобает богатырю, всю жизнь на Царевой службе провел. Вместе с Государем Иоанном Васильевичем под Казанью и под Астраханью мужествовал, а затем и в землях западных. Иной раз годами Ульяна мужа не видела, зато уж как возвращался сокол ясный, так и наглядеться не могла на него!
Всю жизнь в любви и почтении друг к другу прожили – мало кому такое счастье даровано бывает. Детками Господь благословил – 13 их было, да, вот, только пятеро осталось. Шестеро сами померли, а двое сыновей на Царевой службе пали. Что делать! Бог дал, Бог взял…
Семья мужа быстро стала для Ульяны родной. Свекор со свекровью сердечно привязались к доброй, заботливой, ласковой и рачительной невестке. Иной раз две хозяйки под одной крышей ужиться не могут, но старуха Осорьина, оценив хозяйственную распорядительность невестки, постепенно сама передала ей все «бразды правления» в доме. Лишь одно огорчало в Ульяне добросердечную старушку: строгий пост, которым она продолжала «изнурять» себя, выйдя замуж.
– Куда ж это годиться, раз в день кушать! Тебе ведь деток родить, а на то силы потребны! А ну как захвораешь?
Но Ульяна не хворала. Ни разу в жизни. А свекровь вскоре была успокоена. Когда после очередного неурожайного года, Муром и окрестности наполнились голодающими, Ульяна озаботилась тем, где раздобыть для них еды. Выручки от продажи рукоделий не хватало, а распоряжаться имуществом мужниной семьи она не могла, как прежде и имуществом семьи своей. Тогда Ульяна стала просить себе и завтраки, и полдники, и ужины.
– Что это ты, милая, – лукаво спрашивала свекровь, – пока изобильные годы стояли, лишний кусочек съесть боялась? А теперь, как голод настал, так такая охота к еде в тебе, наконец, пробудилась?
– Так ведь детишек все больше делается, – улыбалась в ответ Ульяна, и впрямь носившая под сердцем очередное чадо. – Истощают они меня, надо силы поддерживать! Все время теперь есть хочется!
– То-то же, – довольно кивала старуха. – Давно бы так! – и удовлетворенная, что невестка взялась за ум, распорядилась, чтобы еду из кладовых могла брать она во всякое время.
Конечно, сама из этих запасов Ульяна не съела ни крошки. С годами она лишь строже постилась, лишь больше ограничивала себя во всем. Когда же свекор со свекровью отошли в лучший мир, приняв перед кончиной постриг, наступило время для того, к чему так стремилась всю жизнь Ульяна – широкому благотворению. Отныне запасы в имении делались лишь на год, все же собранное сверх раздавалось нищим. Ни один убогий, приходивший в дом Осорьиных, не уходил оттуда тощ и не утешен сердечным словом.
Юрий, хотя и считал чудачества жены избыточными и иногда укорял ее за то, но не препятствовал. К тому же время и силы его занимала служба, и ведение хозяйства он всецело доверил Ульяне. После гибели старших сыновей хотела она уйти в монастырь, но Юрий отговорил – ради себя и младших детей.
Но, вот, и младшие выросли и зажили своими семьями. Юрий же почил, завещав имение сыну Дружине. Как ни люб был Ульяне сын, как ни понимал он ее, относясь с великим почтением, а все ж не хотелось на старости лет снова как бы приживалкой в чужом дому становиться, с невесткой, чудачества свекрови осуждавшей, спорить, зависеть от сыновней семьи. Собралась Ульяна да и уехала вместе с верной Варварой на родную Нижегродчину, в родительскую вотчину, столь долго по ней кручинившуюся.
Здесь завела Ульяна в хозяйстве тот же порядок, что и в Муроме: запасы делались лишь на год, а все излишки раздавались нищим. Раздавала она и все личные вещи. Зимой ходила без шубы, отдав и ее. Холода Ульяна не чувствовала. Не чувствовала и усталости, хотя спала теперь лишь по два часа, а работала еще больше прежнего.
– Ах, госпожа моя бесценная, милостивица, да ведь ты же совсем очи свои ясные испортишь работой этой! – сокрушалась Варвара. – Ну, как, не дай Господи, ослепнешь?
– И что ж это стращают все меня всю жизнь, – отвечала, качая головой, Ульяна. – То замуж не возьмут, то детей вырастить не сумею от истощения, то ослепну, то от заразы сгину… Помнишь, пять лет тому, ходила я в баню заразных больных обмывать? Как вы все стращали меня тогда… Ан ничего! Седьмой десяток лет на свете живу, ни зараза не пристала, ни посты в могилу не свели, ни слепота не одолела, и замужество счастливо прожила, и деток вырастила. Все от Господа, Варюшка. На все одна только Его воля. А потому нечего нам бояться, нужно только дело свое делать на ниве Его. А прочее Он управит.
Но одной угрозе попустил Господь сбыться. Самой страшной угрозе, из уст врага рода человеческого прозвучавшей…
Три года неурожая тяжким бедствием пали на Русь. Царь Борис Годунов открыл в Москве скудоприимницы, стал раздавать хлеб из государственных амбаров, но это не спасало народ от мора. Уже сами скудоприимницы скоро заполнены были умершими от голода.
– Кара Господня! – шептались в народе. – За невинную кровь отрока-царевича!
Царевич Димитрий Иоаннович, законный наследник русского престола по смерти брата Феодора, был зарезан в Угличе, где жил с матерью в ссылке. Кому нужна была смерть несчастного отрока? Называлось одно имя: Годунов! Брат Феодоровой жены, так давно мечтавший о власти… Верен ли был слух тот или нет, одному Богу ведомо. А только если верен, то не диво, что за великий грех Царев вся земля мором карается.
А грех умножался только на земле, и не Царем уже, но самими людьми. Казалось бы, при этаком бедствии как должны были бы повести себя добрые христиане? Устремиться в церкви, замаливать грехи, слезно просить у Бога избавления от беды и прощения, помогать друг другу, делиться последним… А что же поделалось на Руси? Какие-то разбойники при чинах и без страха Божия успели еще за гроши скупить и запрятать по своим амбарам запасы хлеба, а, когда настал мор, подняли цены на него в тридцать раз! В тридцать! Да кому же в обнищалой и голодной Руси такой хлебушко по зубам стал?! Велел Царь таковых злодеев карать без пощады, но то ли слишком много оказалось их, то ли слишком хитры были, то ли неумело действовали Царевы люди, а только не удавалось и Царю справиться с этим невиданным наживательством на смерти и горе ближних.
А ведь за такой грех Господь, знать, еще больше взыскует?..
А что же бояре да дворяне? Спасаясь от голода сами, стали выгонять прочь свою челядь. Без отпуска, без освобождения от крепости, чтобы в лучшие времена закабалить обратно, без всякой помощи – выгоняли просто так, нищими в чистое поле. И куда же могут пойти такие нищие? Те из них, кто не согласен был просто лечь и смиренно умереть в голодных муках? Да в разбойники же! В обычные, которые на дорогах лютуют… И залютовали по Руси ватаги разбойничьи! Бойся, всякий хожалый! Бойся, всякий проезжий! Не только тела, но и души своих слуг губили хозяева нерадивые…
И вот – один сплошной кровавый грех и бесчинный разбой царят на Руси – от Царя до последнего нищего, что с дубиной подался в леса… Какой-то кровью, каким-то страхом еще взойдет этот посев? Как-то платить придется за него? Страшно, Господи!
Запасов Ульяны Осорьиной, как всегда, хватило ровно на год. И пополнить их было нечем. Крестник Ульянин, Николай, сын той самой Настены, которой некогда подарила она приданое и который теперь помогал ей в хозяйственных заботах, сокрушенно заключил:
– Делать нечего, голубушка-барыня, челядь надо распускать. Не сможем мы прокормить ее.
– Нет, Николушка, не годится этак, – возразила Ульяна. – Куда же они пойдут? В леса разбойничать, как другие несчастные? Так ведь их разбой на нас грехом ляжет. Как же нам души-то людские губить? Нельзя этого…
– А что же тогда остается? – робко спросила круглая, румяная Варвара.
Оставалось распродавать все, что было в доме и за его пределами. Оставшуюся скотину. Всю утварь. Все вещи. Все ценное и грошовое. Себе Ульяна оставила лишь две смены самого простого платья, теплый платок грубой шерсти и крепкие башмаки. Все прочее было распродано. Но вскоре пришел день, когда продавать стало нечего. Между тем, двор Ульяны наполняла не только челядь, но и стекавшиеся со всех сторон нищие, привыкшие, что здесь всегда подадут им пропитание.
Истратив последние средства, Ульяна велела созвать всех холопов, и, выйдя к ним на крыльцо, сказала:
– Детушки, все вы знаете, какая беда постигла нас. Все вы свидетели, что я делала все, чтобы не допустить вас до голода и отчаяния. Но, вот, исчерпаны последние запасы наши. Посему я предлагаю дать всем вам вольные с тем, чтобы вы могли разойтись и жить впредь своим умом, как кого Бог сподобит.
Гробовая тишина с редкими бабьими всхлипами и негромкими перешептываниями мужиков была хозяйке ответом.
– Что же вы молчите? – окликнул их Николай. – Барыня вам вольные предлагает, не то что другие хозяева! Свободными людьми станете!
– Да на кой нам такая воля? – отозвался бывший конюх Силантий. – И куда нам идти от нашей госпожи-милостивицы? Нет уж, жили вместе, а коль пришла пора помирать, значит, и помирать вместе будем.
Это решение поддержала добрая половина челяди, другая же, взяв отпускные, покинула родные края.
– Что ж теперь делать будем, матушка? – спросила Варвара, тучность которой немало поубавилась за этот год.
– Что делать? – высоко вскинула голову Ульяна, распрямляясь и оглядывая верных слуг. – Жить будем! Богу молиться будем, чтобы оборонил нас от искушений и пущей беды! – голос ее звучал громко и бодро, и бодрость эта передавалась людям. – Лебеду собирать будем, кору древесную, всякую былинку, всякую росинку маковую. А из этого будем муку делать и хлебы печь!







