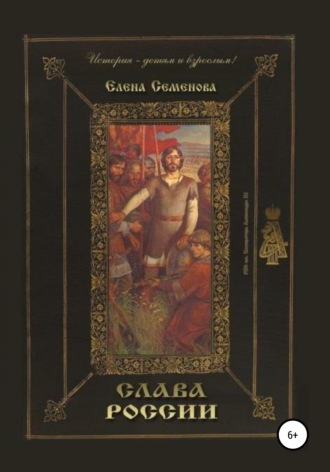
Елена Владимировна Семёнова
Слава России
– Читай, коль грамоте научен.
Андрейка жадно схватил книгу, оказавшуюся «Апостолом», и начал читать. Голос его сперва дрожал от волнения, а затем окреп, зазвучал стройно и громко. Федор Михайлович кивнул:
– Молодец, хорошо читаешь. Теперь напиши что-нибудь.
Почерк левши, понятно, крив, но все ж разборчив. Благодетель остался удовлетворен.
– Ну, а счету учили ли тебя?
– Совсем немного, отец Мефодий сам не мастак был считать… Да и что считать в церкви? Свечи разве…
– Немногого будет довольно, – сказал Ртищев. Синие глаза его лучились теплотой, и от одного их взгляда яснее делалось на сердце. Немного помолчав, он объяснил: – Мне, Андрей, нужен человек для помощи страждущей братии. Конечно, у меня есть люди, но мне нужен человек, который сам знает эту братию.
– Нищих?
– Нищих, убогих… Даже разбойников, – кивнул Федор Михайлович. – Мною создано в Москве несколько богаделен. Тех, кого еще можно вернуть к обычной жизни, там лечат, подыскивают занятие, либо отправляют в деревню с подъемными. Старики и калеки остаются там навсегда. Есть люди, которым довольно просто помочь, подать руку… Но есть и обманщики. Ты долго жил в этой среде, знаешь ее. И сможешь лучше многих других определять, кому и какая помощь потребна.
– Но ты совсем не знаешь меня, батюшка Федор Михайлович, – заметил Андрейка. – Как ты можешь доверять мне?
– Не ты ли вчера клялся быть мне верным псом?
– А что если я один из тех обманщиков?
– Значит, я буду обманут, а ты возьмешь на душу большой грех, – развел руками Ртищев.
Так началась служба Андрейки Федору Михайловичу. Размах милосердной деятельности последнего поразил вчерашнего нищего. Ртищев основал в Москве первую больницу для бедных, где под постоянным присмотром находилась дюжина больных. Вскоре была построена странноприимница. Слуги Федора Михайловича разыскивали и приводили в этот дом больных, неимущих и пьяных – до протрезвления, чтобы не замерзли на улице. Хворых и нищих лечили, кормили, одевали, хлопотали о дальнейшем устройстве. «Чудесный боярин» сам посещал странноприимницу, проверяя, как ухаживают за ее обитателями.
Андрейка, бродяжничавший несколько лет, лучше иных знал нищую братию и со всем рвением взялся за дело. Нуждавшихся в лечении он вел в больницу и странноприимницу, о нуждах других докладывал своему господину. Вот, скажем, у кузнеца Филимона сгорела кузня, от того пьет он, а баба его и ребятишки побираются. Чем тут горю помочь? Помочь Филимону восстановить кузню, чтобы вновь мог он трудиться и содержать семейство. А, вот, вдова с дочерями-бесприданницами. Тут еще Никола-Угодник пример подал, как пособить в таком случае: дать девкам хоть какое приданное. А иной и толковый человек, а зашила судьба его в черную шкуру – долг над ним тяготеет, лишая всего. Выкупишь долг у заимодавца, отсрочишь бедняге выплату на срок дольний, и, глядишь, спасен человек!
Ежевечерне являлся Андрейка к своему господину и докладывал обо всех нуждах, а также о том, как ладится работа в больнице и странноприимнице. Вскоре стал бывший нищий правой рукой царского окольничего в делах милосердия. Удостаивался он даже чести разделять с Федором Михайловичем трапезу. Всей душой привязался Андрейка к «чудесному боярину». Он и впрямь служил ему, как пес, но в этом не было ничего зазорного. Ведь пес – олицетворение преданности. А преданность – большая добродетель.
В милосердных хлопотах проходили годы, и всякий день благодарил Андрейка Бога, что тот дал ему такого господина и такую службу. Все это время он был почти не разлучен с Федором Михайловичем. Лишь когда тот покидал Москву, оставался «за старшего» в благотворительных делах. Ртищев уже успел убедиться в том, что не зря почтил доверием безвестного бродягу, что его «приказчик милосердных дел» ни полушки не возьмет себе, не слукавит сам и не попустит обманывать другим. Но, вот, приспело время послужить и далеко за пределами столицы.
Страшный голод постиг вологодскую землю. Узнав о бедствии, Федор Михайлович распорядился срочно продать часть своего имущества, включая одежду и утварь, и снарядил в помощь голодающим целый караван. Вологодскому архиепископу Симону было отправлено 200 мер хлеба, 900 рублей серебром и 100 – золотом. Сопровождать этот караван Ртищев приказал Андрейке.
Долен путь от Москвы до Вологды, и пленяется сердце раскрывающейся путнику загадочной красотой русского севера… Но до красоты ли, когда чрез леса бескрайние везешь столь ценный груз? Хотя для сопровождения его дал Федор Михайлович довольно людей, а все ж тревожно было. Ну как разбойники налетят? Баловали шайки их на больших дорогах. Зорко всматривался Андрейка единственным глазом в лесную чащу, чутко прислушивался ко всякому звуку…
Вдруг почудилось, будто бы крики слышны впереди. Андрейка сделал знак своим спутникам остановиться, вслушался в лесную тишину. Так и есть! Женские голоса звали на помощь, а за ними различало чуткое ухо и грубые гики… Не дать, не взять, напали лиходеи на каких-то несчастных путников!
– Андрей Петрович, повернем-ка мы на другую дорогу от греха! – шепнул дядька Филат, кивнув на оставшийся позади поворот.
– От греха, говоришь? – нахмурился Андрейка. – А бросить христианские души на расправу лиходеям это по тебе не грех, значит?
– Наше дело – барское добро стеречь и в целости доставить! А не разбойникам его тащить!
И то верно. Барским добром рисковать не годится. Тем более что не барское оно, от добра этого жизни многих умирающих от голода зависят.
– Вот что, Филат Григорьич, бери-ка ты наши подводы и езжай по другой дороге, а я возьму пару наших людей и посмотрю, какая там нечисть куражится!
– Ты что удумал? Барин строго-настрого велел…
– Федор Михайлович вперед о людях беспокоится. Вот и я об них побеспокоиться хочу! – Андрейка хлопнул Филата по плечу: – А ну-ка, братцы! Кто со мной разбойников потревожить?
Больше половины отряда вколыхнулась на призыв. Но нельзя рисковать караваном, люди для его защиты нужны. Потому отобрал Андрейка лишь троих молодцов и, пришпорив коня, вместе с ними поспешил туда, откуда доносились крики.
Слух и догадливость не подвели бывшего ратника. Разбойники напали на несчастных проезжих. Одна из двух повозок была перевернута, и рядом лежал заколотый детина, с которого злодеи уже стащили кафтан и сапоги. Тут же поодаль распростерлась бездыханная баба, грудь которой была залита кровью… Разбойники проворно растаскивали сундуки и мешки, на ходу разбирая их содержимое. Из второй же повозки доносились отчаянные крики…
Андрейка не стал тратить времени на размышления. Молнией вылетел он из леса, выхватив меч, упражнениям с которым также успела навыкнуть левая рука, и обрушился на лиходеев, затащивших в повозку молодую девицу. Двое разбойников, не ждавших нападения, были зарублены им сразу. Прочие, придя в себя, бросились на него. Но в этот миг на выручку подоспели трое его спутников. Злодеев оказалась целая дюжина, и от того бой выдался жарким. Со времен Смоленска не доводилось Андрейке бывать в такой передряге! Испытывать такого прилива слепой ярости, когда никого и ничего не жаль, а есть лишь одно желание – истребить врага!
Еще трое разбойников были изрублены им в той сече. Еще пятеро убиты людьми Ртищева, один из которых и сам получил смертельный удар топором по голове… Уцелевшие злодеи бежали в лес. Андрейка соскочил с коня и приблизился к смертельно перепуганной девице. Совсем ребенок еще, лет тринадцать… Хрупкая, белая как полотно, косы пшеничные растрепаны, одежда изорвана. Круглые от ужаса серые глаза точно остановились… Уж не помешалась ли бедняжка? Есть от чего! Вся семья ее, отец, мать, брат, убиты злодеями… Андрейка протянул к девице руку, но та в испуге отпрянула. Оно и понятно… Он, с его изуродованным лицом, сам что разбойник – немудрено испугаться.
– Не бойся нас, – сказал Андрейка как можно ласковее. – Мы не разбойники. Мы люди царского окольничего Федора Михайловича Ртищева, везем от него хлеб в Вологду.
Девица ничего не ответила. Лишь подтянула к груди ноги и спрятала в коленях лицо. Андрейке стало отчаянно жаль ее, такую беззащитную в этом огромном жестоком мире.
– Соберите все! – велел он своим людям.
Те перевернули поверженную телегу, бережно перенесли в нее своих убитых, вещи же сложили к ногам онемевшей девицы. Андрейка привязал своего коня к повозке, а сам взялся за вожжи.
– Едем! – крикнул он, и скорбный маленький караван тронулся в путь.
– Ты не бойся, мы тебя не обидим, – повторил Андрейка, обращаясь к девице, и, сняв кафтан, набросил ей на плечи. Она вздрогнула, но не отшатнулась.
– Ты из Вологды?
Девица кивнула, и Андрейка почувствовал некоторое облегчение: значит, не помешалась…
– Есть ли у тебя родственники там или где еще?
Качнулась отрицательно золотистая головка. А, вот, это худо! И очень худо! Куда ж ее теперь? Знал Андрейка долю сиротскую, врагу не пожелаешь. Он, мужчина, насилу выжить сумел – спаси Бог Федора Михайловича. А девке каково? В монастырь или в омут… Снова взглянул искоса Андрейка на девицу, стараясь не поворачиваться к ней изуродованной стороной лица. А ведь красавица писанная! С такого личика воду пить да и только… Хороша! Теперь еще юница совсем, а года через два такая краля сделается, что любой молодец обомрет, такую красоту созерцаючи. И ее-то в монастырь запереть?..
– В Москву с нами поедешь, – сказал Андрейка решительно. – Федор Михайлович для всех сирых и скорбных отец родной. Он тебя непременно приветит и позаботится, и от злых людей защитит. Он ведь святой, милостивец наш. Таких людей, почитай, и нет на свете. Ты не бойся, милая, никто больше не причинит тебе зла. Я обещаю тебе.
Девица глухо всхлипнула, а затем вдруг зарыдала отчаянно, прижавшись к плечу Андрейки. Он и растерялся даже… Привык он к слезам больных да нищих, привык утешать, но чтобы красная девица у него на плече плакала – такого не бывало с ним. И не находился он, что сказать и сделать. Боялся даже пошевелиться, боялся, что поднимет она глаза свои чудные и испугается, лицо его увидев. И даже волос ее тронуть не мог, приласкать отечески – плакала сиротка на левом плече его, а правой-то руки давно не было… А ведь как бы пригодилась теперь…
– Поплачь, милая, поплачь. Легче станет… Тебя как звать-то?
– Варенькой…
– Варварою, значит. А меня Андреем зови. Я, Варенька, сам сирота и от лихих людей много натерпелся. Будешь ты мне, как сестрица названная. Я ведь и убит был, а выжил… И ты, милая, выживешь.
Андрейка ласково шептал плачущей девице утешительные слова, и с удивлением чувствовал, как наполняется его сердце каким-то ранее неведомым, горячим, словно кипящая смола, чувством. Нет, никогда не оставит он теперь этой бедной сиротки. Будет ей хоть братом, хоть псом сторожевым, как сама она пожелает. А только будет – рядом с ней, от всякой беды защищая ее. Всякому человеку нужен кто-то, кто нуждался бы в нем, кто-то, о ком бы мог он заботиться, кому отдать самое лучшее, что живет еще в оледеневшем на студеных жизненных ветрах сердце, кто-то, ради кого хотелось бы биться этому сердцу.
***
Иван Озеров умер разоренным дотла. В маленькой церкви, кроме попа и нескольких оборванных дворовых людей, провожал его в последний путь лишь Федор Михайлович. Он и все расходы на похороны взял на себя. Так и не пожелал примириться с ним друг детских лет… Упрямая голова, гордое сердце! Втемяшил себе, будто бы из-за Ртищева нет ему хода по службе, и всякую беду свою стал приписывать ему. Как наваждение сделался для него Федор Михайлович, во всем чудилось ему недоброе вмешательство прежнего друга. А все попытки примириться считал Иван лицемерием и только хуже ярился, став, в конце концов, совсем безумным…
– Прости, Ваня, – с горечью отдал Ртищев последнее целование Озерову, скорбя о том, что ушел новопреставленный в мир иной в ожесточении и непримиримости.
И сколькие уходят так! Или уйдут… Злобились раскольники, теснимые патриархом и Царевой властью, злобился патриарх, гневался Царь. Служилые да и простого звания люди, приняв внешне новые обряды, тайком продолжали молиться по-старому. Упрямые старообрядцы мыкались в ссылках по дальним углам, были мучимы и гонимы за свое упрямство. Где уж тут взяться миру и любви Христовой?
С горечью созерцая нарастающую разладицу русской жизни, все больше устранялся Федор Михайлович от дел государственных. Казаки запорожские, памятуя его заботы, по смерти Хмельницкого просили Государя дать им Ртищева в гетманы, а того лучше поставить на княжение в Малороссии. Но не сделал Алексей Михайлович наперсника своего князем Малороссийским, иное поприще избрав для него. И поприща того не могло быть важнее – сделался Федор Михайлович наставником Царевича Алексея, наследника престола московского.
С младенческих лет отличался Царевич похвальной любознательностью и отменной памятью, в учении был способен и усерден. Будущий Государь изучал латинский и польский языки, славянскую грамматику, арифметику, философию. Из-за границы выписывались для него книги и детские потехи, игрушки, развивающие сообразительность ребенка. Юному Царевичу прочили в жены племянницу польского короля. Венценосному отцу его мечталось, что сын унаследует русский и польский троны и объединит две державы, покончив тем нескончаемую распрю меж ними. Алексей сам встречался с польскими посланниками и держал перед ними слово, явив при том замечательное благоразумие.
Ртищев, не имевший сыновей, привязался к своему питомцу всем сердцем. Он не только обучал его наукам, но и стремился привить не менее, а, может, и более важное – милосердие, понимание не только дел государственных, но и жизни народной, сердца человеческого.
В этот день Алексей вместе со своим наставником приехал в странноприимницу Федора Михайловича. Царевичу шел шестнадцатый год. Тонкий, гибкий юноша с льняными волосами и чуть начавшим пробиваться пухом усов, с ясными, как у отца, глазами и вдумчивым выражением лица, он был похож на херувима. Было что-то неземное в этом царственном мальчике, что-то трогательное и в то же время тревожившее… Говорят, таких неотмирных земля худо держит. Отчего бы? Ведь они более всех нужны ей. И Русской земле так нужен мудрый и милостивый Царь, каким обещает он стать!
У дверей странноприимницы Ртищева и его воспитанника встречал Андрей. Он единственный знал, какой высокий гость переступает порог милосердного дома. Царевич не желал быть узнанным и нарочно обрядился в самое простое платье и не взял с собою никого из слуг. Андрею надлежало доложить обо всех обитателях странноприимницы – так, как обычно докладывал он Федору Михайловичу. Тот же присовокуплял к тому пояснения об общем устроении милосердного дома.
– Некоторые говорят, что такая забота только умножает число нищих, – заметил Царевич. – Если можно выпросить кусок хлеба, то к чему зарабатывать его.
– Конечно, ледащие находятся всегда, – согласился Ртищев. – Но большинство несчастных приводит на паперть беда, а не леность. Если среди многих воистину несчастных мы нечаянно поможем нескольким обманщикам, то это не беда. А, вот, если страха ради этих обманщиков лишим помощи и надежды погибающих, обречем их погибели…
– Ты прав, Федор Михайлович, – кивнул Царевич, не дослушав. – Как всегда… Ты умеешь думать о целом, а другие все больше мыслят о мелочах.
Он был не по годам серьезен, этот юноша. И от того светлые глаза его время от времени полнились затаенной печалью.
– Знаешь ли, я много думал об этом. Дома милосердия, больницы не должны быть делом одной доброй души или даже нескольких. Мы должны создавать их за счет казны. Не должно христианским душам пропадать в канавах… А уж паче того не должно христорадничать увечным ратникам, потерявшим здоровье на Царевой службе.
При этих словах просветлело лицо Андрея, но он не посмел вмешаться в разговор, тем более что «узнавать» Царевича было ему не велено. Ртищев, однако, заметил радость своего верного слуги и едва заметно кивнул ему, в то же время с гордостью и любовью взглянув на воспитанника. Слова Алексея и для его души были истинным бальзамом. Среди распрей, войн и смут чем можно сделать этот мир лучше? Одним лишь – просвещением и милосердием. Смиренным врачеванием ран.
– Это матушка велела передать на нужды твои, – завершив обход, Царевич протянул своему воспитателю большой, тяжелый кошелек.
Царица Марфа Ильинична с давних пор проявляла большое участие к делам милосердия и часто жертвовала на них немалые суммы, не спрашивая у Федора Михайловича никакого отчета в их трате. Поклонился Ртищев Царевичу:
– Благослови Бог Государыню за щедрость ее!
Алексей с чувством обнял наставника:
– Помоги Бог тебе в твоих заботах о сирых и убогих, никого у них нет, кроме тебя!
Странноприимницу Царевич покинул один, не велев Ртищеву провожать себя. Юноша желал прогуляться верхом, а Федору Михайловичу такие прогулки уже давно сделались весьма затруднительны. В свои палаты возвращался он в коляске, сопровождаемый верным Андреем.
– Не бывает таких царей, – покачал головой «приказчик милосердных дел». – Ягненок да и только! А вокруг стая волчья…
– Много ты рассуждать взялся, – осадил его Ртищев. – Алексей Алексеевич кроток и добр сердцем, но отнюдь не бессловесный агнец. К тому же отец его, благодарение Богу, еще крепок силами, и Царевич успеет довольно возмужать к тому времени, как пробьет час водрузить на свою голову Мономахов венец.
– Когда при нем ты будешь, душа моя спокойна.
– Мои силы не столь крепки… – вздохнул Ртищев. – Но я надеюсь, что кое-что успел и еще успею заложить в его душу… Однако же, я об ином хотел поговорить с тобою.
– Слушаю тебя, благодетель мой.
– Варваре твоей замужем быть пора. Она же мужеского пола дичится, но при том и в монастырь уходить не желает.
При этих словах Андрей вздрогнул и напрягся, что не укрылось от внимательного взгляда пристально смотревшего на слугу Ртищева.
– Чего ж ты от меня хочешь, Федор Михайлович? – глухо спросил Андрей.
Ртищев помолчал, перебирая в пальцах лестовку, затем ответил:
– Хочу, чтобы ты ни себя не терзал, ни ее.
Андрей натянул поводья и остановил коляску, повернулся к Федору Михайловичу:
– Чем же это я ее терзаю?
– Тем же, чем и самого себя. Ведь люба тебе девка, разве я ошибаюсь?
– Она как сестра мне… – хрипло ответил Андрей.
– Я хотя и не поп, но негоже тебе врать мне, – покачал головой Ртищев. – Я не первый день на свете живу. Никогда она тебе сестрою не была. Даже когда ты ее полубесчувственную и насмерть перепуганную привез из Вологды. Видел я, как ты смотрел на нее.
– Пусть так. Что же мне, единственное око вырвать, чтобы оно не соблазняло меня?!
– А, может быть, лучше не око рвать, а сердце открыть – ей?
– Оставь это, Федор Михайлович! – воскликнул Андрей. – Не терзай мне душу! Не искушай!
– Прости, но буду терзать. Почему ты не хочешь поговорить с нею? Вы оба сироты, неволить вас некому. Оба вы в моем доме привечены, и оба получили бы от меня…
– Довольно! – прервал Андрей, забыв от волнения, как следует слуге говорить с господином. – Посмотри на меня, Федор Михайлович! Да меня дети, что черта, пугаются, встретив! Я же урод! Калека!
– Варвара не дитя, – спокойно отозвался Ртищев. – И не воск. Неужели ты не понимаешь, почему так дичится она всех возможных женихов?
Андрей не ответил. Некоторое время молчал и Федор Михайлович. Не дождавшись ответа от слуги, он подвел черту волнительной для последнего беседе:
– Ты единственный человек, которому она верит, к которому привязана. Я хочу, чтобы ты поговорил с нею по душам, не обманывая ни себя, ни ее.
– Да ведь она ангел! Как я посмею говорить с ней в моем безобразии?!
– Позволь ангелу решить вашу судьбу. Она много перенесла и заслужила это.
– Нет, Федор Михайлович, я не смогу говорить с ней…
– В таком случае поговорю я, – решительно сказал Ртищев. – Если я ошибаюсь, и девица вовсе не расположена к замужеству, а в тебе видит лишь брата, быть посему. Ни неволить ее, ни отправлять в монастырь я не стану. Если же я прав, то ты женишься на ней.
– Лучше отошли меня в Крым, пленных вызволять! – вскричал Андрей. – Глядишь, когда меня не будет, она забудет меня, и сыщется для нее достойный жених. Ты прав, Федор Михайлович, она много перенесла и заслужила лучшей доли, нежели калека-муж!
– Трогай, – махнул рукой Ртищев, поморщившись. – Как же тяжело с вами, упрямцами! Хоть кол вам на голове теши, все одно свое твердить будете…
***
Просьбу Андрейки Федор Михайлович исполнил, велев собираться в дальний путь – в Крым, выкупать ясыр. Это было еще одной постоянной заботой Ртищева. Хотя в казну собирался полоняничный налог, шедший на выкуп захваченных турками и татарами русских пленников, но средств этих не хватало. Проклятые басурмане требовали по 250 рублей за людей низшего сословия, а за знатных – по тысяче. Ртищев взялся за выкупное дело на паях с греческим купцом, также озабоченным спасением своих полоненных сородичей. Вместе из года в год собирали они значительные средства и вызволяли на свободу христианские души.
Прежде отъезда поднялся Андрейка в горницу Вареньки, дабы проститься с нею. Ныло сердце в предчувствии долгой разлуки. Прав был благодетель милостивый, никогда не смотрел он на красную девицу, спасенную от разбойников, как на сестру или дочь. Хотел бы да не мог смотреть! Не сестра она была, а греза неисполнимая. Ангел, икона… Что-то, чего нельзя даже в мыслях осквернить низкими помыслами.
– Уезжаю я, милая Варенька…
Так и всколыхнулась краса ненаглядная, даже рукоделие, коим занята была, из рук выронила, подалась навстречу:
– Надолго ли?..
– Надолго. В Крым едем, пленников наших из неволи выкупать.
Варенька прижала к груди белые руки, глаза ее испуганно округлились:
– В Крым? Да ведь это опасно!
Андрейка чуть улыбнулся:
– Нисколько, милая. Я ведь все что посол. А послов не трогают. А уж паче таких, что привозят большой выкуп.
– Кто знает, что можно ждать от басурман… – покачала головой Варенька, и лицо ее сделалось еще печальнее. – Разве же некого было послать, кроме тебя? Ведь ты правая рука Федора Михайловича!
– Поэтому он меня и посылает. Он доверяет мне.
– Я не хочу, чтобы ты уезжал, – прошептала девица, и на длинных ресницах ее блеснули слезы.
У Андрейки ком подкатил к горлу, занялось пламенем прерывисто бьющееся сердце. Вишь как горюет касаточка о нем! А что если прав милостивец Федор Михайлович?..
– Ты все, что есть у меня! Что станет со мной, если с тобой что-то случится?
– Со мной ничего не случится, Варенька. Я вернусь цел и невредим, обещаю тебе!
Прямо смотрели на Андрейку огромные серые глаза, подернутые поволокой слез, и столько было в этих глазах страха за него, столько преданности ему, что он не выдержал и, рухнув на колени, воскликнул:
– Варенька, касаточка моя ненаглядная, одно скажи: когда вернусь, пойдешь ли за меня?! Не погнушаешься ли мной таким?!
Девица вздрогнула и посмотрела на Андрейку в изумлении. От ее молчания оборвалось сердце. Вот же, дурень! Кой черт за язык дернул… Ну, какой из него жених для такой крали? Таких женихов на огороде выставлять ворон пугать, а он туда же! Теперь и на глаза ей показаться невозможно станет, лучше бы и не возвращаться из Крыма…
Но Варенька вдруг подалась вперед и сама опустилась на колени. По бледному лицу ее струились слезы.
– Милый мой, свет мой, да неужто дождалась я счастья своего… – с этими словами она прильнула щекой к изуродованной щеке Андрейки, и он, почувствовав теплую влагу ее слез, с трепетом обнял свою казавшуюся недосягаемой грезу.
– Радость моя, может ли быть, чтобы это взаправду… Может ли быть, что пойдешь за меня?
– Да ведь я за тобой хоть на север далекий, хоть в пустыню, хоть куда пойду! Босая да раздетая пойду, лишь бы только ты был рядом.
Еще крепче обнял Андрейка Вареньку, касаясь губами пшеничных волос:
– Ну, теперь-то уж точно ничего не страшно мне, теперь-то уж точно вернусь я, и уж впредь ничто не разлучит нас!
Москву Андрейка покидал обрученным женихом, и от того впервые исполнено счастья было его настрадавшееся сердце. Дорога до Крыма, хотя далека и нелегка была, но обошлась безо всякого обстояния. Цел и невредим добрался «приказчик милосердных дел» со своими людьми и сундуком серебра до обломка некогда могущественной Орды. Край этот навевал на Андрейку тоску. Глядя на многочисленные суда, вздымавшие стройные мачты у берегов Черного моря, он думал о том, что на каждом из них томятся в цепях его единоверцы, и каждый день кто-то из них умирает «на веслах» от непосильной нагрузки, под ударами кнута… А привезенного серебра достанет на выкуп лишь немногих.
Тучный татарский бей жадно пересчитал жирными пальцами вожделенные монеты. Крохотные щелки его глаз блестели от алчного удовольствия. И то сказать, целое состояние получала басурманская рожа за вереницу полутеней, что были выстроены в цепях у берега.
– Можешь забирать их! – махнул унизанной драгоценными перстнями рукой татарин.
– Вели сперва снять с них цепи.
Бей сделал знак своему подручному, и тот, лязгнув ключами, стал неторопливо расковывать пленных. Среди них были глубокие старики, и Андрейка подивился, сколь же крепка была их порода, что вынесли они такие муки и лишения, а, главное, самую безнадежность своего положения. Столько лет в иноплеменном рабстве! И выжить, и не лишиться рассудка… Чем только держались эти старцы? Какая вера давала им силы? Во что? Неужто в то, что однажды и их выкупят из неволи, и они снова смогут обнять своих родных? А что-то сталось с родными в эти годы? Ждет ли еще кто-нибудь их в родных краях?
Освобожденные пленники один за другим проходили мимо Андрейки, кланяясь и благословляя его. Многие плакали. Поодаль ожидали их приехавшие с Андрейкой ртищевские люди, коим было наказано всех вырученных пленников накормить, выдать им одежду и немного денег на первое время по возвращении.
Измученные люди, усевшись в тени, жадно ели, укрепляя изможденные силы, прежде чем отправиться в долгожданный путь на Родину. Один из стариков, седой, как лунь, с прозрачными, но еще живыми и неожиданно бодрыми глазами, время от времени отвлекался от еды и пристально всматривался в Андрейку. Тот, занятый подготовкой к отправке в обратный путь, не сразу заметил этот взгляд. Скорее он даже не заметил его, а почувствовал.
– Чего ты все смотришь на меня, отец? – окликнул Андрейка старика.
– Сам не знаю, милостивец мой, – отозвался тот. – Почему-то почудилось мне, будто встречал тебя прежде. Хотя того не может быть, я уж четверть века как в плену. А ты в плену не бывал ли?
– Бог миловал. Как звать тебя, старче?
– Елисеем кличут. Служил я в давние поры в стрелецком войске. Бились мы с басурманами во славу Царя-батюшки. Но не свезло мне. Взяли меня в бою раненым, а дальше что рассказывать… Сам видишь.
Когда старик назвал свое имя Андрейка почувствовал смутное волнение.
– Елисеем, значит… А по батюшке?
– Андреевы мы.
Совсем замутилось на душе у Андрейки. Опустившись перед стариком на корточки и теперь уже сам всматриваясь в его прозрачное от худобы лицо, он спросил:
– А что, Елисей Андреевич, родня-то есть у тебя?
– Кто ж его знает, милостивец, кто у меня теперь есть. Четверть века прошло! Поди и вспоминать некому…
– Но ведь был же кто-то? Кто-то же ждал тебя? – допытывался Андрейка.
– Ждали, как же… Жена, Василиса Власьевна, да сынок, Андрейка…
У Андрейки защипало в глазу, губы его задрожали.
– Померла, Василиса Власьевна, – тихо прошептал он. – Еще прежде, как недобрая весть пришла, что ты в дальнем походе сгинул…
Старик вздрогнул, глаза его расширились.
– А… Андрейка? – вырвалось хриплым выдохом.
– Я – Андрейка… – отозвался «приказчик милосердных дел». – Андрей Елисеев…
Мелко задрожали плечи освобожденного пленника, потекли обильно слезы по впалым щекам, и в следующий миг сомкнулись худые руки на шее Андрейки:
– Стало быть, и впрямь встречал я тебя, сынок… Ну, здравствуй же! Вижу, и тебя судьба испетняла…
– Это ничего, тятя, – отвечал Андрейка, обнимая чудесно обретенного родителя. – Это все ничего… Теперь все хорошо будет. Теперь мы в Москву поедем, к моему господину, Федору Михайловичу Ртищеву. Там ждет меня моя невеста, Варенька… Господи, мог ли я ждать большего подарка к нашей свадьбе? Будешь ты скоро, тятя, на нашей свадьбе пировать, а потом внукам радоваться! А уж мы тебя холить станем за все годы потерянные, за все муки твои!..
***
Тускло мерцали лампады у древних икон, оплывали печально свечи. Иные из икон этих Никон, пожалуй, распорядился бы выбросить вон да и сжечь, ибо неправильного они, фряжского письма. Это письмо и не любо Федору Михайловичу было, и верно, что неправильно оно, от традиции православной отлично, но принадлежали те образа еще отцу, а прежде деду, поколениями ртищевского рода намолены были. Так что ж теперь, попирать их?..
Перекрестился Ртищев немеющей рукой, закашлялся от душного ладанного духа. Ему не было и пятидесяти, но силы стремительно оставляли его. Федор Михайлович умирал и ясно ощущал холод приближающейся смерти. Он не боялся ее. Другая смерть уже сломила его, опустошила.
Три года назад внезапно скончался шестнадцати лет Царевич Алексей Алексеевич, надежа Земли Русской, отрок смиренномудрый и добродетельный, упование всех скорбящих. Тяжелее отца и матери принял потерю возлюбленного питомца Ртищев. В нем последние шесть лет видел он главный смысл своей жизни, взращивая его для подвига царского, надеялся со временем выправить то многое зло, что явилось теперь в Русской земле.
И вот разрушилось все. Перестало биться ангельское сердце будущего Государя. Теперь брат его, Федор, наследует ему. Он также светел разумом и чист душой, да только скорбен телом, часто и долго хворает, и не дают лекари долгих лет несчастному отроку… Что ж, неужто пресечься роду Романовых? Словно возгневался Господь на Царя Алексея, поразив его в мужском его потомстве. Девицы рождались крепкими и полными сил, а мальчики один другого слабее… В родах изнемогла и милосердная Царица Марфа.
Уж не за распрю ли церковную, не за пагубу ли душам невинным взыскивал Господь? Ох и тяжела рука Божия… И как прощение вымолить? Молил уже из последних сил Ртищев Государя преклонить гнев свой на расколоучителей и последователей их на милосердие, попытаться залечить любовью и прощением страшные раны, укротить страсти и замирить враждующих. Но не тих теперь стал прозванный Тишайшим. И с самим Никоном успел рассориться он, и гневом пылали они друг на друга. Разломы, разломы покрывали Русь, и некому было латать разодранные ризы. Только пуще и пуще разрывали их жестоковыйные, в клочья…







