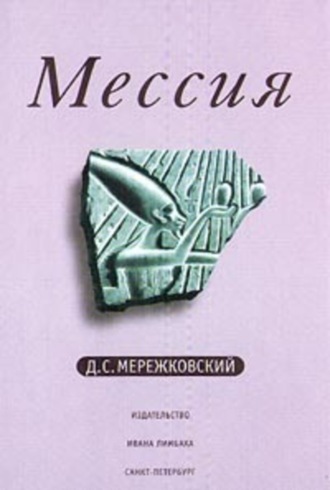
Дмитрий Мережковский
Мессия
Ек-ек-ек!
Нынче свеженький денек.
Молотите, бычки.
Вы – лихие батрачки,
Потопчите гумно!
Будет каждому паек:
Вам солома, нам зерно!
Царь, неуклюже расставив руки, ловил пустой воздух или обнимал столпы. Наконец, поймал Анки, двенадцатилетнюю Тутину супругу.
– Сдвинул, сдвинул повязку! – закричала она. – Вон левый глаз смотрит! Так нельзя мошенничать, авинька!
«Авинька» было уменьшительное от ханаанского слова «авва» – «отец».
– Нет, не сдвигал, сама сползла, – оправдывался царь.
– Сдвинул, сдвинул! – продолжала кричать Анки. – Я тебя знаю, авинька, ты ужасный плутишка! Что ж это за игра? Лови опять!
Завязала ему глаза покрепче, и он пошел снова ловить.
Пудель Данг, как бы тоже играя, ходил на задних лапах, держа в передних звенящий систр. Царь, думая по звуку, что это маленькая Зета – Зетепенра, быстро нагнулся и обнял Данга. Тот залаял и лизнул его языком в лицо. Царь испугался, закричал, присел на пол и оттолкнул его. Но тот опять подскочил, положил ему передние лапы на плечи и начал лизать, визжа от восторга.
Все захохотали, закричали:
– Поцеловался, авинька, с Дангом, побратался царь с песиком!
Царица тоже смеялась.
– Будет тебе махать, садись, отдохни, – сказала она, обернувшись к Дио, и та присела на подножку кресел.
– «Царство – детям», – вдруг вспомнила вслух слово царя, слышанное от маленькой Анки.
– «Царство – детям», – повторила царица. – А дальше знаешь как?
– Как?
– «Что самое божественное в людях? Слезы мудрых? Нет, смех детей».
– Так вот отчего детские ручки-лучики у бога Атона? – спросила Дио.
– Да, вся мудрость в этом: детское – Божье, – ответила царица, тихонько положила руку на голову ее и посмотрела ей прямо в глаза.
– Что ты сегодня какая хорошенькая? Уж не влюбилась ли? – сказала, улыбаясь.
«Совсем как он», – подумала Дио.
– Почему влюбилась? – спросила, тоже улыбаясь.
– Потому что девушки, когда влюблены, хорошеют особенно.
Дио покачала головой, покраснела, быстро нагнулась, схватила руку ее и начала целовать долго, жадно, как будто целовала его сквозь нее.
Вдруг почувствовала, что рука царицы вздрогнула. Подняла глаза и, увидев, что она смотрит на дверь, тоже взглянула туда. Там стоял великий жрец бога Атона, Мерира, сын Нехтанеба.
Дио поразило лицо его еще на празднике Солнца, и часто потом, вглядываясь в него, не могла она понять, привлекает ли ее или отталкивает это лицо.
Он был немного похож на Таммузадада: та же каменная тяжесть в обоих лицах; но в том – что-то жалкое, детское, а в этом – безнадежно-взрослое. Каменная тяжесть – в низко нависших бровях, в неподвижно-пристальных, но как будто слепых, глазах, в широких скулах, в крепко стиснутых челюстях и в крепко сжатых, как будто в вечной горечи запекшихся, губах, с постоянной готовностью к усмешке и невозможностью улыбки.
«Кто умножает познание, умножает скорбь», – вспоминала Дио слова Таммузадада, глядя на это лицо. «Все познать – все презреть; не проклясть, а только молча презреть – изблевать из уст», – как будто говорило оно. Если бы очень мужественный и твердо решившийся на самоубийство человек, выпив яду, спокойно ждал смерти, у него было бы такое лицо.
Из древнего рода Гелиопольских жрецов Солнца, когда-то пламенный ревнитель Амона, любимый ученик Птамоза, Мерира изменил ему и перешел в веру Атона. Царь очень любил его. «Ты один был послушен ученью моему, и никто, кроме тебя», – сказал ему при посвяшеньи в сан великого жреца.
Мерира вошел в палату, когда царь сидел на полу, и пудель Данг, положив ему лапы на плечи, лизал его языком в лицо, а царевны хохотали, кричали:
– Поцеловался авинька с Дангом, побратался царь с песиком!
Должно быть, не заметив царицы, Мерира остановился в дверях и смотрел на царя пристально. Царица, чуть-чуть наклонившись и вытянув шею, смотрела на Мериру также пристально, как тот – на царя.
– Мерира, Мерира! – вдруг вскрикнула она, и страх блеснул в ее глазах. – Что ты так смотришь, сглазить хочешь царя, что ли? – засмеялась, но и в смехе был страх.
Он медленно обернулся к ней и поклонился низким, поясным, по чину, поклоном, выставив вперед руки с поднятыми ладонями.
– Радуйся, царица Нефертити, Прелесть-прелестей-солнечных! Я пришел звать государя в Совет, но, кажется, не вовремя…
– Почему не вовремя? Ступай, доложи.
Мерира подошел к играющим. Смех умолк. Царь вскочил и взглянул на него с виноватой улыбкой:
– Что ты, Мерира?
– Ничего, государь. Ты сегодня изволил назначить Совет.
– Ах, да, Совет, я и забыл… Ну, пойдем же, пойдем, – заторопился он.
Все еще на шее у него болталась повязка от жмурок; он хотел ее сдернуть, но не мог: завязалась узлом. Анки подошла к нему, распутала узел, сняла повязку, а Рита – Меритатона надела ему на голову снятый для игры царский шлем-тиару.
Лица у девочек вытянулись. Пудель тихонько ворчал на Мериру, а карлик строил ему из-за спины царя смешные и страшные рожи. Точно вдруг тень набежала на все, и солнце померкло, сделалось как «рыбий глаз».
Проходя мимо царицы и Дио, царь посмотрел на них покорно, уныло, как школьник, идущий на скучный урок.
Дио взглянула на царицу.
– Да, ступай за ним, – сказала она, и Дио пошла за царем.
Он оглянулся на нее с благодарной улыбкой, а Мерира – на них обоих с давешней тихой усмешкой.
VII
Все трое вошли в палату Совета. Здесь давно уже собрались и ожидали царя сановники. Когда он проходил мимо них, падали ниц, нюхали землю у ног его, приподымали бритые головы с черепами яйцевидно-удлиненными – «царские тыковки», протягивали руки, выставив ладони вперед, и восклицали:
– Радуйся, Радость-Солнца, Ахенатон!
Тута, по обыкновению, превзошел всех.
– Царь мой, бог мой, сотворивший меня, даруй мне насыщаться лицезреньем твоим вечно! – воскликнул он, закатывая глаза с таким умиленьем, что все ему позавидовали.
Царь сел на престольное кресло на низком алебастровом помосте между четырьмя столбиками. Дио стала за ним с опахалом.
Все смотрели на нее с любопытством. Она понимала, что ее уже считают царской возлюбленной; покраснела, потупилась.
В глубине многостолпной палаты выстроилась стража хеттейских амазонок-телохранительниц. Сановники уселись полукругом на полу, на циновках, поджав под себя ноги. Только трое сидели на складных стульях: Тута, Мерира и верховный советник царя, главный военачальник Рамоз, семидесятилетний старик, тучный, грузный, с пухлым, красным лицом, напоминавшим старую женщину, с вельможно-любезной улыбкой на пухлых губах, с маленькими, заплывшими глазками, очень умными и добрыми.
Внук полководца Аменемхэба, сподвижника великого Тутмоза Третьего, Завоевателя, сам доблестный вождь, стяжавший славу в трудных походах на дикие племена Куша и Синайских кочевников, возведенный при царе Аменхотепе Третьем, отце Ахенатона, в сан верховного советника, сохранил его Рамоз и при сыне. Народ любил его, называл «человеком справедливым». Душу свою положил бы он за царя, но бедой и безумьем считал новую веру в Атона, измену старым богам. «Лучший из царей и несчастнейший: губит себя и царство свое ни за что!» – говорил о царе.
Начался Совет. Царь слушал доклады сановников о неурожае, голоде, бунтах, разбоях, грабежах, лихоимствах, отпаденьях и междоусобиях областных начальников.
Стоя чуть-чуть сбоку, Дио могла видеть лицо его. Он слушал, опустив голову, и лицо его казалось бесчувственным.
Страженачальник Маху сделал доклад о последнем бунте в Фивах.
– Может быть, ничего бы и не было, если б не пристали ливийские наемники, – заключил он доклад.
– Почему же пристали? – спросил царь.
– Потому что им не заплатили жалованья вовремя.
– А не заплатили почему?
– Государь наместник не велел.
Царь перевел глаза на Туту:
– Зачем ты это сделал?
– Иго царя возложил я на шею мою и вот, несу его, – начал тот издалека, соображая, как лучше ответить: понял, что на него сделан донос. – Взойду ли на небо, сойду ли на землю, везде голова моя в деснице твоей, государь! Туда и сюда смотрю и света не вижу; смотрю на царя, солнце мое, и вот, свет! И кирпич из-под кирпича сдвинется в стене, – я же не сдвинусь из-под ног царя, бога моего…
– Говори, говори скорее, зачем ты это сделал? – прервал его царь с нетерпеньем.
– Хлеба не на что было купить голодным, вот я и занял из жалованья ливийцам.
Царь ничего не сказал, но посмотрел на него так, что он невольно опустил глаза.
– Сколько убитых? – спросил царь, опять обернувшись к Маху.
– Ста человек не будет, – ответил тот.
Знал, что убитых больше пятисот, но, переглянувшись с Рамозом, понял: правды говорить не надо; царь будет мучаться, может быть, заболеет, а пользы никакой не будет: все останется как было.
– Сто человек! – прошептал царь, еще ниже опуская голову. – Ну, да теперь уж недолго…
– Что, государь, недолго? – спросил Рамоз.
– Именем моим вам людей убивать! – ответил царь и, помолчав, спросил:
– Есть письмо от Рибадди?
– Есть.
– Покажи.
– Нельзя, государь, письмо непристойное.
– Все равно покажи.
Рамоз подал письмо. Царь прочел его сначала про себя, а потом вслух, так спокойно, как будто речь шла не о нем:
– «Муж Гублийский, Рибадди, наместник царя Египетского в Ханаане, так говорит царю: десять лет посылал я к тебе за помощью, но ты не помог. Ныне муж Аморрейский, Азиру, изменник, восстал на тебя и предался царю Хеттейскому, и собрали они колесницы и мужей своих, дабы покорить Ханаан. Враг стоит у ворот моих, завтра войдет и убьет меня, и тело мое отдаст на съедение псам. Хорошо награждает верных слуг своих царь Египта! Да поступят же с тобою боги так, как ты со мною поступил. Кровь моя на голову твою, предатель!»
– Как смеет этот мертвый пес ругаться над богом-царем! – возмутился Тута.
Царь опять посмотрел на него, и он замолчал, съежился.
– Погиб Рибадди? – спросил царь.
– Погиб, – ответил Рамоз. – Бросился на меч, чтоб не отдаться живым в руки врага.
– Что же теперь будет, Рамоз?
– Будет, государь, вот что: царь Хеттейский возьмет Ханаан: подкопают воры стену и войдут в дом. Были мы четыреста лет под игом кочевников и, может быть, другие четыреста будем под игом Хеттеян. Прадед твой, Тутмоз Великий, вознес Египет во главу народов, и были мы свет миру, а ныне этот свет потух…
– Что же делать, Рамоз?
– Сам знаешь что, государь.
– Начать войну? – спросил царь.
Рамоз ничего не ответил: знал, что царь погубит себя, погубит царство свое, а войны не начнет.
Царь тоже молчал, как будто глубоко задумался. Вдруг поднял голову, сказал:
– Не могу!
Еще помолчал, подумал и повторил:
– Не могу, нет, не могу! «Мир, мир дальним и ближним», – говорит отец мой небесный, Атон. «Мир лучше войны; да не будет войны, да будет мир!» Вот все, что я знаю, все, что имею, Рамоз. Это у меня отнимешь, – ничего не останется: нищ, гол, мертв. Лучше сразу убей!
Говорил тихо, просто; но сердце Дио дрогнуло вновь, так же как намедни в радости райского сна. Вдруг почему-то вспомнилась ей над желтой равниной песков в солнечно-розовой мгле млеющая бледность исполинского призрака – пирамиды Хеопса: совершенные треугольники: «Я начал быть, как Бог единый, но три Бога были во Мне», по слову древней мудрости, – божественные треугольники, возносящиеся к небу все уже, уже, острей, острей и, наконец, в последнем острие – восторг исступляющий, тот же, как в этом тихом слове Ахенатона: «Мир»!
– О, сколь сладостно ученье твое, Уаэнра! – опять выскочил Тута – пудель Данг лизнул царя языком в лицо. – Ты – второй Озирис, не мечом, а миром мир побеждающий. Скажешь воде «взойди на гору» – взойдет; скажешь горе «пади на воду» – падет; скажешь войне «да будет мир» – и будет мир.
– Слушай, Рамоз, – начал царь, – я не так подл, как думал Рибадди, и не так глуп, как думает Тута…
Пудель Данг получил по носу: испугался, огорчился. Но сидевший рядом с Тутой вельможа Айя, старик с умными, холодными и бесстыдными глазами, утешил его.
– Э, полно, брось, не стоит, – шепнул ему на ухо. – Видишь, дурака валяет, юродствует!
– Я не так глуп, как думает Тута, – продолжал царь. – Я знаю: долго еще на земле мира не будет, будет война бесконечная, и чем дольше, тем злее: «все будут убивать друг друга», по древнему пророчеству. Был потоп водный – будет кровавый. Но пусть же, пусть и тогда знают люди, что был человек на земле, сказавший: «Мир!»
Вдруг обернулся к Мерире:
– А ты, Мерира, что думаешь, чему усмехаешься?
– Думаю, государь, что ты хорошо говоришь, но не все. Бог не только мир.
Он говорил медленно, с усильем, как будто думал о чем-то другом.
– А что же еще? – помог ему царь.
– Еще война.
– Что ты говоришь, мой друг? Война – не Бог, а дьявол.
– Нет, и Бог. Две стороны треугольника сходятся в одном острие: день и ночь, милость и гнев, мир и война, Сын и Отец – все противоборства в Боге…
– Сын против Отца? – спросил царь, и рука его, сжимавшая ручку кресла, чуть-чуть дрогнула.
Мерира поднял на него глаза и усмехнулся так, что Дио подумала: «Сумасшедший!» Но он тотчас опустил их снова, и лицо его окаменело, отяжелело каменной тяжестью.
– Что ты меня спрашиваешь? – ответил он спокойно. – Ты лучше моего знаешь все, Уаэнра: сыну ли не знать Отца? Бог – мера всего. Не тебе говорю, а людям: меры ищите во всем – меры мира и меры меча.
– Истинно так! Истинно так! – воскликнул Рамоз. – Я тебя, Мерира, не люблю, а за это слово в ножки поклонился бы: мера мира и мера меча, – лучше не скажешь.
– Что же тебе в этом понравилось так? – удивился царь, взглянув на Рамоза. – Он говорит очень страшное…
– Да, страшное, да нужное, – ответил Рамоз. – Анкэммаат, В-правде-живущий, правду ты хочешь вознести до неба и расширить по земле; но слабы люди, глупы и злы. Будь же милостив к ним, государь, не требуй от них слишком многого. Лесенку подставь – взлезут, а скажешь: летите – полетят в яму. Милостью одной не проживешь: милость-то наша всем злодеям углаживает путь. Много говорим, мало делаем, а верь старику: нет ничего на свете злее добрых слов пустых, нет ничего подлее благородных слов пустых…
– Это ты обо мне, Рамоз? – спросил царь с доброй улыбкой.
– Нет, Уаэнра, не о тебе, а о тех, кто чуда от тебя требует, а сам для чуда и пальцем не двинет. Двадцать лет правдой служил я царю, отцу твоему, и тебе; никогда не лгал и теперь не солгу. Худо, очень худо делается по всей земле твоей, государь! «Мир», говорим, а вот, меч; говорим «любовь», и вот, ненависть; говорим «свет», и вот, тьма…
Грузно встал, повалился в ноги царю и заплакал:
– Сжалься, государь, помилуй! Спаси себя, спаси Египет, подыми за правду меч! А если не хочешь, так и я не хочу видеть, как губишь себя и царство свое. Отпусти меня, старика, на покой!
Царь наклонился к нему, поднял его, обнял и поцеловал в уста.
– Нет, мой друг, не отпущу, да ты и сам не уйдешь – любишь меня… Потерпи немного, теперь уж недолго, я скоро сам уйду, – шепнул ему на ухо.
– Куда уйдешь? Куда уйдешь? – спросил Рамоз с вещим ужасом.
– Молчи, не спрашивай, скоро все узнаешь! – ответил царь и встал, давая знать, что Совет кончен.
VIII
Выйдя из палаты Совета, пошли на Двор Нищих. Царь велел сановникам идти вперед, а сам замедлил шаг, чтобы остаться наедине с Дио. Минуя ряд покоев, вошли в маленький тепличный садик, где фимиамные деревья в глиняных кадках, привезенные из несказанно далекого Пунта, Страны богов, подобные огромным, паутинно-тонким верескам, точили в солнечном угреве янтарные слезы смолы.
Царь сел на скамью и долго сидел молча, не двигаясь, как будто забыв о присутствии Дио. Вдруг взглянул на нее и сказал:
– Стыд! Стыд! Стыд! Полно тебе смотреть на мой стыд, уходи!
Дио стала перед ним на колени.
– Нет, государь, я от тебя не уйду. Жив Господь, жива душа моя, куда бы ни пошел царь мой, на стыд или честь, там будет и раба его!
– Стыд мой один ты уже видела, увидишь сейчас и другой. Пойдем, – сказал царь, вставая.
Вошли во Двор Нищих.
Трижды в году – в половодье, сев и жатву – ворота дворца открывались для всех: всякий бедняк мог входить свободно, сказав имя свое страженачальнику Маху. На дворе расставлены были поставцы с хлебом, с мясом, пивом: всякий мог есть и пить вволю. Тут же принимались царем прошения и жалобы.
В первые годы царствования праздники эти бывали чаще. «Каждый девятый день месяца будет днем нищих, – сказано было в царском указе. – Областеначальники должны раздавать в этот день хлеб голодным из царских житниц, ибо вопль несчастных до неба дошел, и сердце наше терзается».
«Бог богатых – Амон, бог бедных – Атон, – проповедовал царь. – Горе вам, сытые, горе, богатые, приобретающие дом к дому и поле к полю, так что другим не остается места на земле! Руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Будьте хлебом голодных, водою жаждущих, ризой нагих, кровлей бездомных, улыбкой плачущих. Узы ярма развяжите и отпустите рабов на свободу: тогда свет ваш взойдет во тьме и мрак ваш будет как полдень!
– Анкэммаат, В-правде-живущий, – говорили царю ученики его, – ты уравняешь бедных с богатыми, сотрешь межи полей, как стирает их половодье реки. Ты – множество Нилов, затопляющих землю водами любви неисчерпаемой!
Царь изобрел опасную игру – кидать золото нищим – огонь в солому. Долго спасал от беды страженачальник Маху: набирал надежных людей из дворцовой челяди, наряжал их нищими, обещал смирным дележ поровну, а буйным – плеть, и все обходилось благополучно. Царь был близорук, с высоты Горнего места, откуда кидал он в толпу золотые колечки-денежки, не узнавал лиц внизу.
Но кто-то донес на Маху. Царь сильно разгневался, едва не прогнал его со службы, и пришлось-таки в следующий раз пустить уже не ряженых нищих. Тогда случилась беда: только что посыпался золотой дождь, как люди озверели, сделалась свалка, и целый отряд воинов, с оружьем в руках, едва усмирил толпу. Трое убитых и много раненых осталось на месте. Царь заболел от горя. Золотой дождь прекратился, только раздача хлеба и прием жалоб остались.
Двор Нищих был обширный четырехугольник, мощенный алебастровыми плитами, окруженный столпными ходами в два яруса. На одном конце его было Горнее место – царская скиния. К ней вела широкая, отлогая, тоже алебастровая, лестница. На челе скинии парила белоголовая, с красно-чешуйчатым телом, с золотым кольцом, царской державой, в когтях, богиня Ястребиха, Нехтэб, Солнце-Мать. «Как утешает кого-либо мать, так утешу я вас», – говорил царь, сын Солнца, скорбным детям земли.
– Ниц! Ниц! Ниц! Царь идет! Бог идет! – возгласили скороходы-вестники, и вся толпа на дворе пала ниц, восклицая:
– Радуйся, Радость-Солнца, Ахенатон!
Кроме нищих и просителей были тут больные, слепые, хромые, увечные, потому что люди верили, что всякий, кто прикасался к одежде царя или на кого падала только тень от него, получал исцеленье.
– Заступи, спаси, помилуй, господи! – вопили к нему люди, как узники ада – к богу, нисшедшему в ад.
Царь, взойдя по лестнице в скинию, сел на престол. Дио стала за ним с опахалом.
Стража впускала просителей в узкий проход между двумя каменными стенками у подножья лестницы. Два нубийских воина с мечами наголо охраняли дверцу посередине стенки, ближайшей к лестнице. Каждый проситель, подойдя к дверце, падал ниц, нюхал землю, клал деревянную или глиняную дощечку с прошеньем на нижнюю ступень лестницы, где нагромоздилась их уже целая куча, и проходил дальше.
Во двор пускали всех, а в этот ход к подножью царской скинии – только по особым пропускам. Страженачальник Маху наблюдал за всем.
Вдруг произошло смятенье. Кто-то, подойдя к дверце, хотел в нее войти. Воины скрестили пред ним мечи, но тот лез прямо на них и, протягивая руки к царю, вопил так, как будто его уже резали:
– Заступи, спаси, помилуй, Радость-Солнца!
Не смея заколоть человека на глазах у царя, воины подняли мечи, и, весь распластавшись, извиваясь ужом, тот прополз под ними и начал ползти вверх по лестнице.
Маху кинулся к нему и схватил его за шиворот. Но он вывернулся, выскользнул из рук его и продолжал ползти и вопить к царю.
Маху подал знак телохранителям-копейщикам, стоявшим в два ряда по ступеням лестницы. Те сомкнули ряды и опустили копья. Но ползший полз и на них.
В то же мгновенье раздался неистовый крик:
– Пусти! Пусти! Пусти!
Так странен был этот крик, визжащий, захлебывающийся, как у маленьких детей в родимчике или у женщин-кликуш, что Дио не сразу поняла, что это кричит царь. Вскочив с искривленным лицом, быстро топал он ногами, как давеча девочки, игравшие в жмурки под молотильную песенку. И все звенел, звенел неистовый крик:
– Пусти! Пусти! Пусти!
Маху снова подал знак телохранителям, и те расступились, подняли копья. Ползший прополз между ними почти до верхней площадки лестницы, где стояла царская скиния. Поднял голову, и Дио узнала рыжие длинные кудри, рыжую козлиную бороду, оттопыренные уши, крючковатый нос, толстые губы и горячий блеск глаз Иссахара, сына Хамуилова.
Царь затих и, наклонившись, смотрел ему прямо в глаза пристальным, как будто жадным, взором, а тот в глаза царю – таким же взором.
– Тайное слово есть у раба твоего до тебя, государь! – прошептал Иссахар.
– Говори, я слушаю.
– Нет, до тебя, до тебя одного!
– Отойдите, – сказал царь стоявшим на площадке сановникам.
Все отошли, кроме Дио, спрятавшейся за угол скинии. Три-четыре ступени отделяли Иссахара от царя.
– Знаю, кто ты! Знаю, кто ты! – говорил он, подползая к нему и глядя в глаза его все тем же неотступно-жадным взором. – Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный, Ахенатон Уаэнра, Сын Бога живого!
Вдруг вскочил и выхватил нож из-за пояса. Но, прежде чем успел поднять его, Дио кинулась к нему и схватила его за руку. Он оттолкнул ее так, что она упала на колени, но, не выпуская руки его, опять вскочила и телом своим заслонила царя. Невыносимо жгущий холод пронзил ей плечо. Услышала крики, увидела бегущих людей и упала с последнею мыслью: «Убьет!».







