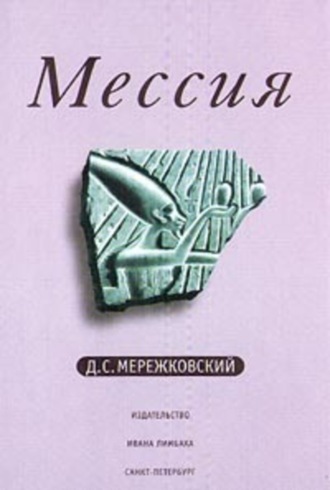
Дмитрий Мережковский
Мессия
III
– Не суди меня, Боже, за грехи мои многие, я человек, самого себя не разумеющий! – шептал Мерира.
– Что ты шепчешь? – спросила Дио.
– Ничего.
Он стоял на носу лодки, держа в руках двуострый гарпун, а она, сидя на корме, гребла коротким веслом или отталкивалась, на мелких местах, длинным шестом. Плоскодонная лодка-душегубка только для двух пловцов, такая шаткая, что нельзя было пошевелиться в ней, чтобы не накренилась, связана была из длинных папирусных стеблей, залитых горной смолой.
На Мерире был древний охотничий убор; двулопастый передник, шенти, из белого льна, широко-лучистое, из бирюзовых и корналиновых бус, ожерелье, приставная бородка из черного конского волоса и парик мелко-кудрявый, черепитчатый; все остальное тело – голое; в таком уборе воскресшие охотятся в блаженных полях Иалу, в папирусных чащах загробного Нила.
Млечно-белое небо раннего утра чуть-чуть сквозило голубизною невинною, как улыбка ребенка сквозь сон. Тихи были воды Нила, как воды пруда: утреннее веянье – так слабо, что гладь реки еще не рябила; но уже реяли по ней, как птицы, лодки с широко раскинутыми парусами. Медленно плыли плоты сплавляемых с Ливана кедров и сосен. Маленькие, как муравьи, человечки волокли бечевой огромный дощаник с гранитным обелиском и пели унылую песню; тишина от нее казалась еще тише, и гладь реки – еще беспредельнее. Белые домики Города Солнца, рассыпанные, как игральные кости, в узкой зеленой полосе пальмовых рощ, исчезали вдали.
– Что с тобой? – спросила Дио Мериру. – Весел, счастлив? Нет, не то… Никогда я тебя таким не видала!
– Хорошо выспался, – ответил Мерира. – Часов шесть спал без просыпа.
Жадно вздохнул всею грудью. Был уже рад, когда пахло только пометом летучих мышей, а не дохлой крысой и не тухлой рыбой; а сегодня – какая радость! – ничем, только утренней свежестью.
– Да и все хорошо, – заговорил еще радостнее. – Вон какое половодье! Разве не хорошо?
– Хорошо, очень! – согласилась она.
– Шутка сказать, шестнадцать локтей восемь пяденей, этакой воды лет десять не видано! – продолжал Мерира. – Земля спасена, если только бунтовщики на юге не перережут каналов. Вон, смотри, ослик в поле не смеет ступить ногою в канавку, – перешагнул, умница, – а люди глупее ослов!
Помолчал и прибавил:
– Сон мне хороший намедни приснился…
– Какой?
– О тебе. Будто ты маленькая, и я тоже: вместе гуляем в каком-то чудесном саду, лучше Мару-Атону, – настоящий рай, и ты будто мне говоришь что-то хорошее. Проснулся и подумал: как сказала, так и сделаю.
– Что же сказала?
Он покачал головою, молча.
– Опять нельзя сказать?
– Нельзя.
Отвернулся, чтобы не увидела, что слезы блеснули у него на глазах.
– Не суди меня, Боже, за грехи мои многие, я человек, самого себя не разумеющий! – прошептал, как давеча.
Вдруг ударил в воду гарпуном с такою силою, что лодка едва не зачерпнула, и Дио вскрикнула. Когда вынул гарпун из воды, на обоих зубьях его трепетало по рыбе: на одном – ин, с прямоугольным, похожим на крыло, спинным плавником, волшебно отливавшим рубином, сапфиром и золотом, а на другом – ха, с чудовищной головой муравьеда, посвященный богу Сэту. Сбросил обеих рыб к ногам ее, и долго она любовалась, как они бились, умирая.
– Почему ты говоришь, что меня таким не видала? – спросил.
– Не знаю. Ты все смеешься – усмехаешься, а сегодня, кажется, вот-вот улыбнешься. Совсем как…
– Как кто?
Она замолчала, потупилась; хотела сказать: «совсем как Таму», но вдруг сделалось страшно и жалко – жалко и этого, как того.
– Тоже нельзя сказать? – спросил он, улыбаясь.
– Нельзя.
– Вон, вон, смотри! – указал он на что-то валявшееся на песчаной отмели, похожее на черно-зеленое осклизлое бревно.
– Что это?
– Крокодил. На ночь зарылся в песок, а теперь вылез, будет греться на солнце; а в полдень, как подует северный ветер, – разинет на него пасть, чтоб прохладиться. Умная тварь. А от ибисова пера цепенеет, и тогда можно с ним делать все, что угодно.
Говорил нарочно о другом, чтобы скрыть волненье, но продолжал улыбаться, совсем как Таму.
Лодка врезалась в чащу папирусов. Зонтичные верхушки их затрепетали, как живые; зашуршали, зашелестели стебли и, раздвинутые носом лодки, наклонились, как две высоких, зеленых стены. Горьким миндалем и теплой водой пахли желтые цветы амбаки, сладким анисом – розовые лотосы, некхэбы. Непрерывным звоном звенели голубые стрекозы над плавучими листьями. Ихневмон, остромордый зверок с торчащими усиками, полукрыса, полукошка, крался по спутанным стеблям папируса, а птица-матка, порхая над гнездом, отчаянно хлопала крыльями, чтобы отогнать хищника. Вдруг где-то очень далеко раздался как бы трубный звук: то ревел гиппопотам, выбрасывая воду из ноздрей водометом, как кит.
Тучами носились водяные птицы: священные цапли-бэну, с двумя, на голове, откинутыми назад длинными перьями; священные ибисы, лысоголовые, белые, с черным хвостом и черными концами крыльев; дикие утки, гуси, лебеди, журавли, колпики, зуйки, лысухи, удоды, потатухи, пустошки, чемги, нырцы, шилоклювки, пеликаны, бакланы, бекасы, гоголи, чибисы, сорокопуты, рыболовы, дождевестники и множество других. Все это пело, щебетало, чирикало, кричало, крякало, скрипело, свистело, свиристело, кудахтало, курлыкало, вавакало.
– Вепвэт! – позвал Мерира, и огромная, рыжая, с изумрудными глазами, охотничья кошка, спавшая на дне лодки, прыгнула к нему, села рядом с ним, на носу, и навострила уши.
Он бросил изогнутую, плоскую, из носорожьей кости дощечку, оружье незапамятной древности. Она полетела, ударила в цель и, описывая в воздухе дугу, вернулась, упала к ногам его. Кошка прянула в чащу и принесла убитую птицу. Бросил опять – опять принесла, и скоро лодка нагрузилась дичью так, что начала тонуть.
Подплыли к островку, отовсюду окруженному высокими, втрое выше человеческого роста, ярко-зелеными, райски свежими стенами папирусов. Древле мать Изида вскормила младенца Гора в таком папирусном гнезде.
Причалили и вышли на берег. Здесь, протянутые на кольях, сушились рыбачьи сети. Под навесом из сухих пальмовых листьев было камышовое ложе. Дио села на него, и Мерира – у ног ее. Кошка жадно ела рыбу.
– Нюх у нее, пожалуй, не хуже, чем у покойной Руру, – сказал Мерира.
– Как покойной? – удивилась Дио.
– А ты разве не знаешь? Убили намедни бедняжку. Тута плакал о ней, как о родной дочери, заболел от горя.
– Кто же убил?
– Не знаю. Ночью нашли мертвую в саду. Кто-нибудь взлез на дерево и подслушивал в окно, а она учуяла, кинулась на него, и он распорол ей брюхо ножом.
– Да кто ж это был?
– Сыщик, должно быть, страженачальника Маху.
– Не может быть. Маху знает, что Тута верный раб царя. Кому за ним нужно следить?
– Мало ли кому. Все мы при дворе только и делаем, что друг за другом следим.
– И ты за мной?
– И я. Помнишь, ты обо мне говорила с царем, ночью, в пустыне? Я все знаю – знаю, что ты меня предаешь.
Он посмотрел на нее долго, пристально.
– Нет, Мерира, – сказала она тихо, – не я тебя предаю, а ты сам себя. Обманываешь себя: хочешь ненавидеть его и не можешь – любишь…
– Не знаю. Может быть, и люблю. Но ведь и любовь бывает зла – злее, чем ненависть. Сказано: крепка любовь, как смерть; люта ревность, как преисподняя; стрелы ее – стрелы огненные, великие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Ты это знаешь?
– Знаю. Ты и меня любишь так?
– Что тебе до моей любви? Зачем спрашиваешь? Обмануть хочешь?
– Нет. Если б и хотела, не могла бы: мы друг о друге знаем все.
– Все ли? Конца души не найдешь, пройдя весь путь, – так глубока.
– Конец души – любовь: кто любит, знает все… Мучаешься очень?
– А ты меня очень жалеешь? Знак плохой: женщины, кого жалеют, не любят.
Помолчал и потом заговорил, не глядя на нее, изменившимся голосом:
– Я о тебе и другой сон видел, нехороший. Только не знаю, сон ли. Может быть, ты знаешь, что это было, сон или не сон?
Она опустила глаза, чувствуя на себе его взгляд: точно пауки забегали по ее голому телу; стыдно было и страшно, как тогда, во сне.
– Нет, Дио, я тебя не люблю. Чтобы любить женщину, надо ее чуть-чуть презирать. Я мог бы тебя любить, сонную, мертвую, – вот как тогда, во сне. Ты тогда говорила: «Сладко быть слабой, сладко быть только женщиной!» А ведь этого ты наяву не скажешь? Зачем же лжешь? Все-таки – женщина: от одежды моль, а от женщины лукавство женское. Если бы ты сказала тогда «уйди», я ушел бы. И теперь уйду – только скажи…
Она положила ему руки на плечи и сказала тихо, просто:
– Слушай, брат мой, из-за меня уже погибло трое; я не хочу, чтобы и ты погиб…
– Не из-за тебя, не бойся: я и до тебя его ненавидел.
Долго молчала она; наконец, спросила еще тише:
– За что ты его ненавидишь?
– Будто не знаешь? Да ты что, веришь, что царь Ахенатон и есть Тот, Кому должно прийти?
– Нет, я знаю, он только тень Его.
– А ведь сам-то он верит?..
– Нет, и сам не верит. Это твой соблазн, твоя сеть, но он уже разорвал ее…
– Не разорвал, – не разорвет никогда! Я соблазнил его, говоришь? Да разве без него самого я мог бы его соблазнить? Я только сказал, что он думал; тайну его ему же открыл. И разве можно сказать: «Я – Он», и покаяться? Кто кого соблазнил, он – меня или я – его, не знаю. Но все равно, нет на земле соблазна большего, как человеку сказать: «Я – Бог». Да, этот – только тень Того; этот сказал: «Зажгу огонь», а Тот зажжет. Но, может быть, еще успеем потушить…
– Нет, не потушите. Его огонь – любовь: «любви не потушат и великие воды», это ты сам сказал. Нет, Мерира, ты на него не восстанешь!
– Думаешь, боюсь его?
– Не его, а Того, Кто за ним.
– Лжец, убийца, дьявол – вот кто за ним. Если бы Он и сам пришел, я на Него самого восстал бы!
Вдруг зеленые стены раздвинулись, и выплыла царская лодка. Царь стоял на корме с Маху и что-то говорил ему, указывая на островок.
– Смотрит, смотрит на нас, – прошептал Мерира в ужасе. – Спрячемся!
Оба зашли за чащу папирусов. Лодка проехала мимо.
– А ведь, кажется, твоя правда, Дио, я на него никогда не восстану, – молвил Мерира с тихой усмешкой и провел рукой по глазам, как бы просыпаясь от сна. – Может быть, на себя восстану, но не на него…
И, помолчав, спросил:
– Не скажешь ему, о чем мы с тобой говорили?
– Не скажу, – ответила она и, взглянув на него, поняла так ясно, как еще никогда: «Он враг».
IV
Заакера давал пир. Столпная палата дворца, где собрались гости, выходила на открытые сени, а сени – на реку. Пальмовидные столпы с чешуйчатым, по золотому полю, узором из разноцветных стекол искрились в огнях многолампадных свещников – пылающих кустов, точно изваянные из драгоценных камней, а между ними зияли черные провалы в ночь. Там ржавый серп ущербного месяца сеял на зубцы Ливийских гор свой темный свет и тускло-медным столбом отражался в черной зыби реки, так широко разлившейся, что трудно было поверить, что это река, а не море.
Ночь была тихая, но, как часто во время половодья, свежая. Тихое, с севера, веянье веяло так ровно, что огни лампад наклонялись, все в одну сторону.
Синий, с золотыми звездами, сквозил потолок сквозь белые дымы курильниц, как настоящее небо сквозь облака.
Гости сидели полукругом в свободном от столпов четырехугольнике: царь – посредине; справа от него – наследник Заакера с супругой, старшей царевной Меритатоной; потом – Рамоз, Тута, Айя; а слева – царица; рядом с нею было пустое место для Мериры, еще не пришедшего; далее – Маху, Дио и другие. Члены царского дома и старшие сановники сидели в креслах и на складных стульцах, а младшие – на полу, на коврах и циновках.
Внутри полукруга стоял большой, круглый, на одной ножке алебастровый стол; на нем – хлебы в виде пирамид, конусов, шаров и священных животных; блюда с яствами, закрытые свежими листьями от мух, и груды плодов; исполинские, в локоть длиною, гроздья ливийских лоз, редкие плоды шахарабы, пятнистые, как шкура леопарда, и червоно-золотые, яйцевидные, с четырехлепестковой чашечкой плоды персеи, такие душистые, что их нюхали вместо цветов. Вокруг стола возвышались четыре увитых цветами, деревянных, из перекрещенных планочек, поставца с пивами и винами.
Девочки-нубиянки в белых одеждах из прозрачного льна – «тканого воздуха» или совершенно голые, только с узким пояском немного повыше пупа, разносили в чашках яства и питья. Мясо, нарезанное мелкими кусками, ели пальцами, умывая руки в душистой воде после каждого блюда. Пиво и вино сосали через камышовые трубочки.
Непрерывно колыхались опахала из страусовых перьев и мухогонки из шакальих хвостов: если бы остановились, заела бы ночная мошкара.
На голове у каждого гостя была наполненная благовонною мастью чашечка с продетым под нею стеблем лотоса, так что цветок свешивался на лоб. Медленно, от жара огней и теплоты тела таявшая масть стекала на белую ткань одежд, оставляя на ней жирные, желтые полосы; чем больше их было, тем лучше: значит, гость употчеван. Когда же масть истощалась, девочки подавали новую чашечку, предлагая на выбор «царское помазанье», Кэми, или «росу богов», Анти, от которой кожа лица золотится и оно становится подобным утренней звезде.
– Где же Мерира? – спросил царь.
– Обещал быть, да вот что-то не идет. Все ему неможется, бессонница замучила, – ответил Заакера, наследник, молодой человек с прекрасным лицом, грустным и тонким, как лунный серп, бледнеющий в утреннем небе.
– Что же ты его не вылечишь, Пенту? – сказал царь.
– Верное лекарство от бессонницы одно, государь, – ответил Пенту, врач.
– Какое?
– Чистая совесть.
– А у него разве не чистая?
Пенту ничего не ответил, как будто не расслышал, и все замолчали.
– Что ты мало ешь, Тута? – обеспокоился любезный хозяин. – А ведь это твоя любимая антилопа солончаковая. Нехорошо приготовлена?
– Нет, царевич, чудесно. Я много съел.
– Лжет, – ни кусочка, я сам видел! – рассмеялся царь. – Все о бедной Руру тоскует. Кто ж ее убил, так и не нашли?
– Не нашли, – ответил Тута в смущеньи.
– Скоро найдут, я уже на след напал, – сказал Маху и взглянул на Туту пристально.
Тот сидел ни жив ни мертв; взял в рот кусочек мяса и не мог проглотить.
– Что у тебя, опять живот? – спросила его шепотом сидевшая рядом с ним супруга его, царевна Анкзембатона.
– Живот, – ответил он с тем томным видом, с каким всегда говорил о своем здоровьи.
Анки знала, что живот у него болит обыкновенно от страха.
– Чего же ты испугался?
Он молчал.
– Да ну же, ну, говори. Ах, несносный! – прошептала она яростно и ущипнула его сзади так больно, что он едва не вскрикнул.
Айя, видя смущение Туты, хотел ему помочь, но не знал, как это сделать.
Рядом с Айей сидела супруга его, великая царская мама, Тэйя, тезка покойной царицы, старуха непомерно тучная, настоящая жаба, с багрово-сизым, в рыжеволосых бородавках, лицом, в огненно-рыжем парике, Ханаанской новинке, и в рукавичках из золотой кожи, новинке Хеттейской, бессмысленной в жарком Египте; щеголяла ими на всех торжествах. Ее считали полоумной, но она была умна и хитра; злая сплетница, особенно в делах любовных.
Подали ибисовы яйца всмятку. Их вообще не ели, потому что ибис – священная птица бога Тота. Но тут ели все, в угоду царю, чтобы высказать презренье к ложному богу.
Тэйя взяла целых три яйца. В рукавичках было неудобно есть: запачкалась желтком, что, впрочем, было не очень заметно среди желтых полос от благовонной масти.
– Аита! Аита! – вдруг произнесла она громко, в наступившем молчаньи, когда все занялись яйцами, и засмеялась странным для ее толщины, тоненьким смехом: точно зазвенела жаба серебряной трелью.
Айя взглянул на нее и понял, что надо делать. Начал рассказывать о хорошенькой Аите, жене одного из царских вельмож, изменявшей мужу, под самым носом его, так смело и ловко, что всем это было известно, кроме него.
– Поела, обтерла рот и говорит: «Я ничего дурного не сделала!» – заключил Айя рассказ.
– Как? Как? – засмеялся царь. – «Поела, обтерла рот…» – несколько раз начинал он и все не мог кончить от смеха.
– Обтерла рот и говорит: «Я ничего дурного не сделала!» – повторил Айя.
– А еще как ты говоришь? «Нечего плакать…» – опять начал царь и не кончил.
– Нечего плакать над прокисшим молоком! – кончил Айя.
Тута был спасен: Руру забыли.
В это время Дио шепталась со страженачальником Маху.
– А что, если не придет? – спросила она.
– Придет непременно, – ответил Маху. – Сколько у тебя спрятано?
– Триста.
– Хватит.
– Не сказать ли царю?
– Боже тебя сохрани! Если только узнает, все пропало, ничему не поверит. Надо обличить негодяя… А вот и он!
Вошел Мерира. У Туты потемнело в глазах.
– Он, он, наконец-то! – воскликнул царь, вставая навстречу Мерире.
Усадил его рядом с царицей и начал расспрашивать о здоровьи. Мерира отвечал спокойно, почти шутливо. Но когда нубиянка поднесла ему благовонную чашечку, он оттолкнул ее и брезгливо поморщился.
Девочки-певицы и игральщицы на лютнях, флейтах, бубнах и систрах уселись на полу, в кружок. Посредине стала Мируит, ученица Пентаура, привезенная Дио из Фив. Смугло-янтарное тело ее сквозило сквозь льющиеся складки прозрачного льна. Крошечным казалось под огромною шапкою тускло-черных, напудренных синей пудрой, волос личико некрасивое, прелестное и опасное, как змеиная мордочка.
Девочки заиграли, запели:
Сладкая, сладка ты для любви!
Краше всех жен,
Краше всех дев;
Волос чернее ягод абедовых,
Зубы ярче кремней солнечных,
Губы – цветок нераскрывшийся,
Руки – ветви тонкие;
Два цветущих венца —
Груди чуть выпуклы,
Сосцы – благоухание!
Мируит плясала «пляску чрева». Верхняя часть тела оставалась неподвижной, а нижняя – быстро-быстро двигалась, все на одном и том же месте. Голова закинулась, губы открылись, глаза потемнели – умерли, а тонкий стан извивался, как жало змеи; чрево подымалось, опускалось, и узкие, детские бедра двигались все тише, тише, как бы удлиняя миг последних содроганий. Если бы и вправду, на глазах у всех, она делала то, что изображала пляска, это не было бы так невинно-бесстыдно.
Женщины опустили глаза, а мужчины улыбались, отбивая ладошами лад. И девочки пели:
Пленила ты сердце мое,
пленила ты сердце мое
одним взглядом очей твоих.
О, как любезны ласки твои!
Лучше вина лобзанья твои,
благовонье мастей твоих
лучше всех ароматов!
Когда Мируит кончила пляску, хор слепцов, тех самых, что пели на празднике Солнца, вошел в палату. Сели на пол и запели под звуки арфы:
Роды родами сменяются;
солнце восходит, солнце заходит,
ноздри всех утренний запах вдыхают,
пока не отыдет в место свое человек.
Никто не вернется оттуда, не скажет,
что за гробом нас ждет.
Радуйся же, смертный, дню твоему,
пока не наступит день плача!
Слышал я о том, что постигло праотцев:
стены гробниц их разрушены,
гробы их запустели, как гробы нищих,
всеми покинутых,
и место их не узнает их:
были они, как бы не были.
Радуйся же, смертный, дню твоему!
Умастись мастями благовонными,
вязи вей из лотосов для плеч твоих
и сосцов сестры твоей возлюбленной;
услаждайся песнями и музыкой,
все печали забудь,
помни только о радости,
пока не причалит ладья твоя
к Брегу Молчания!
Песнь умолкла, и свежее повеяло веянье ночи из черно зиявших между столпами провалов; ниже склонились огни, все в одну сторону, как будто вошел в палату кто-то невидимый.
– Хороша песенка? – спросил Заакера.
– Нет, царевич, не хороша, – ответил Пангезий, человек без возраста, похожий на скопца, второй великий жрец Атона, начальник царских сыщиков, кроткий изувер, «святой дурак», по слову Айи.
– Чем же нехороша?
– Тем, что безбожна. Если в ней правда, тщетна вера наша.
– Я бы тебе ответил, мой друг, если бы пристойно было говорить невеждам перед лицом мудрого.
– Говори, Заакера, – сказал царь. – Я люблю тебя слушать. Ты говоришь, что многие думают, но не говорят, а мне и горькая правда любезнее лжи.
– Слушай же, Пангезий, – начал Заакера. – Пусть говорит о небесном с неба сошедший сын Солнца, а я скажу о земном. Все мы – вчерашние, и ничего не знаем, потому что дни наши на земле – тень. Всем участь одна, праведному и неправедному, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы. Нет у человека преимущества перед скотом: все изошло из праха, и все отыдет в прах. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, мертвые счастливее живых, а счастливее всех, кто никогда не рождался.
– Что же делать нам, родившимся? – спросил Пангезий.
– В песне отвечено: радуйся, смертный, дню твоему, но помни: тихость бога с небьющимся сердцем – лучший удел.
– Благодарю покорно, хозяин любезный, употчевал! – рассмеялся Айя. – Да я куска не проглочу под этакую песенку!
– Отчего же, мой друг? Память о скорби в радости – что в блюде соль.
– Так-то так, да всякая приправа хороша в меру, а тут пересолено.
– Нет, это не соль, – произнес врач Пенту тихо, как будто про себя.
– Не соль, а что? – спросил Айя.
– Яд, – ответил Пенту еще тише.
Маху взглянул на Мериру. Тот сидел, опустив голову и почти закрыв глаза, с лицом неподвижным, как у спящего или мертвого.
– Что же ты молчишь, благой? – воскликнул Пангезий, обернувшись к царю.
– Молчу, потому что сказать нечего: он прав, – ответил царь.
– Авинька, авинька миленький, вот хорошо сказал! – восхитилась царевна Меритатона и захлопала в ладоши.
Все посмотрели на нее с удивленьем.
– Что это значит, государь? – пролепетал Пангезий.
– Это значит, мой друг, что если нет Бога, то человек хуже скота, потому что скот не знает конца своего, а человек знает.
– Но ведь есть Бог.
– Есть. Все говорят, что есть, но делают, как будто нет. А не читал ли ты, сын мой, что мы дадим страшный ответ за пустые слова? Прав и Пенту: в песне яд. Но ведь и яд может быть лекарством. Два конца у песни: один «ешь, пей и умри», а другой «накорми голодного, напои жаждущего…». Но об этом лучше не говорить: Бог – родник в пустыне; запечатлен для говорящего, открыт для безмолвного. Вот Мерира молчит, и прав, правее нас всех. Не сердись же на нас, болтунов, молчальник наш милый, прости!
Мерира ничего не ответил, только взглянул на царя, и лицо его осталось неподвижным, как у спящего или мертвого.
Вдруг, в тишине, с крыши Атонова храма послышались медленно-мерные гулы тимпанов, как будто забилось в ночи огромное, медное сердце.
Все встали. Царь, царица, царевны, наследник и Мерира подошли к жертвеннику в глубине палаты, перед стенным изваяньем Атона.
– Слава богу незримому, солнцу полночному! – возгласил Мерира. – Сокол могучий, ширококрылый, оба неба пролетающий, чрез небо подземное спешащий в беге недреманном, чтобы утром взойти на месте своем, самый тайный из тайных богов! Жизнью твоею оживают мертвые; даешь ты дыхание ноздрям недышащим, расширяешь горло стесненное и сущим в смерти свет несешь, и, прославляя тебя из гробов своих, воздевают усопшие длани свои, веселятся под землею сущие!
Давеча, когда послышались гулы тимпанов, Маху и Дио вышли в соседнюю горницу. Он подошел к стене, постучал в нее тихонько и приложил к ней ухо. Изнутри послышался такой же стук. Каменная глыба в стене повернулась, как дверь на оси, открывая темную щель. Стены дворца были двойные; между ними был тайник; никто о нем не знал, кроме царя, Маху и Рамоза.
Из открывшейся двери вышли беззвучно, как тени, царские телохранительницы, амазонки хеттеянки. Карлик Иагу выскочил за ними, подбежал к Маху и спросил шепотом:
– Где они?
– Кто?
– Тута, Мерира.
– А тебе зачем?
– Никому их не отдам, задушу своими руками!
Иагу был убийца Руру: взлез тогда на дерево и подглядел в окно, подслушал все, что говорилось и делалось у заговорщиков. Он и донес на них.
– Молодец, Иагу! – сказал Маху, положив руку на голову его. – Ростом с ноготок, а сердце львиное. Только вот что, друг мой: если хочешь спасти царя, пальцем их не тронь, слышишь?
– Слышу, – ответил Иагу, скрежеща зубами.
– Скорей, скорей! – заторопилась Дио.
– Не бойся, успеем, – проговорил Маху спокойно. – Ты ступай к царю, а я подожду здесь. Закричишь – выбежим.
Дио вернулась в палату к гостям. Ни Туты, ни Айи там уже не было. Царь, стоя у жертвенника, шептал про себя молитву. Дио стала за ним против Мериры.
Немного поодаль от жертвенника стоял поставец с хлебами, плодами и винами. Мерира подошел к нему и начал готовить чашу с вином для возлияния.
Потом вернулся к жертвеннику, держа чашу в руках. Дио заметила на правой руке его перстень с карбункулом; раньше его не было.
Глаза их встретились. «Кто же выпьет чашу?» – прочел он в ее глазах вопрос. «А вот увидишь, кто», – прочла она ответ в его глазах.
Он подошел к царю и сказал:
– ЦарьУаэнра, Сын-Солнца-Единственный, свет от света, дух от духа, плоть от плоти солнечной, чашу жизни прими, испей чашу бессмертья, побеждающий смерть!
Подал чашу царю. Но, прежде чем тот успел ее взять, Дио вырвала ее из рук Мериры и кинула на пол.
– Что ты делаешь? – воскликнул царь.
– Вылила яд, государь. Он хотел тебя отравить, – ответила Дио и закричала: – Маху! Маху!
Дверь распахнулась, и в палату вбежали хеттеянки под предводительством Маху. Одни окружили царя, другие заняли сени и стали на страже у дверей; большая же часть их пробежала в соседнюю палату. Там начался бой с отрядом мадиамских наемников.
– Бунт! Спасайте царя! – кричали сановники и метались по комнате, ища выхода, чтобы бежать.
Вдруг загрохотали удары в ту дверь, откуда выбежали хеттеянки. Обе половинки дверей затрещали, закачались на петлях; их рубили топорами изнутри. Никто не ожидал нападения с тылу. Хеттеянки едва успели кинуться к дверям. Здесь начался новый бой.
Засвистели стрелы и копья. Одно копье ударило в винный поставец. Он упал, звеня разбитой посудой. Опрокинулся свещник – пылающий куст, и на полу вспыхнули циновки.
– Горим! горим! – кричали сановники, но ничего не делали, чтобы потушить пожар.
Девочка нубиянка схватила ковер и накинула его на пламя, так что оно сразу потухло.
Стрела пронзила благовонную шишку на голове Тэйи и сорвала с нее парик, обнажив лысое темя. Но старуха сидела невозмутимо, даже рукавичек не сняла, как будто для нее и бунт входил в придворный чин.
Мируит, раненная копьем в живот, лежала на полу, в луже крови, царапала пол ногтями и скалила зубы, точно смеялась, а узкие, детские бедра ее двигались все тише и тише, как будто кончая давешнюю пляску любви.
Может быть, хеттеянки не выдержали бы натиска мадиамитян, если бы в последнюю минуту перед бунтом половина их не изменила заговорщикам.
Шум боя начал затихать. Бунтовщики отступали. Жены победили мужей. Все произошло так внезапно, что гости не успели опомниться.
Вдруг в палату вошел легко раненный в левую руку Рамоз, волоча за собой Туту. Бросил его к ногам царя и закричал:
– Вот, государь, главный злодей: для него и этот старался, – указал он на Мериру и обернулся к Туте: – Признавайся, подлец, или убью, как собаку!
Занес над ним нож. Царь схватил его за руку:
– Брось нож!
Но тот, не выпуская ножа и весь трясясь от злобы, проворчал:
– Опять простишь?
– Прощу или нет, воля моя, а ты брось нож!
Силой отнял у него нож и отбросил.
– Горе! Кто сам себя губит, того и Бог не спасет, – продолжал ворчать старик и тяжело опустился в кресло, ослабев от раны. Тута валялся в ногах царя.
– Правду он говорит? – спросил его царь.
– Не я, не я, государь, видит Бог, не я… – пролепетал Тута, указывая пальцем на Мериру.
Тот стоял поодаль, не двигаясь, с таким безучастным лицом, как будто ничего не видел и не слышал. Кто-то скрутил ему веревкой руки за спину.
Царь подошел к нему и спросил:
– Ты хотел меня убить, Мерира?
– Хотел.
– За что?
– За то, что ты готовишь путь Сыну погибели.
– Разве мы не вместе готовили?
– Нет, не вместе.
– Зачем же ты мне лгал?
– Чтобы дело твое уничтожить.
– А на Него за что восстал?
– Можно мне тебя об одном просить, государь?
– Проси.
– Не спрашивай меня ни о чем и казни скорей.
– Нет, Мерира, я тебя не казню.
– Простишь, как Туту? – молвил Мерира и усмехнулся, как будто брезгливо поморщился. Говорил, опустив глаза; вдруг поднял их, заглянул прямо в глаза царю и сказал:
– Делай, что знаешь, но помни, Уаэнра, если не ты меня, то я тебя…
Не кончил, но царь понял: «Я тебя убью».
Положил ему руки на плечи, тоже заглянул прямо в глаза его и проговорил с тихой улыбкой:
– Помни и ты, Мерира: что бы ни случилось, я тебя люблю!







