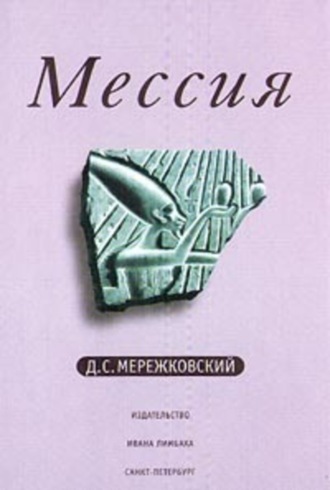
Дмитрий Мережковский
Мессия
II
Пирамидное кладбище древних царей тянулось по самому краю пустыни, на три дня пути, от Мемфиса до Гелиополя.
Здесь некогда происходила великая битва людей со смертью; смерть победила, люди бежали, поле запустело; только пирамиды остались на нем, как осажденные, но не взятые крепости.
В самой середине кладбища, на Ростийском поле, высились три величайших из них – Менкаура, Хафра и Хуфу-Хеопса. Внутри, над царской усыпальницей, тысячепудовые глыбы сплочены были так, что нельзя было между ними просунуть иглы, а снаружи зеркально-гладкая облицовка известняковыми плитами была так совершенна, что пирамиды казались исполинскими кристаллами. Вечные треугольники, возносясь от земли к одной точке неба, возвещали людям тайну Трех: «Я начал быть как Бог единый, но три Бога были во Мне».
Все остальные гробницы были разрушены; царские мумии выброшены и, валяясь на песке, рассыпались пылью под ногами прохожих. Только летучие мыши, гиены да шакалы гнездились в гробах. Воры грабили их тысячу лет, но всё не могли разграбить дочиста.
Как пели слепые певцы на пирах:
Слышал я и о том, что постигло праотцев:
Стены гробниц их разрушены,
Гробы их запустели, как гробы нищих,
И место их не узнает их:
Были они, как бы не были.
Тут же, в дикой скале, похожей на лежащего льва, вырублен был, неведомо кем и когда, великий Сфинкс. Лицо его было первое изваянное в камне лицо человека. Имена его: Ра-Хармаху– Солнце-на-краю-неба; Ху-Зешеп – Ужасный-Сверкающий; и Хепэр—Воскресающий.
Вечно засыпаемый песками, подымал он из них голову с таинственной улыбкой на плоских губах, чтобы увидеть первый луч восходящего солнца, и в каменных очах его был сверкающий ужас смерти – воскресения.
Неподалеку от Сфинкса находился храм, построенный тоже неведомо когда и кем. Четырехгранные столпы, потолочные брусья из таких исполинских глыб, что трудно было поверить, что они вырублены руками человеческими – всё из черного гранита, – гладко, голо, божественно просто.
Храм не был разрушен: и разрушать в нем было нечего; но запустел, как всё кругом. Мимо проходила большая дорога из Мемфиса в Гелиополь. Постоялый двор с харчевней приютился в храме. Алебастровые плиты пола были заплеваны, и зеркала гранитов потускнели от кухонного чада.
Однажды, в конце зимы, пастухи держали ночную стражу на Ростийском поле: скотские стойла находились в пещерных гробницах по склонам соседних холмов. У самого подножья Сфинкса развели большой костер из кизяка и дурровой соломы. Ночь была холодная, степной ковыль побелел от инея.
Путники, не нашедшие приюта на постоялом дворе, присоседились к огню пастухов. Между ними был Иссахар. Когда царь Ахенатон уехал из Города Солнца в Мемфис, он отправился за ним, но, не найдя его там, начал разыскивать. Тут же был дядя Иссахара, купец Ахирам, ехавший в город Танис по торговым делам с молоденькой невесткой своей, Тавифой, и Юбра, бывший раб Хнумхотепа; раненный в Нут-Амоновском бунте, он долго болел и только теперь выздоровел.
– Благословен Грядущий во имя Господне! – говорил Юбра. – Он сойдет, как дождь на скошенный луг и как роса на землю безводную. Души убогих спасет и смирит притеснителя…
– О ком говоришь? – спросил Мерик, пастух с добрым и умным лицом, напоминавшим древнего царя Хафру, пирамидостроителя, чьи изваянья стояли в соседнем храме с харчевней. – О новом пророке, что ли?
– Нет, о Том, Кого возвещает пророк.
– Пророки пророчат, сороки стрекочат, а нам от того ни тепло, ни холодно, – проворчал болезненного вида человек с желчной усмешкой на тонких губах, Мермоз, соловар с Миуэрских Озер.
– Истинно так! Бедным людям от пророков пользы мало, – подтвердил поселянин Анупу, старый, шершавый, корявый, как из земли выкорчеванный и землею обсыпанный пень. Молча ел он хлебную тюрю, жуя беззубыми деснами, и кутался в овечий мех от озноба. Вдруг оживился и начал говорить с таким видом, как будто вспомнил что-то веселое.
– Сорок лет я на себе пахал, волов купить не на что, а земли у нас сколько, сами знаете, – с плат головной. А позапрошлым летом берег в половодье подмыло, сделался оползень, четверть поля в реку ухнуло, едва и домишка не сполз. Понаехали сборщики. «Недоимка, – говорят, – за тобой, Анупу, большая: десять четвертей пшеницы, десять – полбы, да ячменя – тридцать». – «Ничего у меня нет, – говорю, – потерпите, отцы!» – «Нет, – говорят, – казна не терпит, ложись!» А один из-за другого знак подает: «смажь!» А мне и смазать нечем. Разложили, отодрали. Да кстати, и женку, – очень за меня ругалась. И сослали чистить каналы, в самый лютый зной, на солончаки Сэтовы. По колено в воде, мошкара заела, трясовица трясет. Вот и сейчас, к ночи, зуб на зуб не попадает. А земляк намедни сказывал, женка померла, домишка развалился, двух сынов в ополченье забрали, а дочку сманили в блуд купцы мадиамские. И возвращаться не на что… Так вот, говорю, на что мне и пророки?
Мерик подбросил соломы в костер. Пламя вспыхнуло ярче, озаряя в черно-звездном небе лицо Сфинкса. Между львиными лапами его спала Тавифа с грудным младенцем на руках.
Тавифа значит «серна». У нее были глаза, как у дикой серны, детские, длинные, до полщеки, ресницы, и такая улыбка, что Узеру, сыну Мерика, юноше с девически нежным и грустным лицом, глядя на нее, хотелось плакать от счастья. Он смотрел на нее, точно молился: ему казалось, что это мать Изида с младенцем Гором и что Сверкающий-Ужас только для того уставил каменные очи в звездно-черную тьму, чтобы стеречь Младенца с Матерью.
– Горько пахарю, да не слаще и воину, – заговорил старичок, худенький, сухенький, похожий на полевого кузнечика, отставной сотник, Азири. – Лезет воин на гору, кладь несет на плечах, как осел, воду лакает из лужи, как пес; увидит врага – дрожит, как птица в сетях; а вернется домой, весь изранен, источен болезнями, как червями старое дерево, – работать мочи нет, а просить стыдно, – ложись да помирай!
Не сказал, но все поняли: «ни на что-де пророки и воину».
– Полно-ка, братцы, каркать, – заговорил Мерик, оглядывая всех с ясной улыбкой. – Сорок лет я на свете живу, много видел дурного, да много и хорошего. Жизнь человечья такая, что не скажешь «совсем хороша», да и «совсем дурна» не скажешь, а так, вперемешку: плохо сегодня – завтра получше.
– Нет, лучше не будет, – возразил Мермоз. – Плохо сейчас, а будет хуже. И в древних свитках писано: даст людям Господь трепещущее сердце, истаеванье очей, изныванье души, и будут трепетать ночью и днем; днем скажут: «О, если бы ночь!», а ночью: «О, если бы день!» И небо над головами их сделается медью, а земля под ногами – железом, и прах будет падать на них, пока все не погибнут…
– Нет, не погибнут: придет Избавитель и спасет погибающих, – сказал Юбра тихо и просто.
– Чем спасет, мечом или словом? – спросил человечек плюгавенький, с угреватым лицом, с востреньким, красным носиком, с косыми, шмыгающими глазками, выгнанный со службы судейский писец, Херихор – Херя, по лицу видно, сутяга, ерник и ябедник.
– А по-твоему, чем? – ответил Юбра уклончиво: побаивался Хери; говорили, будто он сыщик.
Тот помолчал, приложился к походной сулейке, подмигнул и сказал:
– Мечом. А нет меча, топором, дубиной. Пока богачей за горло не взять да толстых пуз не повытрясти, не отдадут, что награбили… Ну, да полно болтать, – делать надо!
– Что делать?
– Кликнуть клич по земле: «Вставай, голытьба, подымайся, грабь, бей, жги!» Загорится великий пожар, и будет небывалое: новыми богами сделаются нищие, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника!
– Этого говорить не надо, сын мой! – остановил его Ахирам. – Даже в мыслях твоих не злословь начальника и в клети твоей не брани богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое.
– А-а, струсили? Ну, так и чесать языков нечего! – засмеялся Херя, закинув голову, поднял сулейку и вылил в рот последние капли.
– Да кто ты, кто ты такой, откуда взялся? – вдруг всполошился Юбра.
– А сам ты кто и с пророком твоим? Побродяги, чай, беглые рабы, мошенники, висельная дичь, – много мы таких видали, тьфу!
Замолчал, оглянул всех осовелыми, но все еще хитрыми глазками и начал опять ласково:
– Полно, старичок миленький, не сердись, хочешь, поцелуемся?.. Эх, братцы, жалко мне вас! Темные вы люди, бедные, всякий вас обидеть может, и заступиться некому. А я бедных людей вот как люблю, – душу за них положить готов!
И вдруг, нагнувшись к Юбре, шепнул ему на ухо:
– Кики Безносого знаешь? Умная голова, умнее всех пророков. На Верху, говорят, опять зашевелился! Вот бы к кому пристать. Хочешь, сведу?
Юбра молча отшатнулся от него. И все молчали, как будто и вправду струсили.
Вдруг далеко в пустыне послышалось голодное рыканье льва, и псы у овчарен залились неистовым, воющим лаем.
Мерик встал, с величавой любезностью, свойственной людям пустыни, поблагодарил гостей за беседу и пошел с двумя пастухами в сторожевой обход. А остальные начали укладываться на ночь, тут же, у костра, на теплом песке, кутаясь в меха и плащи.
Иссахар подошел к Юбре, отвел его в сторону и сказал:
– Можно видеть пророка?
– Отчего нельзя? Завтра все увидят.
Иссахар помолчал, оглянулся, не подслушал бы Херя, и спросил шепотом:
– Кто он, откуда?
– Жрец-уаб, а откуда, не знаю.
– Правда, не знаешь или не хочешь сказать?
– Нет, правда.
– А имя как?
– Незер-Бата.
Иссахар знал, что Бата – одно из имен Озириса: Душа Хлеба, Плоти Божьей, дробимой людьми и вкушаемой; а Незер – Отпрыск, Сын. Незер-Бата – Сын Озириса, Второй Озирис.
– Ты израильтянин? – спросил Юбра.
– Израильтянин.
– Ваш Моисей – великий пророк, а этот – больше…
– Больше Моисея будет только один Человек на земле, – знаешь, Кто?
– Знаю.
Иссахар смотрел на Юбру так, как будто хотел еще о чем-то спросить.
– Сам увидишь, – узнаешь, – ответил Юбра на этот безмолвный вопрос и отошел.
Иссахар лег у костра, закутался в плащ, но долго не мог уснуть, все думал о пророке. Что-то было в словах и умолчаньях Юбры о нем подобное таинственной улыбке Ху-Зешепа, Сверкающего-Ужаса. Только перед самым рассветом начал засыпать, услышал сквозь сон далекое рыканье льва и вспомнил: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его!»
Не спал в ту ночь и сын Мерика: все смотрел, как будто молился, на мать с младенцем между львиными лапами Сфинкса.
Ослик Тавифы дремал, низко опустив голову. Пламя потухавшего костра замерло недвижно в бездыханном воздухе, длинное, тонкое, острое, как меч. Внизу, на поемных лугах, уныло дудила дуда удода. Звезды тускнели, дрожали, как задуваемые ветром огни. Небо побелело, порозовело, и затеплилась в нем чистая, белая, как солнце, звезда. В мглистом ущельи Аравийских гор вспыхнул рдяный уголь, и первый луч солнца озарил лицо Сфинкса.
Младенец проснулся, заплакал. Мать начала его кормить грудью. Потом подняла высоко, показывая солнце. Мальчик смеялся и протягивал ручки, как будто хотел схватить солнце.
Тайна одна была в обеих улыбках – младенца и Сфинкса. Узер пал на лицо свое, поклоняясь Младенцу Гору – Сверкающему-Ужасу.
Иссахар проснулся поздно, когда уже солнце взошло на высоту пальмы. Вскочил, испугался, что проспал, не увидит пророка.
Мимо него шли куда-то спешившие люди.
– Куда вы? – спросил он.
– На Иекет-Хуфу, к пророку, – ответили ему.
Он пошел за ними. По тропинке, между торчащими острыми скалами, засыпанной песками так, что нога угрузала в них по щиколку, взобрались на плоское темя холма Иекет-Хуфу – Лучезарность Хуфу, против великой пирамиды того же имени. Стебли трав еще белели инеем в тени, а на солнце он уже таял и капал светлою, как слезы, капелью.
С высоты холма открывалась необозримая даль; уходящие до края неба, желтые, как львиная шерсть, пески; темная, до синевы, зелень поемных лугов и пальмовых рощ по реке; золотые острия обелисков Гелиопольских, сверкающие искрами на выжженных, с голыми ребрами, аметистово-лиловых и топазово-желтых взлобьях Аравийских гор; а вблизи, прямо против холма, в солнечно-розовой мгле млеющая бледность исполинского призрака – Лучезарность Хуфу – пирамида Хеопса. Совершенные треугольники, возносясь от земли к одной точке неба, возвещали людям тайну Трех: «Я начал быть как Бог единый, но три Бога были во Мне».
Люди, толпившиеся на плоском темени холма, обступили пророка так, что Иссахар не мог протесниться к нему. Тут были хромые, немые, слепые, увечные, прокаженные, расслабленные, бесноватые. Незер-Бата возлагал на них руки с молитвой, и они исцелялись. Потом он взошел на пригорок, возвышавшийся посредине площади. Солнце, вставая за ним, окружало пророка таким ослепительным, как бы из тела его исходившим, блеском лучей, что Иссахар не видел лица его. «Плоть твоя – плоть Солнца, члены твои – лучи прекрасные. Воистину, из Солнца исшел ты, как дитя из чрева матери!» – вспомнил он слова Атонова служения.
Раздался голос пророка, и вся толпа затихла так, что слышно было, как падают слезы тающего инея. Что-то было в этом голосе такое знакомое, что сердце у Иссахара забилось от неимоверного предчувствия. Он опустил глаза: боялся увидеть – узнать.
Незер-Бата говорил о втором Озирисе, о Сыне грядущем, о Том, Кого называли пророки Израиля: Машиах – Мессия.
Иссахар поднял глаза, увидел – узнал: «Он!» – и закрыл лицо руками, как от солнца. Но не поверил глазам своим, взглянул еще раз и увидел, что пророк уже сошел с пригорка; толпа опять заслонила его.
Иссахар подошел к Юбре и сказал:
– Я хочу говорить с Незер-Батой.
– Ступай вниз, к Ху-Зешепу, он там пройдет, – ответил Юбра.
Иссахар сошел вниз и сел на песок, у подножья Сфинкса.
Солнце всходило, и медленно двигалась черная, по белому песку, тень великой пирамиды Хеопса, Лучезарности Хуфу, как тень от гребня на солнечных часах, меряя минуты – века, ход времени к вечности. «Сколько минут, сколько веков до Него?» – думал Иссахар.
Вдруг увидел Незер-Бату, сходящего к нему с холма. Встал, подошел, пал ниц и воскликнул:
– Радуйся, царь Египта, Ахенатон!
Вглядывался в лицо его, как будто все еще не верил глазам своим; узнавал – не узнавал.
Тот молча посмотрел на него, покачал головой и сказал:
– Нет, сын мой, ты ошибся, я нищий странник, Бата. А ты кто?
– Иссахар, сын Хамуила, тот, кто хотел тебя убить. Не узнаешь?
Вдруг стоявший над ним быстро нагнулся к нему, прошептал:
– Если любишь меня, молчи!
И взглянул ему в глаза. Такая власть была в этом взоре, что, если бы он сказал: «Умри», – Иссахар умер бы.
Но когда стоявший повернулся, чтобы идти, он обнял ноги его и спросил:
– Можно мне идти за тобой?
– Нет, нельзя. Ты иди своим путем, и я пойду своим: оба придем к Нему, – у Него и встретимся.
– У Него? А разве ты?..
Снова вгляделся в лицо его и обмер от ужаса: вдруг показалось ему, что это не бедный Бата, но и не царь Египта, Ахенатон, а кто-то Другой.
– Кто ты? Кто ты? Богом живым заклинаю, скажи, кто ты? – прошептал исступленным шепотом.
Тот опять покачал головой, улыбнулся и указал ему на черную тень на белом песке:
– Видишь тень? Как тень от меня, так я от Него. Он идет за мной, но я не Он!
Сказал и пошел вдоль подножья Сфинкса, и тень пошла за ним. Повернул за угол, скрылся, – скрылась и тень. Только легкие следы остались на белом песке.
Иссахар нагнулся к ним, но, не смея поцеловать их, поцеловал только песок, где прошла тень.
III
В Бузирисе, городе Северного наместничества, вспыхнул бунт.
Начали его, по обыкновению, израильтяне, работавшие на кирпичных заводах, когда прекратили им выдачу рубленой соломы, нужной для подмеси в глину, и, не уменьшив числа урочных кирпичей, заставили самих ее рубить. К ним присоединились крючники и грузчики с хлебной пристани, узнав о новом воинском наборе мальчиков моложе пятнадцати лет. «Стоит ли рожать сыновей? Чуть подрастут, гонят на убой, и вы, отцы, это терпите!» – возмущались матери. Взбунтовалась и часть крепостного отряда киджеваданских наемников, получивших с месячным пайком, вместо оливкового масла для умащений, дурно пахнущее, кунжутное.
Бузирийский областеначальник, Узирмар, сын Зиамона, старый воин времени Тутмоза Четвертого, сурово подавил восстанье. Со множеством других бунтовщиков схвачены были, по доносу судейского писца, Херихора, трое, будто бы, главных зачинщиков: бродяга Бата, раб Юбра и Авиноам Пархатый; под этим именем скрывался Иссахар.
«Сей окаянный Бата, безбожник и всесветный возмутитель, – сказано было в доносе, – шайку набрав подобных себе воров и разбойников, намеревался сделать возмущение не только в Бузирийской области, но и по всему Египту, проповедуя неповиновенье властям, отказ от воинской службы и уравненье бедных с богатыми: сотрутся-де межи полей, и земля будет общею, и отнимется именье у богатых, и отдастся бедным. Он же, окаянный, изрыгая хулу на благого бога-царя, суесловит, будто один царь на земле и на небе – бог Ра-Атон».
Донос был сочинен ловко, хотя и безграмотно. Время было смутное. Хоремхэб, наместник Севера, только что отправился в восточную область, Гозен, усмирять восставших израильтян, которые всё мечтали о втором Исходе, и отражать нападенье Синайских кочевников от Великой Стены Египта. Страшные слухи доходили до Узирмара о сумасшествии, самоубийстве или убийстве царя Ахенатона, о новом возмущеньи в Фивах и о предстоящей войне двух соперников из-за царского престола, Заакеры и Тутанкатона.
Бунтовская шайка ложного пророка Баты могла быть первой искрой нового пожара.
Когда привели его, скованного, из тюрьмы в Белый Дом областеначальника, тот велел выйти всем и, взглянув на него, удивился: так непохож он был на злодея. Царя Ахенатона Узирмар видел только раз лет двадцать назад, и если бы сейчас увидел, не узнал бы.
– Как тебя звать? – спросил стоящего перед ним узника.
– Бата.
– А по отцу?
– Божий.
– Да ты что, шутить вздумал? Берегись.
– Нет, я не шучу. Я отца моего земного не знаю; знаю только Небесного.
– Кто ты, откуда?
– Видишь, бродяга. По всей земле хожу, а откуда вышел, не помню.
– Правда ли, что чернь бунтуешь, уравнять хочешь бедных с богатыми?
– Нет, неправда. Бунт злое дело, а я хочу добра.
– Отчего же благого бога, царя, не чтишь?
– Я царя чту, но царь не Бог; Богом будет один Человек на земле.
– Какой человек?
– Люди зовут его Озирисом, а настоящего имени не знают.
– А ты знаешь?
– Нет, тоже не знаю.
– И он будет похож на тебя?
– Нет, солнце на тень не похоже.
– Он-то, что ли, и уравняет бедных с богатыми?
– Он, Он один, и никто кроме Него! Это ты хорошо сказал, брат мой…
– Я тебе не брат, а судья. Разве не знаешь, что я могу тебя казнить и помиловать?
– Казнишь ли, помилуешь, все от тебя мне дар любезный, – ответил Бата с такой безмятежной улыбкой, что Узирмар еще больше удивился и подумал: «Бедный юрод, на него и сердиться нельзя!»
Долго еще допрашивал, но ничего не добился. Был человек умный и справедливый: понимал, что большая часть доноса ложь; хотел простить несчастного, но не мог, по закону; зато приговор был милостив: легко наказав на теле, сослать на три года работы в Нубийские золотые прииски.
Так и сделали. Со множеством других осужденных отправили Бату на огромной плоскодонной барже, плавучей тюрьме, вверх по Нилу, в далекий полуденный Город Слонов, Иеб, откуда шел караванный путь через страшную пустыню, Куш. Там, в раскаленных недрах земли, в рудниковых колодцах, голые люди в цепях, старики, дети, женщины, под бичами надзирателей работали днем и ночью, без отдыха, мололи кварц на ручных жерновах и промывали золотой песок, умирая, как мухи, от жажды и зноя.
Иссахар, еще прежде допроса, бежал из тюрьмы. Хитрые сыны Израиля, подкупив тюремщиков, устроили ему побег. С ним бежал и Юбра. Наняли рыбачью парусную лодку, ветхую, дырявую, но быстроходную, и поплыли вверх по Нилу, следуя издали за тюремною баржею.
У Города Солнца обогнали ее. Иссахар, выйдя на берег, пошел прямо к страженачальнику Маху и объявил ему, что на подходящей к городу барже находится царь Египта, Ахенатон.
Маху, зная кое-что о внезапном исчезновеньи царя, не очень удивился, но и не сразу поверил. Взял Иссахара под стражу, обещал наградить, если слова его окажутся правдой, а если нет – казнить; приказал остановить баржу и, дождавшись ночи, пошел на пристань с полсотней воинов из черного племени Маттоев, людей испытанной верности. Взойдя на баржу, вызвал главного тюремщика, велел ему привести узника Бату, вошел с ним в палубную рубку и закрыл окна и двери, поднес к лицу его лампаду и узнал царя Ахенатона.
– Мы, стражники, бывалый народ, – сказывал Маху впоследствии. – Столько навидались всего, что сердца у нас каменные. Но в ту минуту сердце во мне истаяло, как воск!
Страшно было бы ему увидеть вместо царя Ахенатона, Радости-Солнца, несчастного безумца, но страшнее было то, что он увидел: человека разумного и счастливого.
– Жизнь, сила, здравье царю! – начал он, но голос его пресекся, колени подогнулись, и, повалившись в ноги царю, он заплакал.
Царь наклонился, обнял его и сказал:
– Полно, Маху, не плачь. Мне хорошо здесь…
И, помолчав, прибавил:
– Лучше здесь, чем у вас.
Маху все еще вглядывался в него с надеждой увидеть безумца; но не увидел, и вдруг показалось ему, что он сам сходит с ума.
– Что ты говоришь, что ты говоришь, государь! Лучше тебе здесь, среди воров и убийц, чем у верных слуг твоих?
– Лучше, Маху. Брат мой, любишь ли ты меня? Знаю, что любишь. Сделай же, о чем попрошу: никому не говори обо мне и отпусти.
– Видит Бог, Уаэнра, душу мою отдал бы я за тебя, но легче мне тебя убить, чем оставить здесь!
– Убьешь, если не оставишь, – сказал царь, опять наклонился к нему, обеими руками обнял голову его и заглянул ему в глаза с мольбой.
Маху сказывал потом: еще бы минута, и он бы не вынес, лишился бы рассудка, ушел и оставил царя. Но тот сжалился над ним.
– Не можешь? – прошептал, как будто задумавшись, и посмотрел на него так, что сердце в нем опять истаяло, как воск. – Ну что ж, нечего делать, пойдем!
Вышли из рубки на палубу. Царь сел в носилки. Воины подняли его и понесли во дворец.







