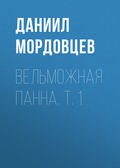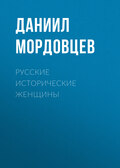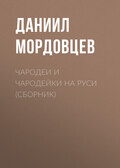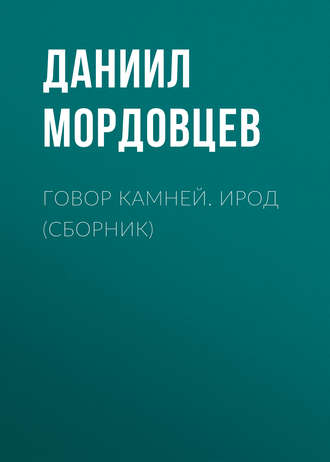
Даниил Мордовцев
Говор камней. Ирод (сборник)
XI
Жрец-гипнотизер
В Булакском музее в Каире сохраняется великолепный саркофаг царицы Аахотеп, супруги фараона Камеса, последнего фараона XVII династии. Саркофаг этот открыт знаменитым египтологом Мариеттом-беем в погребальных склепах древних Фив.
На крышке этого саркофага высечена фигура мумии, вся позолоченная. На лбу этой мумии изображен символический царский змей – уреус. Глазные веки мумии обтянуты червонным золотом, белки открытых глаз сделаны из горного кристалла, а зрачки – из черного стеклянного сплава. На груди и плечах мумии лежит изображение грудного убора, присвоенного царицам. Остальные части тела мумии прикрыты парою огромных крыльев. У ног саркофага – фигуры Изиды и другой богини, редко упоминаемой, – Нефтис. На саркофаге имеется иероглифическая надпись: «царица Аахотеп», то есть «служительница луны».
Когда крышка саркофага была поднята, то там открылась необыкновенно богато украшенная мумия самой царицы, пребывавшая нетленною в течение тридцати шести веков. Сохранились нетленными ткани виссона, которыми обвито было тело царицы. Когда же развернули складки этих тканей, то там оказались драгоценные, великой исторической важности вещи, исполненные необыкновенно художественно, както: мечи, золотой топор, цепь с тремя большими золотыми пчелами и нагрудное украшение из золота. На лицевой стороне этого нагрудника изображен фараон Аамес, ее сын, первый фараон XVIII династии. Он изображен плывущим на священной лодке, а два божества возливают на него воду очищения. Краски этого изображения, по замечанию Мариетта-бея, не обыкновенная эмаль, а пластинки драгоценных камней, заключенные в золотые ободки. Камни эти – бирюза, лазоревый камень, сердолик и другие. Там же, при мумии, найдено зеркало (как же женщине, даже мумии, в гробу быть без зеркала!). Зеркало это, с украшениями в виде пальм, составляет еще неразрешенную загадку, так как диск зеркала сделан из какого-то сплава, имеющего относительный вес золота – но это не золото. Не разгадал ли бы этой загадки покойный Кузьма Прутков на своем пробирном камне?
Наконец, когда бережно развернули складки тканей, которыми обмотана была сама мумия, то на шее ее оказалась золотая цепь со священным жуком, головной обруч в виде царского змея – уреуса, браслеты и другие украшения. В гробу же лежали две маленькие лодки из золота и серебра – это лодки Харона, который перевозил души умерших через «озеро смерти» в страну загробного мира – в Аменти. Надо заметить, что греки заимствовали Харона и его лодку, как и всю свою позднейшую мифологию, у египтян: греческий Орфей долго жил и учился у египетских жрецов, и из Египта же он вынес не миф, а истинный рассказ о своем нисхождении в ад через Ахерон и Флегетон, то есть через египетское «озеро», или «реку смерти» – в страну Аменти при помощи лодки Харона.
Но не в этом главная суть рассказа. Я потому дал здесь подробное описание мумии царицы Аахотеп, что это – одна из не ограбленных хищниками мумий со всеми находившимися при ней в гробу драгоценными предметами.
Суть же рассказа впереди.
Фараон Камес женился на царевне Аахотеп, когда она находилась еще в очень нежном возрасте – была почти ребенок. Фараоны на это не смотрели, тем более что у юных египтянок зрелость, конечно относительная, наступала очень рано под горячими ласками бога Ра, то есть жгучего африканского солнца. Но, к великому огорчению фараона, юная супруга его долго не давала ему наследника престола: проходит год, два – Аахотеп все остается девочкой. Фараон скорбит, дуется на девочку. Девочка, как всякая дурочка, конечно, в слезы… К кому прибегнуть за помощью? Понятно, к богам, твердят жрецы: к верховному богу Горусу, к богу оплодотворения. Горус как рукой снимает бесплодие.
Стала девочка ходить в храм молиться Горусу.
Древность, как известно, высоко ставила «египетскую мудрость». И неудивительно: египетские ученые, преимущественно жрецы, постигли много тайн природы. Они в течение тысячелетий успели вырвать у ее скупости немало «такого, о чем не снилось и нашим мудрецам». Им хорошо была известна сила гипноза и соединенных с нею явлений. Жрецы были и спириты, может быть, поопытнее Алан Кардека и Николая Петровича Вагнера, хотя и не знали фотографии…
Итак, Аахотеп стала ходить к Горусу. Она усердно молилась ему, много плакала… И милостивый бог сжалился над нею: он послал к юной царице своего служителя, верховного жреца Менту. Он вышел из святилища храма, держа в руке маленькое серебряное изображение Горуса.
– Великий бог внял твоим молениям, дочь моя, царица Аахотеп, – сказал он. – Я вестник его воли. Опустись на это седалище.
Жрец подвел ее к невысокому сиденью из красного дерева.
– Усади свое тело поудобнее и прислони спину твою к «доске покоя», – продолжал он, сажая дурочку.
Дурочка уселась. Она чувствовала благоговейный трепет – трепет боязливого и радостного ожидания. Она вся была во власти опытного гипнотизера.
– Теперь смотри пристально на изображение бога, на самую блестящую часть его, – продолжал жрец. – На какой части изображения более всего отражается свет бога Ра? – спросил он.
– На лбу бога, – тихо отвечала юная царица.
– Смотри же именно на это место и думай, молись сосредоточенно о том, чего ты просишь у божества.
Она повиновалась. Жрец стоял против нее, держа перед ее глазами серебряного Горуса. Кругом полная тишина… Проходит минута, другая, третья… Жрец сосредоточивает на гипнотизируемой всю силу своего внушения… Еще проходят минуты – пять, шесть… десять… Веки царицы тяжелеют… Лицо, скорее юное личико, мало-помалу теряет осмысленное выражение… Она засыпает…
– Ты где? – тихо спрашивает жрец.
Молчание… Он громко повторяет свой вопрос. Опять молчание…
– Ты в области небесных видений, – говорит жрец внушительно, строго. – Отвечай: да?
– Да, – слышится тихий шепот.
– Повтори явственно: я, царица Аахотеп, в области небесных видений, – настаивает жрец.
– Я… царица… в области… небесных видений…
Лукавая, торжествующая улыбка скользнула по лицу жреца.
– О, сила мудрости! – радостно прошептал он.
Потом он наклонился к усыпленной девочке, бережно обвил правою рукою ее тоненькую, гибкую талию, осторожно приподнял с сиденья и, тихо прижимая к себе, медленно повел ее в святилище храма, за широкую завесу из финикийского виссона. Хорошенькая головка юной египтянки беспомощно склонилась к плечу жреца… Скоро завеса скрыла их… Снова показался верховный жрец, по-прежнему бережно ведя юную царицу. Глаза ее были закрыты – она продолжала спать. Менту снова бережно усадил ее на седалище, прислонив черную головку к «доске покоя». Потом он расправил складки ее одежды и отошел, любуясь миловидным личиком с детским выражением.
– Дитя мое, царица Аахотеп, снизойди из области небесных видений в область видений земных, – проговорил он внушительно. – Проснись!
Аахотеп открыла глаза. Сначала она, по-видимому, ничего не сознавала – где она, что с ней… Но потом взор ее прояснился, и она глубоко-глубоко вздохнула.
– Это ты, святой отец? – тихо проговорила она. – Что со мной? Где я была?
– В области небесных видений, дочь моя, – отвечал жрец с лаской в голосе.
– Да, да, святой отец, – радостно проговорила дурочка.
– Да, да, дитя мое… Это осенило тебя божество… А теперь, дочь моя, возвращайся во дворец твой, к супругу-фараону – да живет он вечно!.. Обопрись на мою руку – я провожу тебя из храма.
Аахотеп покорно повиновалась. Жрец провел ее до внутреннего двора храма, где у пилонов ее ожидали рабы и рабыни с богатыми придворными носилками и опахалами.
Когда носилки с юной царицей двинулись, жрец воротился в храм. На упитанном лице его играла чуть заметная лукавая улыбка…
Прошло девять месяцев. Фараону Камесу боги послали великую радость: у него родился сын, наследник престола Верхнего и Нижнего Египта. Царские гонцы разнесли радостную весть по всей стране – от стовратных Фив до «Великих зеленых вод» на север и далеко-далеко за «тропик Рака» – к югу.
На восьмой день после появления на свет фараонова первенца из дворца выступила торжественная процессия. Это несли высоконоворожденного в храм Амона для обрезания. Процессия двигалась около двух роскошных балдахинов, следовавших рядом. Под одним балдахином восседал на золотом троне сам фараон Камес, над которым эрисы махали опахалами из страусовых перьев, навевая прохладу на лицо счастливого отца и повелителя. Под другим, меньшим балдахином стояла золотая колыбель, а в ней покоился высоконоворожденный младенец, над которым «высокая кормилица» тоже помахивала опахалом, а другими двенадцатью опахалами помахивали «высокие госпожи женской палаты фараона», то есть статс-дамы царицы Аахотеп, которая на церемонии обрезания не присутствовала.
Тысячи народа следовали за процессией с горячим любопытством и возбуждением, но сдержанно и безмолвно, так как везде виднелись в воздухе внушительные бичи мацаев – полицейских, готовые поразить всякого нарушителя тишины.
Едва процессия вступила за пилоны храма, как ее встретила процессия жрецов с Аписом во главе.
Носилки тотчас же были поставлены на землю – носилки новорожденного впереди. Верховный жрец Менту, уже знакомый нам жрец-гипнотизер, первый подошел к колыбели младенца. Радостная улыбка осветила его красивые, упитанные черты. В руке он держал священный нож обрезания. За жрецом потянулась и морда рогатого бога. Вымуштрованный голодом и частыми репетициями, Апис знал очень хорошо, что в колыбели высоконоворожденного лежит сноп свежей, сочной пшеницы, – а ему только этого и надо. Бык, обнюхав младенца, приподнял своей мордой покров, прикрывавший пшеницу, и тотчас же принялся жадно жевать ее…
– Великий бог благословил царственное семя, – послышался благоговейный шепот «высоких госпож женской палаты».
Но бык, жадно жуя, неловко задел мордой ребенка. Тот проснулся и заревел благим матом…
– Боги этим криком возвещают свою волю, – торжественно сказал верховный жрец. – Голос великого младенца, когда он возмужает и воссядет на престол фараонов, с трепетом услышит вся вселенная.
Будущему фараону дано было имя Аамеса, что значит «чадо луны».
XII
Египетский Шарко
Это было при фараоне Рамзесе XII, предпоследнем фараоне XX династии.
К востоку от Египта, в далекой Азии, существовало царство Бахатана. Известные египтологи, виконт де Руже и Бругш-бей, полагали, что это была Экбатана, столица Мидии. Но это – только ученая гипотеза. Как бы то ни было, но мой рассказ заключается в следующем.
У царя Бахатаны заболела любимая дочь, молоденькая царевна, по имени Бинт-Реш. Болезнь ее была, по-видимому, нервная. Значит, не один XIX век страдает нервами – и при Рамзесах такое бывало. Но пусть лучше сами камни говорят об этом. Их рассказ такой наивно трогательный и записан он на каменной стеле по повелению Рамзеса XII более чем три тысячи лет до наших дней.
«Когда фараон находился в земле рек Нахараин (Месопотамия), – говорит этот камень, – тогда пришли цари всех народов в смирении и дружбе к особе фараона. Из отдаленнейших концов земель их приносили они в дань золото, серебро, голубые и зеленые камни, и всякого рода благовонные деревья святой земли находились на плечах их, и всякий торопился сделать это ранее своего соседа.
Тогда приказал царь земли Бахатаны принести дары свои и во главе их поставил свою старшую дочь, чтобы почтить фараона и испросить его дружбу.
И женщина была красотою своею милее фараону, чем все другие вещи. Тогда вписано было ее царское имя, как жены царя – Нофрура.
Когда фараон прибыл в Египет, то ей учинено было все то, что обычно делают для царицы. И случилось то в год 15-й, в месяц паини, в 22-й день.
Тогда находился фараон в Фивах крепких, в царе городов, чтобы благодарить отца своего, Амона-Ра, господина Фив, в прекрасный его праздник Апи юга, в седалище его наслаждения от начала. И пришли тогда доложить фараону:
– Пришел посол царя Бахатаны с подарками царице.
И привели его пред фараона вместе с дарами. Он говорил в честь фараона:
– Будь приветствован, солнце народов! Пусть мы живем при тебе!
Тогда говорил он, упав ниц пред фараоном, и повторил речь фараону:
– Я пришел к тебе, великому господину, ради девицы Бинт-Реш, младшей сестры царицы Нофрура. Страдание вошло в ее тело. Да пошлет твое величество человека, знающего вещи, чтобы он посмотрел ее.
Тогда сказал фараон:
– Да будут приведены ко мне ученые из помещения священной науки (египетская академия, где заседали «бессмертные» мужи!) и знающие внутренние тайны.
И привели их немедленно к нему. Говорит фараон после некоторого времени:
– Вы призваны для того, чтобы выслушать эти слова. Итак, приведите ко мне мужа из среды вас, мудрого разумом и пальцами искусного в писании.
Когда пришел царский писец Тутемхиб пред фараона, приказал ему фараон, чтобы он отправился с прибывшим послом в Бахатану.
Когда знающий достиг города земли Бахатаны, в котором пребывала Бинт-Реш в положении, в котором находятся одержимые духом, тогда нашел он себя бессильным бороться с ним (то есть с духом).
Увы! «Мудрый разумом и пальцами искусный в писании» осрамился!
«И снова, – продолжают говорить камни, – послал царь к фараону, так говоря:
– Великий господин и властитель! Да повелит твое величество, да послан будет бог Хонзу действующий, фиванский, к младшей сестре царицы».
Это и есть египетский Шарко – «бог Хонзу действующий». Вероятно, когда тот ученый муж, «мудрый разумом и пальцами искусный в писании», увидел, что не в силах тягаться с духом, он и сказал царю Бахатаны: «А вы попросите прислать к больной царевне Хонзу действующего… Это такой у нас дока, что против него ни один дух не устоит…» Кто этот «Хонзу действующий» – мы сейчас узнаем… Ах, седая древность! Как много в ней неразгаданного!..
«И посол оставался при фараоне до года 26-го, – продолжают камни. – В месяце пахонс того же года, во время праздника Амона, пребывал фараон в Фивах, и стоял фараон пред богом Хонзу фиванским, добрым и дружелюбным (этого Хонзу – «доброго и дружелюбного» – надо отличать от «Хонзу действующего» – в этом вся и штука…), говоря ему так:
– О ты, добрый господин! Я опять нахожусь пред тобою, ради дочери царя Бахатаны.
И пошел оттуда бог Хонзу фиванский, добрый и дружелюбный, к Хонзу действующему, великому богу, прогоняющему вред. Тогда говорил фараон в присутствии Хонзу фиванского, доброго и дружелюбного:
– Ты, добрый господин, не поручишь ли ты Хонзу действующему, великому богу, прогонителю вреда, чтобы он отправился в Бахатану?
На это последовало одобрительное согласие. Тогда говорил фараон:
– Отпусти с ним твой талисман. Я велю отвезти его святость в Бахатану, чтобы избавить дочь царя Бахатаны.
На это последовало весьма одобрительное согласие Хонзу фиванского, доброго и дружелюбного. Тогда дал он талисман Хонзу действующему фиванскому, до четырех раз (?)».
Понимаете эту ловкую проделку жрецов? Бог Хонзу, «добрый и доброжелательный», – это молодой сын бога Амона и богини Мут, особенно чтимый Рамзесом XII, который и соорудил ему храм в Фивах и приносил богатые дары. А бог Хонзу «действующий» – это докажрец, египетский Шарко, которого теперь командируют к больной, нервной барышне. Его для этого снабжают и «талисманом», по всей вероятности, золотым кобчиком.
Камни говорят далее:
«И приказал фараон принять на большой корабль Хонзу действующего фиванского. Пять барок и многие повозки и лошади находились направо и налево.
И достиг этот бог до города земли Бахатана в продолжение времени одного года и пяти месяцев».
Каково было путешествовать при фараонах!.. Год и пять месяцев!.. А больная барышня жди…
«Тогда пошли царь Бахатаны и народ его и князья его навстречу Хонзу действующему, – читаем дальше. – И царь бросился на живот свой, говоря так:
– Прииди к нам, будь к нам дружелюбен, согласно желанию царя Верхнего и Нижнего Египта, Миамун-Рамессу.
Тогда пошел тот бог в то место, где пребывала Бинт-Реш. Тогда заставил он талисман действовать на дочь царя Бахатана. Она выздоровела на месте (то есть немедленно).
Тогда сказал тот дух, который в ней был действующим фиванским:
– Добро пожаловать как друг, ты, великий бог, прогонятель вреда. Твой город Бахатана, жители его – рабы твои, я – твой раб. Я возвращусь туда, откуда я пришел, чтобы удовлетворить сердце твое в отношении того намерения, которое привело тебя сюда. Да прикажет твое святейшество, чтобы отпразднован был праздничный день в моем сообществе и в сообществе царя Бахатаны.
Тогда соизволил одобрительно на это бог своему пророку ответить, говоря:
– Да соорудит царь Бахатаны великое жертвоприношение этому духу! Когда это совершится, тогда соединится Хонзу действующий фиванский с этим духом.
И стоял тут царь Бахатаны с народом своим и был в страхе весьма».
Каково дурачили царей разные Хонзу и духи!
«Тогда соорудил он (царь Бахатаны) великое жертвоприношение для Хонзу действующего фиванского, и для этого духа. И праздновал царь Бахатана праздничный день им. Тогда отошел оттуда великий дух туда, куда ему желательно было, как то повелел Хонзу действующий, фиванский.
И радовался безмерно царь Бахатана вместе со всеми мужами, жившими в Бахатане. Тогда взвесил он в своем сердце, говоря с собой так:
– Не может ли соделаться, чтобы этот бог остался в городе земли Бахатаны? Я не отпущу его идти в Египет.
И пребывал этот бог три года и девять месяцев в Бахатане.
И покоился царь Бахатаны на ложе своем, и видел он, как бог этот выступил из своего священного шкафа и как он, под видом золотого кобчика, полетел по небу по направлению к Египту.
И когда он проснулся, он был расслаблен. Тогда говорил он пророку Хонзу действующему фиванскому:
– Этот бог повременил у нас. Да пойдет он ныне в Египет. Колесница его да возвращается в Египет.
И приказал царь Бахатаны везти бога в Египет и дал ему многие подарки (конечно! Гонорар господину Шарко) – всяких хороших вещей, – и они прибыли благополучно в Фивы.
Тогда пошел Хонзу действующий фиванский, в храм Хонзу фиванского, доброго и дружелюбного, и положил подарки, которые поднес ему царь Бахатаны, – всяких хороших вещей – пред Хонзу фиванским, добрым и дружелюбным: ничего из них не удержал он для своего дома (еще бы! После подуванили все между собой – и «мудрый разумом и пальцами искусный в писании», и «Хонзу действующий», и «ученые из помещения священной науки и знающие внутренние тайны»…).
И возвратился Хонзу действующий благополучно в дом свой в год 33-й, в месяц мехир, в 13-й день царя Миамуна-Рамессу. Таковое случилось с ним, жизнь дающим, сегодня и в вечность».
Здесь кончается это в высшей степени интересное сказание, начертанное на камне в храме бога Хонзу в Фивах.
Но история египетского Шарко не кончается этим. Излечив царевну Бинт-Реш, изгнав из нее духа истерики, он силою внушения, вселил в юную девицу другого духа: барышня страстно влюбилась в своего исцелителя – в Хонзу действующего. Когда он оставил город Бахатана, бедная Бинт-Реш затосковала. Хонзу действующий постоянно являлся ей во сне, звал ее к себе. Отец ее видел, что любимица его страдает, сохнет. По некоторым намекам дочери он догадался, что в нее вселился дух Хонзу «действующего», и для спасения любимицы решил отправить ее с блестящею свитой к старшей своей дочери, к супруге фараона Рамзеса XII, в Фивы.
При свидании с сестрой Бинт-Реш поведала ей свою сердечную тайну.
– Он отнял дыхание у ноздрей моих, – плакалась влюбленная на груди старшей сестры. – Он унес с собою свет очей моих… Он взял мой сон и вместо него дал стенания груди моей.
А как известно, что все женщины – врожденные свахи, а египтянки и бахатанки были также женщины, то царица Нофрура быстро скрутила такого сердцееда, как Хонзу действующий, тем более что, хотя он принадлежал к высшему сословию жрецов, однако ему очень лестно было породниться с фараоном и с царем Бахатаны, взяв за себя хорошенькую, хотя и нервную барышню. С замужеством же нервность ее прошла окончательно, и она скоро подарила Хонзу действующему маленького, пузатенького Хонзу кричащего.
XIII
Жрец-сатирик
Наш бессмертный сатирик, М.Е. Салтыков- Щедрин, ввел в нашу историю бессмертные типы «господ ташкентцев». Выводя их на свет божий, автор «ташкентцев» говорит: «Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это в особенности чувствуется в эпохи, которые условно называют переходными…»
И в истории Египта были свои «ташкентцы». Был в Египте и сатирик, который вывел их на свет божий, пригвоздив к плитам говорящих камней или к свиткам папирусов. Сатирик этот был ученыйжрец и жил во время страшного завоевателя, фараона Рамзеса II Сезостриса, кровавые победы которого над народами Африки и Азии породили в египетском обществе, в особенности же среди богатой молодежи (из сословия не только «гаков» – князей, но и из жреческих каст и ученых) страсть к военным отличиям и наградам. В истории Египта это было также переходное время, и оно-то создало «египетский Ташкент» и египетских «господ ташкентцев». Дети жрецов и ученых, бросая свитки папирусов и учебные книги, к которым принадлежали и говорящие камни, поголовно лезли в могары, в витязи, попросту – в офицеры в современном смысле. Все стремилось на военную службу.
Против этой-то эпидемической военщины и выступил со своей беспощадной сатирой «мудрый разумом и пальцами искусный в писании» жрец Бокен-Хонзу. Под руководством этого мудреца находился один юный, из богатой семьи, если можно так выразиться, студент, юноша даровитый, но отчасти фатишка, то, что мы теперь называем «студент-белоподкладочник». Этот юноша и задумал вступить в ряды победоносных войск Рамзеса Сезостриса.
И вот Бокен-Хонзу, жалея юношу и ему подобных, рисует перед ним беспощадную картину сначала пехотного офицера-могара, а потом – кавалериста.
«Вот судьба пехотного могара, – прочли египтологи на известковых плитах в Курна, около Фив, и в знаменитых папирусах Anastasi, – его приводят в казарму… На пояснице и на голове его образуются гноящиеся язвы… Его бьют… Он идет в Сирию или делает экспедицию в страны более отдаленные… Хлеб его и вода его – на плече его, как ноша на осле. Спина его сломана. Он пьет тухлую воду и возвращается, чтобы стать на стражу. Ожидает ли он неприятеля, он уподобляется дрожащему гусю. Возвращается ли он в Египет, он подобен палке, изъеденной червями. Болен ли он, слег ли он – его увозят на осле; одежду его похищают воры, слуги его убегают…»
Не правда ли, картина жестокая… Офицер – весь в язвах: хороша гигиена и санитарная часть в войске Рамзеса!.. Офицера бьют… Как вьючное животное, он несет на себе и хлеб и воду – это египетские ранцы, от которых у храброго офицера «спина сломана»… Храброго? Нет, он похож на «дрожащего гуся», а возвращается в Египет похожим на «палку, изъеденную червями». Хорош офицер! Где уж тут покорять сердца пучеглазых египтянок, разных Аид и Хатазу «с розами на ланитах»!..
Но, может быть, кавалерийским офицерам лучше? Ничуть не бывало.
«Дай мне сказать тебе о тяжелых обязанностях могара на колеснице, – говорит Бокен-Хонзу голосом камней. – Когда его отец и его мать поместят его в школу, то из пяти рабов, имеющихся у него, он должен отдать двоих… Когда он кончил выправку, он идет выбирать себе упряжь в конюшнях в присутствии его величества. Когда он выбрал хороших кобыл, он радуется и скачет в свой город (показаться барышням). Не зная, что с ним случится, он завещает все свое имущество отцу и матери, потом увозит колесницу, которой дышло весом в три утен (не знаю, что за вес), между тем как колесница весит пять утен… Когда он хочет пуститься вскачь на колеснице своей, он принужден сойти и тащить ее (?!). Он поднимает ее, падает на пресмыкающееся, бросается в кусты, ноги его подвергаются укушению пресмыкающегося; пята его прокушена насквозь (?). Когда являются инспектировать его вещи, наступает верх его несчастья: его кладут на землю и дают ему сто ударов…»
Это уж чересчур! Офицера секут до ста ударов!.. А каково же было положение рядовых, простых воинов?..
Но это пока еще не сатира. Это только обратная сторона медали, на которой отчеканена картина военной жизни Египта во время Рамзеса Сезостриса. Этой картиной Бокен-Хонзу предостерегал своего ученика от погони за воинскими лаврами. Но ничто не помогало. Египетский Митрофанушка стоял на своем.
– Не хочу учиться, хочу на войне отличиться, – твердил он.
И вот он в войске Рамзеса. С невероятными усилиями войско достигает знаменитой крепости Кадеш, на реке Оронте. Следуют битвы, картинно описанные придворным поэтом фараона, Пентауром, в героической поэме, начертанной на стенах храма Амона. С полей битвы вести доходят и до Бокен-Хонзу, который узнает, что в битве на берегу Оронты кавалерия («колесничные») Рамзеса струсила и фараон чуть не попался в плен, хотя в поэме Пентаура он, Рамзес Сезострис, бессовестнейшим образом хвастается, говоря от своего имени:
«И ускорил я бег коней своих и бросился в середину враждебных полчищ, совершенно один – никого не было при мне. И, совершив это, я оглянулся и увидел, что окружен 2500 парами коней в колесницах, и путь мне прегражден лучшими витязями царя презренных хита (хеттеи) и всеми многочисленными народами, бывшими с ним… И стояли по три мужа на каждой парной колеснице, и все соединялись вместе… И ни один из моих князей, ни один из моих начальствующих над колесницами, ни один из моих военачальников, ни один из моих могар не был тут. Оставили меня мои воины и мои колесницы – никого не было из них тут, чтобы принять участие в бою… Но я сделался подобным богу Монту. Я бросал стрелы правою и сражался левою. Я был как Ваал пред лицом их. Я был в середине их, и они были разбиты вдребезги перед конями моими. Ни один не подвинул руки своей, чтобы сразиться; мужество их упало в груди их; члены их ослабели – не могли они метать стрелы, не нашли они в себе храбрости поднять копье! Я заставил их упасть в воду, как падают в нее крокодилы. Они упали на лица свои один за другим. Я убивал их по произволению, так что ни один из них не оглянулся, никто не обернулся. Каждый, кто падал, не поднимался более: укоротилось дыхание ноздрей их…»
Каков храбрец!
Об этом эпизоде войны и о многих других вести доходили до Бокен-Хонзу – и вот начал хлестать бич его сатиры по спине воинственного ученика, злополучного «могарика» по имени Хираму. Я привожу только отрывки в форме послания к этому Хираму.
«Поясни мне вкус быть могаром, – пишет Бокен-Хонзу. – Пусть наполнится ухо твое тем, что я буду говорить тебе. – Вас побили презренные хита. Колесница твоя лежит перед тобою. Сила твоя истощилась к вечеру. Все члены твои размолоты, кости твои разбиты… Ты засыпаешь – сладок сон. Для вора в эту несчастную ночь настало удобное время. Ты один. Ночь так темна, что ты думаешь – в темноте брат брата не узнает. Приходит вор – твоя одежда украдена. Лошади твои бьются от испуга. Твой лошадиный прислужник просыпается, замечает, что случилось, забирает остальное и уходит к злодеям».
В другом месте, описывая трудности похода по горам Сирии, сатирик-жрец говорит Хираму:
«Виси над бездной, на скользкой высоте, при глубине под тобою двух тысяч локтей обрыва, полного обломков скал и мелких камней. Ты подвигаешься вперед зигзагами; ты несешь лук, ты берешь в левую руку железо (меч). Враги, старцы, видят, – если глаза их хороши, – как ты в изнеможении опираешься на руку свою. “Пропал, – говорят они, – верблюд-могар…” Враги сидят, спрятавшись в ущелье. Носы их касаются подошв их. Со взглядом свирепым, лишенные всякой кротости, они не станут играть с тобой… Ты один. Нет сильного при тебе. Ты не знаешь дороги. Волосы на голове твоей подымаются дыбом и стоят торчком. Душа твоя – на ладони твоей (то есть в пятках). Тропа полна обломков скал и камней. Вблизи нет обхода. Путь оброс терном, и репейником, и волчцом, и колючими растениями. С одной стороны у тебя пропасть, а с другой – гора и отвесная стена скалы. А ты должен тут следовать. Колесница, на которой ты стоишь, подскакивает. Ты заботишься о сохранении твоих лошадей. Если колесница упадет в пропасть, то и ты с нею. Снимаются твои тяжи и сваливаются. Ты спутываешь железами лошадей, потому что сломалось дышло на тропе узкого прохода. Бросается и ось. Мужество твое испаряется. Ты начинаешь бежать рысцой. Небо знойно; ты томишься жаждой, – а враги за тобой. Тобою овладевает дрожание… Нет тебе покоя…» И сатирик восклицает: «Поясни мне вкус – быть могаром!»
Но вот после всех ужасов злополучный выбрался из горных дебрей, с трудом спас свою голову и, ободранный, больной, с одним только поясом (а в поясе зашито все его богатство – золото), достиг, наконец, города Иопы (ныне Яффа). Здесь он снова экипировался, привел в порядок колесницу и упряжь. Но молодца ждут новые приключения – и комические и трагические.
Иопа и при Рамзесе отличалась своими садами. И теперь она вся в апельсинных и финиковых рощах, огороженных стенами колючих гигантских кактусов, сквозь которые пробираются только юркие ящерицы. Финики соблазняют египетского кавалергарда, и он хочет стянуть несколько зрелых гроздьев. Но сад стережет хорошенькая хита (филистимлянка)… Впрочем, пусть говорит за себя сатирик-жрец:
«Ты проделываешь отверстие в изгороди, чтобы достать плодов. Ты раскрываешь отверстие рта твоего, чтобы есть. Ты находишь, что девушка, которая сторожит сад, красива. Но тебя увидели (попался кавалер!)… Тебя допрашивают… Твой пояс сослуживает тебе службу: ты отдаешь его, как цену за дрянные лоскутики».
Увы, кавалер обобран почти до нитки. Но у него остаются еще доспехи и колесница. Однако и это скоро исчезает.
«Ночью ты спишь, прикрывшись куском меха, – продолжает сатирик. – Ты спишь крепко, так как ты устал. Вор берет твой лук и меч, лежащие близ тебя. Колчан твой с ремнями и доспехи твои в темноте изрезаны. Двухконная упряжь твоя уходит. Твой конюх направляет ее по скользкому пути, подымающемуся в гору. Он разбивает в куски твою колесницу, следуя по твоим стопам. Он находит твои принадлежности (?), которые упали на землю и зарылись в песке. Он делается пустым местом (то есть слуга улепетывает: вместо слуги – пустое место)…»
Я не могу передать содержания всей сатиры, всех ядовитых стрел, которыми осыпается злополучный египетский воин… Злой жрец торжествует: его непослушный питомец, мечтавший о военных лаврах, возвращается в Фивы, изображая собою «палку, изъеденную червями»… Один глаз у него выбит стрелой, нога сломана… правая рука ампутирована…