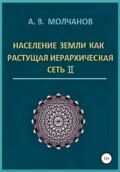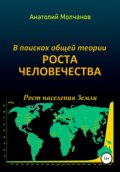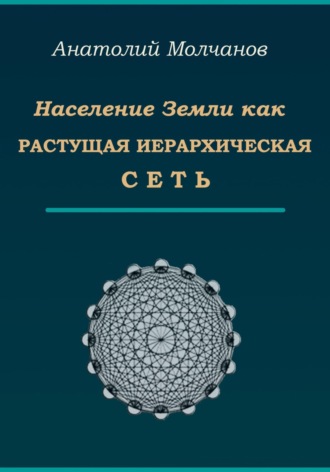
Анатолий Васильевич Молчанов
Население Земли как растущая иерархическая сеть
Так, в рамках теории суперструн каждая элементарная частица, существующая в трехмерном пространстве и имеющая как «точечный объект» нуль измерений, рассматривается как струна, т. е. как объект, имеющий одно измерение и существующий в пространстве десяти измерений. И хотя семь из этих десяти измерений считаются свернутыми (т. е. имеющими микроскопические размеры), их протяженность, тем не менее не равна нулю, и, следовательно, предполагается их существование в реальности. Принцип «-∞-» здесь нарушается дважды:
Увеличение на единицу числа измерений такого фундаментального «точечного» объекта, каким является элементарная частица, равносильно введению в описание бесконечного множества таких объектов, поскольку линия в пространстве – это совокупность точек. То же самое можно сказать про введение семи дополнительных пространственных измерений как бесконечного расширения наблюдаемого трехмерного пространства.
Это очень старая история, которая началась еще с теории Калуцы-Клейна. Такой подход, несмотря на всю его кажущуюся эстетическую привлекательность и чисто математические достижения, никогда не давал никаких практических результатов.
Действительно, с помощью теории струн не удалось обнаружить ни одного нового явления: она, например, не смогла предсказать ускорения расширения Вселенной и существование темной материи. Все это подробно описано в книге Ли Смолина «Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и что за этим следует».
Теория Калуцы-Клейна, оказавшаяся тупиковой ветвью теоретической физики, была получена путем расширения четырехмерного пространства Минковского до пяти измерений. Само же введение пространства Минковского, позволившее дать наглядную интерпретацию пространству-времени специальной теории относительности, имело также и негативные последствия.
Дело в том, что пространство это является чисто математической абстракцией, и время как таковое присутствует в нем в виде полностью наличествующей бесконечной протяженности. Что способно привести к следующему заблуждению: мировая линия движущегося объекта в теории относительности может быть интерпретирована не как математическая абстракция (удобный способ описания), а как реально существующая кривая в реально существующем пространстве Минковского.
Такая актуализация потенциально бесконечной последовательности фиксированных моментов времени – замена их на мировую линию – приводит к полному изгнанию времени из физики. (История этого изгнания и связанный с ним кризис самой фундаментальной из наук подробно описаны в другой книге Ли Смолина: «Возвращение времени». См. также статью В.А. Котова «Сто лет мимо времени». [41])
Не будем забывать также о том, что не потенциальная вовсе, а актуальная бесконечность канторовской теории множеств привела математику к целому ряду неразрешимых противоречий и ввергла ее основания в вяло текущий кризис.
Кроме того, следует учитывать и то, что специальная теория относительности – всего лишь модель, описывающая реальность на определенных масштабах длительности и протяженности. На значительных, а тем более на Вселенских масштабах и при учете гравитации она должна быть заменена на общую теорию относительности, которая тоже не более, чем модель, непригодная для описания микромира, сингулярности Большого взрыва, черных дыр и универсальной эволюции.
Что же касается времени, то аналогия его с каждым из трех пространственных измерений – более чем поверхностная. Действительно, если бы мы захотели в некотором приближении эмулировать эволюцию нашей Вселенной с помощью воображаемого сверхмощного компьютера, то подсчет массивов данных по пространственным координатам и по времени – различался бы качественно.
Движение и взаимодействие частиц в дискретном пространстве трех измерений наш воображаемый компьютер, эмулирующий эволюцию Вселенной, должен был бы обрабатывать параллельно (псевдопараллельно), продвигаясь в рекуррентных вычислениях шаг за шагом от предшествующего временного среза к последующему в абсолютном дискретном времени и в системе координат, покоящейся относительно микроволнового фонового излучения.
Наша Вселенная представляла бы при таком моделировании единый, целостный объект, с локально взаимодействующими в полях четырех фундаментальных сил, частями. И, кроме того, ее эволюция определялась бы также и нелокальным взаимодействием, обусловленным изначальным «единством» всех этих частей, возникшем еще в момент Большого взрыва – точке «Альфа» ее эволюции.
Качественное отличие пространства от времени при таком моделировании заключается в том, что движение и взаимодействие частиц в пространстве программа эмуляции обрабатывает параллельно, а во времени – последовательно. При этом в пределе, при бесконечном расширении пространственно-временных границ Вселенной, пространство оказывается бесконечным актуально, а время, при учете конечности скорости распространения взаимодействий, – потенциально.
Но и это еще не все: наша Вселенная в каждой из своих частей по непонятным с точки зрения физики причинам эволюционирует от простого к сложному, причем эволюционирует во все ускоряющемся темпе, и время в ней, в отличие от пространства, не является в этом (а не в физическом) смысле однородным – оно «ускоряется», «сжимается». По всем этим причинам понятие мировой линии СТО для нашего эволюционирующего мира представляется совершенно неприемлемой идеализацией.
В заключение приведем без всяких сокращений заметку физика-космолога Макса Тегмарка из Массачусетского технологического института, которая является по сути формулировкой принципа «-∞-»:
«Бесконечность пленила мое воображение еще в юности. Диагональное доказательство Кантора, показавшее, что некоторые бесконечности больше других, заинтриговало меня, а его бесконечная иерархия бесконечностей взорвала мой ум. Предположение о том, что в природе существуют бесконечные множества лежит в основе каждого курса физики, которые я читал в МТИ и в основе всей современной физики. Но проверить это предположение, узнать так ли это на самом деле, – невозможно.
В действительности имеются два отдельных предположения: предположение о существовании бесконечно большого и предположение о существование бесконечно малого. Под бесконечно большим я имею в виду, например, то, что пространство может иметь бесконечный объем, что время может длиться вечно, что может существовать бесконечное число физических объектов.
Под бесконечно малым я понимаю континуум, суть которого в том, что даже литр пространства содержит бесконечное множество точек, что пространство может бесконечно растягиваться без какого-либо изменения своих свойств. Оба эти предположения связаны между собой, поскольку теория инфляции – самое общепринятое объяснение Большого взрыва – может создавать бесконечный объем, бесконечно растягивая конечное пространство.
Теория инфляции имела огромный успех и стала главным претендентом на Нобелевскую премию. Она объясняет, как некая субатомная частица материи трансформировалась в Большой взрыв, создав громадную, однородную, единообразную вселенную с мелкими флюктуациями плотности, которые со временем выросли в сегодняшние галактики и крупномасштабную космическую структуру, – причем всё это согласуется с экспериментальными измерениями, полученными с помощью таких приборов, как Planck и BICEP2.
Но, утверждая, что физическое пространство не просто огромно, а в теории бесконечно, инфляция породила и так называемую проблему измерения, которую я рассматриваю как величайший кризис современной физики. Физика должна предсказывать будущее, но теория инфляции, похоже, неспособна на это. Когда мы хотим найти вероятность какого-то события в будущем, теория инфляция всегда дает один и тот же бесполезный ответ: бесконечность, деленная на бесконечность.» «…»
«…Проблема в том, что, какой бы эксперимент мы ни проводили, теория инфляции утверждает, что где-то далеко в бесконечном пространстве существует множество наших копий, которые получат все физически возможные результаты. И несмотря на многолетние споры и зубовный скрежет в космологическом сообществе, оно так и не пришло к консенсусу по поводу того, как добыть из этих бесконечностей разумные ответы.
Так что, строго говоря, мы, физики, больше вообще ничего не можем предсказать! Это означает, что даже лучшие сегодняшние теории нужно хорошенько встряхнуть, чтобы отправить на покой некоторое некорректное предположение. Которое? Вот мой главный подозреваемый: ∞. Резиновую ленту нельзя растягивать до бесконечности, потому что, хотя она и кажется такой мягкой и податливой, это всего лишь удобное приближение.
На самом деле она сделана из атомов, и, если ее слишком растянуть, она лопнет. Если мы сходным образом избавимся от идеи, что само пространство – это бесконечно растягиваемый континуум, то с треском лопнет и способность инфляции создавать бесконечно большое пространство, и проблема измерения отпадет сама собой.
Без бесконечно малого инфляция не может порождать и бесконечно большого, так что вы разом избавляетесь от обеих бесконечностей – а с ними и от многих других проблем, изнуряющих современную физику, таких как бесконечная плотность сингулярностей черных дыр, а также бесконечностей, которые возникают, когда мы пытаемся квантовать гравитацию.
В прошлом многие почтенные математики скептически относились к бесконечности и континууму. Великий Карл Фридрих Гаусс вообще отрицал, что нечто бесконечное действительно существует, и говорил: „Бесконечность – это просто фигура речи“ и „Я возражаю против использования бесконечной величины как чего-то завершенного, что недопустимо в математике“.
Однако за последнее столетие идея бесконечности стала доминировать в математике, и большинство математиков и физиков настолько привыкли к бесконечности, что редко задумываются о правомерности применения этого понятия. Почему? В основном потому, что бесконечность – это исключительно удобное приближение, для которого мы не нашли столь же удобных альтернатив. Подумайте, например, о воздухе, окружающем вас. Отслеживать положение и скорость октиллионов атомов, из которых он состоит, было бы безнадежно сложно.
Но если вы приближенно представите его в виде континуума, в каждой точке имеющего определенную плотность, давление и скорость, – то обнаружите, что этот идеальный воздух подчиняется прекрасному в своей простоте уравнению, объясняющему почти всё, что нас интересует, а именно: как правильно проектировать самолеты, как распространяются звуковые волны, как делать прогноз погоды и так далее.
Однако, несмотря на все эти удобства, воздух, конечно же, не непрерывен. Думаю, это относится и к пространству, ко времени и ко всем другим строительным блокам нашего физического мира. Не будем себя обманывать: несмотря на всю соблазнительность идеи бесконечности, у нас нет прямого наблюдаемого свидетельства существования ни бесконечно большого, ни бесконечно малого. Мы говорим о бесконечных пространствах с бесконечным множеством планет, но наша наблюдаемая вселенная содержит всего около 1089 объектов (в основном фотонов).
Если пространство действительно является континуумом, то для описания даже такой простой вещи, как расстояние между двумя точками, потребуется бесконечный объем информации, выраженный числом с бесконечным числом десятичных знаков. На самом же деле нам, физикам, никогда не удавалось что-либо измерить точнее семнадцати десятичных знаков.
Однако мы пользуемся действительными числами с их бесконечным числом десятичных знаков для описания почти всех законов физики: от силы электромагнитных полей до волновых функций квантовой механики. Даже для описания одного бита квантовой информации (кубита) мы используем два действительных числа с бесконечным количеством значащих цифр.
Но нужно ли вообще доказывать существование бесконечности в этой вселенной? На самом деле она нам совсем не требуется для того, чтобы заниматься физикой. Наши лучшие компьютерные модели, описывающие всё – от формирования галактик до завтрашней погоды и массы элементарных частиц, – используют лишь конечные компьютерные ресурсы и исходят из того, что все явления конечны.
И уж если мы можем обойтись без бесконечности, чтобы предсказать будущее, то природа и подавно – причем сделает это гораздо более глубоким и элегантным способом, чем мы со всеми своими уравнениями и компьютерным моделированием. Перед нами как физиками стоит задача открыть этот элегантный путь и описывающие его свободные от бесконечности уравнения – подлинные законы физики. Чтобы по-настоящему взяться за такой поиск, надо ответить на вопрос: а нужна ли нам для этого бесконечность? Держу пари, что придется избавиться от нее» [43].
* * *
Подводя черту, отметим, что во всех случаях, когда в естественных науках появляется бесконечность – это говорит о том, что мы не понимаем чего-то очень важного, ключевого. Попытки использовать классическую математическую бесконечность: актуальную или потенциальную при описании реально существующих материальных объектов или процессов – никогда не приносят плодов.
То же относится и к величинам «почти» бесконечно большим/малым, т. е. к очень большим или очень малым, в определенном нами смысле, величинам. Принцип «-∞-» как минимум эвристическая позиция и его нарушение в какой-либо работе, научной или научно-популярной, есть нарушение правил «хорошего тона». И как максимум, в отличие от принципа Оккама, который «срабатывает» далеко не всегда, принцип «-∞-» не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах.
Финализм в эволюционной биологии
В этой главе мы кратко опишем главные черты финализма в теориях биологической эволюции в основном по книгам В.И. Назарова (1933–2007) «Финализм в современном эволюционном учении» и «Эволюция не по Дарвину: Смена эволюционной модели».
Сам финализм не может считаться каким-то учением, претендующим на полное описание биологической эволюции, т. к. базируется на предметной основе различных эволюционных направлений. Сторонников финалистической трактовки биологической эволюции мы встречаем среди представителей неоламаркизма, номогенеза, сальтационизма, генетического антидарвинизма, организмизма и других течений.
Целенаправленность, выходящая за рамки адаптации к существующим условиям жизни и направляющая эволюцию к некой абстрактной, нематериальной цели, которая провозглашается главной причиной эволюции, является отличительным признаком любой финалистической теории.
Идеальный результат развития, эволюции выступает в этом случае в качестве причины развития. Т. к. момент детерминации расположен позднее во времени того момента, когда происходит детерминированное событие, то здесь мы имеем дело с постдетерминацией.
Если этот идеальный результат может быть достижим и достигается различными путями, то такую гибкость процесса развития, эволюции называют эквифинальностью.
Еще одним отличительным признаком финалистической теории можно считать наличие в ней некоего духовного начала, подчиняющего себе обычные причинно-следственные связи и ведущего эволюцию к предначертанной цели. Происхождение и механизм действия этого духовного начала обычно никак не объясняется.
Русского естествоиспытателя, основателя эмбриологии Карла Бэра (1792−1876) почти единодушно считают также и основателем телеологического направления в финализме. По его мнению (1836, 1876), органический мир и Вселенная в целом есть результат прогрессивного развития, охватывающего всю материю.
Бэр рассматривал эволюцию как прогрессивный процесс восхождения от простого к сложному. Конечной целью эволюции, по Бэру, является возникновение человека, призванного взять на себя заботу о духовном прогрессе, а причиной этого возникновения служит единое духовное начало, Творец всех законов природы.
* * *
Открытие немецкого эмбриолога Ганса Дриша (1867−1941) определило еще один очень важный критерий финализма – эквифинальность. Наблюдая за развитием яиц морских ежей, Дриш установил следующий факт: при искусственном отделении бластомеров после первого, второго и третьего деления из каждого изолированного бластомера развивался полноценный организм. Иначе говоря, небольшие по размеру, но целые организмы развивались после удаления любых одной, двух или трех клеток эмбриона на двух или четырех-клеточной стадии. И напротив: после слияния двух молодых эмбрионов в итоге вырастал один гигантский морской еж.
Подобные опыты показывают, что растущая система при движении к своей морфологической цели обладает неким базовым свойством, позволяющим ей (возможно с некоторыми издержками) этой цели достичь даже при удалении ее частей и создании препятствий для нормального развития.
Таким образом, была открыта новая форма целесообразности: способность достижения конечного результата различными путями при любых начальных и внешних условиях, названная эквифинальностью.
Для объяснения этого замечательного явления Дриш прибег к понятию аристотелевской энтелехии, которую наделил сверхчувственной несубстанциональной природой (1908−1909 гг.). Он называл ее непознаваемым психическим началом, ориентирующим индивидуальное развитие организма на достижение целостного и гармоничного состояния. Последователи Дриша распространили власть энтелехии на всю эволюцию.
* * *
Финализм ХХ века характеризуется, прежде всего, возникновением гипотезы антислучайности. Ее авторами были французский зоолог Люсьен Кено (1866−1951) и швейцарский генетик и математик Эмиль Гийено (1885−1963).
Кено в своих работах обращает внимание на совершенство адаптаций животных и растений, на их тонкие коадаптации, которые стали его главными аргументами в пользу финалистичности эволюции. Решающую роль в переходе Кено на позицию финализма сыграло исследование образования мозолистых затвердений на запястье африканской свиньи бородавочника.
Из того факта, что мозоль на коленях, на которые опускается животное в поисках пищи, имеется уже у зародыша, следует, что некая крупная мутация одновременно произвела могучую морду бородавочника, нужное строение передних конечностей с мозолями и инстинкт добывания пищи.
Эта крупная мутация, которая не могла быть случайной (по расчетам Гийено ее вероятность ничтожно мала), была вызвана, согласно представлениям Кено, актом «зародышевой изобретательности», имманентной всему живому.
Следуя за Шопенгауэром, Дришем и Бергсоном, Кено и Гийено считали «зародышевую изобретательность», лежащую в основе финальности, фактором психической природы эквивалентным человеческому сознанию, а осуществляемые ею изменения – аналогом сознательной человеческой деятельности.
Этот фактор, по их мнению, локализован в оплодотворенной яйцеклетке, где преформированы все признаки организма. По мнению Кено, «зародышевая изобретательность» является направляющим агентом эволюции, который имеет определенную связь с энтелехией Дриша и жизненным порывом Бергсона.
В 1911 году Кено ввел термин преадапта́ция, под которым понимал такую особенность организма, которая возникает случайно, первоначально не имеет или имеет низкое адаптивное значение и только в дальнейшем путем эволюции приобретает некую приспособительную ценность.
В наше время под преадаптацией понимают такое вновь приобретенное свойство или приспособление организма, которое потенциально имеет адаптивную (приспособительную) ценность; и которое позволяет разрешить парадокс образования органов, конечная функция которых не имела первоначально приспособительной ценности.
Само явление преадаптации отрицать невозможно и его обычно признают без лишних рассуждений. Преадаптации наблюдаются в эволюции регулярно: любое сколько-нибудь сложное приспособление при ближайшем рассмотрении оказывается преадаптацией.
Дарвиновская теория эволюции объясняет преадаптацию тем, что многие органы и приспособления сформировались первоначально выполняя иные функции, отличные от тех, какими они стали на конечной стадии своего развития. В момент преадаптационного порога у органа появляется дополнительная функция, которая оказывается более ценной, чем первоначальная. А затем, путём естественного отбора, улучшается именно эта новая функция.
В действительности же, явление преадаптации полностью противоречит идее естественного отбора, поскольку, и тому есть многочисленные примеры, вновь приобретенные органы или особенности организма, потенциально полезные в дальнейшем, зачастую никакой пользы для него не представляют, а могут быть даже вредны. В качестве примера преадаптации российский ученый-эволюционист Ю.В. Чайковский приводит результаты исследования английским палеонтологом Дженнифер Клэк окаменелостей амфибии акантостега [62]:
«Акантостега имела конечности, оканчивающиеся пальцами, но эти ноги не были приспособлены для наземного существования. <…> Все меньше подтверждений находила гипотеза, согласно которой выход на сушу сопровождался формированием конечностей со ступнями. Напротив <…> конечности тетрапод сформировались тогда, когда они обитали в воде» [Клэк, 2006, с. 53, 54].
Конечности акантостеги сформировались в воде, т. е. тогда, когда они были для этой среды и для суши в первоначальном виде (из-за отсутствия голеностопного сустава) абсолютно бесполезны. Понадобились они эволюции лишь тогда, когда произошел ее выход на сушу. Чайковский отмечает, что это, по сути, номогенез, «о существовании которого ни сама Дж. Клэк, ни ее коллеги не знают».
Явление преадаптации является ярким примером финальности в биологической эволюции, недаром Кено связывал его с энтелехией, а физиолог-эволюционист А.Г. Зусмановский видел в нем проявление «принципа опережающего отражения действительности» [28].
Область господства финальности не ограничена по Кено онто и филогенезом, а простирается много дальше. Финальность органов, индивидов и видов может оказаться «всего лишь частицей более высокой финальности».
Ибо индивиды погибают, а виды вымирают после того, как эволюция «надежно позаботилась» об их замене новыми видами. Конечная, высшая финальность, по мнению Кено, состоит в сохранении жизни на Земле.
* * *
Рассмотрим теперь следующую отличительную черту финализма в эволюционной биологии: родство индивидуального и исторического развития. Важный аргумент в пользу единства онто и филогенеза состоит в том, что второй не может сделать и шага без изменения первого.
Авторитетный российский генетик Л.И. Корочкин (1935–2006) много лет выступал с аргументацией общности закономерностей индивидуального и исторического развития, основанной на единстве материала наследственности ДНК.
«Едва ли правильно думать, что развертывание заключенной в ДНК наследственной информации осуществляется в этих процессах принципиально различными способами…» – пишет Корочкин, и далее отмечает, что, если мы признаем целесообразность онтогенеза, то отсюда следует целесообразность эволюционного процесса, также «прописанного» в ДНК:
«Процесс онтогенеза не случаен, почему же тогда эволюция определяется случайными мутациями и идет неведомо куда по ненаправленному пути? Посмотрев внимательно на различные эволюционные ряды… поневоле начинаешь подозревать наличие предопределенного, как бы генетически запрограммированного в самой структуре ДНК (как и в случае индивидуального развития) филогенеза, как бы направленного по некоторому „преформированному“ каналу» [19].
В этом же духе высказывался Л.С. Берг и Ж. Моно. Эту же идею мы находим в книге Ф. Хойла «Математика эволюции», и в этом же духе сформулирована гипотеза М. Шермана об универсальном геноме.
Французский зоолог Альбер Вандель (1894−1980) видел это яснее других и считал, что ключевым значением для понимания эволюции являются эмбриологические исследования. Согласно убеждениям Ванделя, все эволюционные преобразования, вплоть до самых крупных, чаще всего рождаются на стадии яйцеклетки, и именно эмбриология, а не генетика и палеонтология, призвана проложить пути к разгадке тайны филогенеза.
В отличие от Кено, Вандель особо выделяет в макроэволюции ту восходящую линию, которая, породив бесчисленные отклонения, ведет от вируса к человеку. Рост сложности нервной системы, повышение психизма привели в апогее к появлению человека, что явилось, по мнению Ванделя, объективной целью эволюции.
Психофиналистическая трактовка эволюции позволила Ванделю предложить чисто антропоморфический метод изучения ее путей и направленности. Один из основных трудов Ванделя (1949, 1958) так и называется «Человек и эволюция».
Такой финалистический подход, в котором целью и финалом биологической эволюции является появление человека, разделяли с Ванделем И.Т. Фролов, М.Г. Макаров и Т.Я. Снут.
Петербургский философ Александр Болдачев обобщает такой взгляд на биологическую эволюцию как на прогрессивный процесс и вводит понятие авангардной системы универсальной эволюции.
Авангардная система эволюции по Болдачеву – это вид, клетка, нуклеиновые кислоты, ядра атомов, элементарные частицы… Т. е. эта та система, которая эволюционирует в данную эпоху, в качестве которой в настоящее время выступает человеческий социум:
«В каждый момент времени движения Мира эволюционирующей системой является верхняя, последняя по времени формирования, высшая по уровню развития ступень в иерархической лестнице… Для подчёркивания уникальности, выделенности эволюционирующей системы я ввёл термин „авангардная система“ или „авангард эволюции“…» «…»
«То есть можно сказать, что эволюция Мира реализуется возникновением принципиально новых определённостей в процессе функционирования авангардной системы. Каждая из систем предыдущих иерархических уровней была эволюционирующей, то есть авангардной, в момент своего становления…» «…»
«Эволюционно-новационные изменения в иерархических уровнях заканчивались с завершением соответствующих эволюционных этапов или, точнее, – с началом формирования нового уровня. Не появлялись новые физические взаимодействия, новые химические элементы (а если и можно говорить о таких явлениях, то только как о продуктах деятельности вышестоящей авангардной эволюционной системы).
Биологическая эволюция осуществлялась исключительно за счет прироста новых, высших по уровню классов, а не как непрерывная модификация имеющихся видов. Все биологические классы, виды, возникнув в момент своего нахождения на верхней ступени эволюции, в дальнейшем уже не претерпевали принципиальных (не адаптивных) модификаций.
Все изменения видов происходили и происходят сейчас либо в рамках уровня, определенного на момент их появления, либо вообще в направлении деградации (атрофирование органов, утеря некоторых способностей и т. д.)» [14].
Вандель различал два уровня сознания: видовой и индивидуальный. Под видовым сознанием он понимал организатор, управляющий активностью вида (или даже групп видов), лежащий в основе действия всех его особей.
Его главный критерий состоит в том, что отдельное животное не осознает смысла и значения своего существования и не имеет никакого представления о цели, которую преследует. Эта цель осуществляется им бессознательно.
* * *
Спустя пятьдесят лет после публикации работ Ванделя философский вопрос о существовании свободной воли у представителей вида Homo sapiens получил неожиданное решение.
Сотни экспериментальных работ психологов и нейрофизиологов доказали, что сознательный выбор не является причиной наших поступков и что наши поступки определяются бессознательными процессами в мозге, скрытыми от нашего сознания и происходящими задолго до появления ощущения принятого решения.
Один из ведущих специалистов в данной области, профессор психологии Гарвардского университета Даниэл Вегнер, обобщил имеющиеся экспериментальные данные в монографии «Иллюзия сознательной воли». (Daniel Wegner, «The Illusion of Conscious Will»). Автор приходит к выводу, что свобода воли – это иллюзия.
Свобода воли не является причиной наших действий, но сопутствует им так же, как сигнал разряженного аккумулятора на экране мобильного телефона сопутствует разрядке аккумулятора, но не является причиной разрядки. Это лишь ощущение, которое позволяет отличить действие, выполненное нами, от процессов, от нас не зависящих.
Это такое же ощущение, как и многие другие: от простых сигналов, идущих от органов чувств до мистических откровений, природа которых остается загадочной. Ощущение, возникающее по причине возбуждения определенных зон в головном мозге, и оно может не только сопутствовать какому-то нашему поступку (а не возникать по его причине), но и вообще быть ложным, т. е. не соответствовать никакой реальности.
Например, это могут быть ложные, «имплантированные» представления. Так, в ряде экспериментов, описанных Вегнером, люди после определенной «промывки мозгов» признавали свою вину за нажатие «неправильной» клавиши компьютера, которую они в действительности не нажимали. Это ощущение может и полностью отсутствовать, в то время как человек активно производил какие-то действия.
* * *
Идея антислучайности Кено получила свое продолжение не только в психобиологической теории Рюйе и идее авторегуляции Ванделя. Значительным событием как для сторонников дарвиновской теории эволюции, так и для ее противников стала написанная еще в 1986-м, а изданная лишь в 1999 году, книга известного британского астрофизика Фреда Хойла (1915–2001) – «Математика эволюции».
В которой он провел математическое исследование многочисленных проблем неодарвинизма. Большая часть книги состоит из скрупулезных вычислений, проведенных автором вокруг ключевых положений генетики популяций. В результате этих вычислений Хойлу удалось доказать полную несостоятельность дарвиновской теории эволюции:
«Приведенная здесь критика теории Дарвина непосредственно вытекает из моей убежденности в том, что эта теория неверна и что безоглядная приверженность ей есть препятствие на пути к открытию верной теории эволюции. Те, кто по социально-религиозным причинам противятся исправлению ошибок, играют на руку оппонентам».
В конце XX века в США появилась новая концепция, которую можно считать развитием идеи антислучайности, получившая название разумный замысел (Intelligent Design). Исследования последних десятилетий в области молекулярной биологии показали, что для того, чтобы сама по себе возникла даже самая простая клетка, должно было произойти невозможное количество случайных событий.
Толчком к возникновению новой концепции эволюции стала вышедшая в 1986 году в Лондоне книга австралийского микробиолога Майкла Дентона (Michael Denton): «Эволюция: Теория в состоянии кризиса» («Evolution: A Theory in Crisis»), нанесшая смертельный удар дарвиновской теории эволюции.