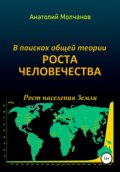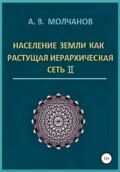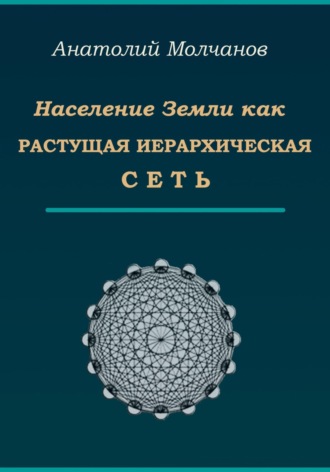
Анатолий Васильевич Молчанов
Население Земли как растущая иерархическая сеть
* * *
Хотелось бы обратить внимание на одну незамысловатую уловку, к которой прибегают некоторые авторы для того, чтобы «узаконить» появление уникальных событий с ничтожно малой вероятностью. Т. е. отрицающих принцип «-∞-» в его усиленной формулировке.
Так, профессор физики Калифорнийского университета Марк Перах, критикуя утверждение профессора биохимии Майкла Бихи, автора книги «Черный ящик Дарвина…», о чрезвычайно низкой вероятности появления систем неснижаемой сложности, предлагает полностью надуманную аргументацию:
«Если рассчитанная вероятность некоего события S равна 1/N, это означает, что при расчете предполагалось, что были равновозможны N различных событий, одно из которых было событием S. Если событие S не произошло, то не из-за его очень малой вероятности, а просто потому, что некое другое событие: Т, чья вероятность была столь же мала, как и у S, произошло взамен…
Если принять утверждение Бихи, что события, чья вероятность исчезающе мала, практически не происходят, то пришлось бы заключить, что ни одно из предположительно возможных N событий не может произойти, ибо все они имеют ту же самую крайне малую вероятность».
Ту же логику находим в статье «Правило Тициуса–Боде» на сайте «Элементы», где автор безуспешно пытается «демистифицировать» эмпирический закон расположения планетных орбит, открытый 250 лет назад:
«И как реагировать человеку, столкнувшемуся с такой „магией“ последовательности чисел? Я всегда рекомендую задающимся подобными вопросами придерживаться умного совета, который дал мне в свое время умудренный опытом преподаватель теории вероятностей и статистики. Он часто приводил пример поля для гольфа.
Предположим, – рассуждал он, – что мы задались целью рассчитать вероятность того, что шар для гольфа приземлится на точно заданную травинку. Такая вероятность будет практически нулевой. Но, после того, как мы ударили клюшкой по шару, шару ведь надо куда-то упасть. И рассуждать о том, почему шар упал именно на эту травинку, бессмысленно, поскольку, если бы он упал не на нее, он упал бы на одну из соседних.
Применительно к правилу Тициуса–Боде: шесть цифр, входящих в эту формулу и описывающих удаление планет от Солнца, можно уподобить шести шарам для гольфа. Представим себе вместо травинок всевозможные арифметические комбинации чисел, которые призваны дать результаты для расчета радиусов орбит. Из бесчисленного множества формул (а их можно насочинять даже больше, чем имеется травинок на поляне для гольфа) обязательно найдутся и такие, что по ним будут получены результаты, близкие к предсказываемым правилом Тициуса–Боде.
И то, что правильные предсказания дала именно их формула, а не чья-либо еще – не более чем игра случая, и к настоящей науке это „открытие“ отношения не имеет. В реальной жизни всё оказалось даже проще, и к статистическим доводам для опровержения правила Тициуса–Боде прибегать не пришлось.
Как это часто бывает, ложная теория была опровергнута новыми фактами, а именно открытием Нептуна и Плутона. Нептун обращается по очень неправильной, с точки зрения Тициуса–Боде, орбите (прогноз для его радиуса 38,8 а. е., в действительности – 30,1 а. е.). Что касается Плутона, то его орбита вообще лежит в плоскости, заметно отличающейся от орбит других планет, и характеризуется значительным эксцентриситетом, так что, само упражнение с применением правила становится бессмысленным».
В обоих приведенных примерах мы имеем дело с неповторимым, уникальным событием и для оценки его вероятности должны прибегнуть к классическому ее определению, поскольку статистическое и аксиоматическое определения вероятности здесь не работают.
Согласно которому вероятность события «А» есть отношение числа априори благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных, несовместных элементарных исходов, образующих полную группу.
В случае со жгутиковой бактерией цепь случайных событий (мутаций), приводящая к появлению у нее нанодвигателя, можно рассматривать как единый, неделимый акт приобретения, поскольку никакая часть этой цепи не дает бактерии дополнительного преимущества и не может быть закреплена отбором.
Такие марковские цепи в совокупности образуют множество исходов, благоприятствующих событию «А», исходов, имеющих выделенное, уникальное положение по отношению ко всем остальным; исходов, суммарное число которых ничтожно мало по сравнению с общим числом исходов, т. к. в каждом из них заключен большой объем «появившейся из ниоткуда» информации, адекватно отражающей свойства самой бактерии, среды ее обитания и включающей в себя алгоритм своего воспроизведения.
Поэтому ни один из них и не может быть осуществлен в реальности, т. к. принадлежит подмножеству, число элементов которого ничтожно мало по сравнению с числом элементов оставшегося множества, состоящего из деструктивных или бесполезных исходов. Вероятность любой цепочки мутаций, приводящая бактерию без жгутика к бактерии с работающим жгутиком, может быть настолько мала, что не хватит всех существующих ресурсов и времени существования Вселенной для того, чтобы такая цепочка могла когда-либо реализоваться.
Ошибка Марка Пераха заключается в том, что созидательные и деструктивные или бесполезные цепочки мутаций он не различает, в разные подмножества их не разносит, меру (объем) этих подмножеств не сравнивает, никакие ресурсы не подсчитывает, полагая, что их всегда вполне достаточно для любого события со сколь угодно малой вероятностью[103].
Что же касается утверждения о том, что планеты Солнечной системы заняли свои орбиты в соответствии с правилом Тициуса–Боде лишь по воле случая, то оно, как мы это сейчас покажем, «к настоящей науке никакого отношения не имеет». Действительно, как правильно отмечает автор, имеется бесчисленное множество числовых последовательностей (травинок на поле для гольфа), которые могли бы описывать расположение планетных орбит.
Но правило Тициуса–Боде задает с хорошей точностью не какую-то рядовую «травинку»: ничем не выделяющуюся среди прочих числовую последовательность. Оно определяет геометрическую прогрессию, состоящую из восьми членов (или арифметическую, если их прологарифмировать), т. е. самую простую (проще не бывает!) из всех изучаемых математикой последовательностей. Именно ее проходят в школе.
И знаменатель этой прогрессии, который мог бы иметь любое значение, оказывается равным двойке, т. е. самой простой из возможных (проще не бывает!) целочисленной величине. Можно ли в таком случае поверить в то, что члены этой прогрессии, восемь чисел: 0.33, 0.61, 1.13, 2.51, 4.81, 9.15, 18.83, 39.11 а.е. возникли лишь по воле случая?
Нетрудно показать, что вероятность такого события меньше, чем 10–4 (см. далее). Здесь мы также имеем дело с уникальным исходом. Но уникальным не своей, как в предыдущем примере, информационной, привязанной к реальному миру сложностью, а своей исключительной простотой, не получившей, несмотря на многочисленные попытки, естественнонаучного объяснения.
Исходом, который ни в коем случае не может быть приравнен никакому другому исходу, где закон формирования орбит более сложен или даже случаен. И появление которого, несомненно, противоречит принципу «-∞-».
Но «в реальной жизни всё оказалось даже проще», как снова правильно отмечает автор, и к статистическим доводам, подтверждающим невозможность объяснения правила Тициуса–Боде простой игрой случая, прибегать не пришлось, потому что выяснилось, что это правило в большинстве других планетарных систем выполняется даже лучше, чем в Солнечной[104].
Примеры ошибок, связанных с применением понятия бесконечность при описании совокупностей реального мира
Впервые проблемы с бесконечностью возникли еще у древнегреческих математиков. Особенно ярко они проявились в парадоксах Зенона, известных нам благодаря Аристотелю, который привел их в своей «Физике», чтобы подвергнуть критике. Апория «Ахиллес и черепаха» противостоит идее бесконечной делимости пространства и времени.
Ахиллес, соревнуясь в беге с черепахой, предоставляет ей фору: несколько метров, затем они стартуют. Пока Ахиллес пробежит расстояние до точки старта черепахи, последняя проползет немного дальше; расстояние между Ахиллесом и черепахой сократилось, но черепаха сохраняет преимущество.
Пока Ахиллес снова пробежит расстояние, отделяющее его от черепахи, черепаха проползет еще немного дальше и т. д. Т. к. пространство и время в античные времена считались бесконечно делимыми, а бесконечное число определенных таким образом этапов погони пройти невозможно, то отсюда следует непреложный вывод – Ахиллес никогда не догонит черепаху.
Этот парадокс не связан с понятием предела, неизвестного древним грекам, с их неумением просуммировать бесконечный сходящийся числовой ряд. Разгадка парадокса в том, что и время, и пространство, т. е. и длительность, и протяженность того мира, в котором мы существуем, нельзя считать бесконечно делимыми.
И актуальная бесконечность, заключенная в математических понятиях действительного числа и континуума, с неизбежностью приводит к потенциальной бесконечности натурального числового ряда, т. е. к бесконечной последовательности событий, не имеющей последнего члена и потому практически нереализуемой.
Эта апория учит нас тому, что применение без всяких оговорок (о том, что это всего лишь идеализация) понятий действительного числа и континуума при описании совокупностей реального мира – является ошибочным. Это относится, например, к пространственно-временному континууму теории относительности׃ из принципа «-∞-» с необходимостью вытекает дискретность пространства-времени. (Эйнштейн и сам незадолго до смерти пришел к выводу о том, что фундаментальная физика должна быть дискретной и ее описание должно быть сделано на языке алгебры и комбинаторики. [33])
Российский философ Годарев-Лозовский, напротив, считает, что бесконечная делимость (непрерывность) пространства и времени полностью согласуется с причинностью, ибо, по его мнению, эта непрерывность обладает тем преимуществом по сравнению с дискретностью, что не допускает наличия пустоты как внепричинной среды.
Возникающие при этом противоречия в виде апорий Зенона он объясняет тем, что перемещение-телепортация массы микрообъекта через бесконечную последовательность отрезков пути осуществляется по дискретной траектории вне времени! Что полностью противоречит принципу «-∞-»[105].
В книге А.Н. Вяльцева «Дискретное пространство-время» приводятся многочисленные аргументы в пользу концепции дискретной структуры пространства-времени. Главный вывод теории петлевой квантовой гравитации, в которой получает естественное объяснение Стандартная модель физики элементарных частиц, состоит в дискретности пространства-времени.
Очень популярна «Гипотеза структуры пространства» В.Ф. Шипицина, А.А. Живодерова и Л.Г. Горбич, согласно которой существует несколько пространственно-временных масштабных уровней, имеющих дискретную периодическую структуру. Причем различные искажения этой структуры интерпретируются в ней как вещество и физические поля. Предлагаемая гипотеза вводит в рассмотрение абсолютную систему отсчета (эфир, физический вакуум) и разрешает на качественном уровне большинство парадоксов современной физики: парадоксы теории относительности, корпускулярно-волновой дуализм, квантовые расходимости и другие.
* * *
Вероятно, первым, кто с успехом применил принцип «-∞-», был древнегреческий философ Демокрит. Если взять «сколь угодно острый» нож и разрезать яблоко на две части, затем то же повторить с его половинкой и т. д., то про этот процесс можно сказать следующее: либо он никогда не закончится (что противоречит принципу «-∞-», и поэтому этот вариант отбрасываем), либо существуют фундаментальные, далее неделимые частицы, из которых построены все предметы окружающего нас мира. Примерно так рассуждал Демокрит, делая свое замечательное открытие.
Древнегреческие философы признавали только потенциальную бесконечность; в первом веке до н. э. Лукреций в своей поэме «О природе вещей» доказывает от противного, что Вселенная бесконечна в пространстве. Предположим, что Вселенная конечна, значит, она должна иметь границу, заключает он.
Теперь, если некто приблизится к этой границе и бросит камень, то ничто не сможет его остановить, т. к. за границей Вселенной не существует никаких объектов. Продолжая процесс бросания камня, приходим к выводу, что Вселенная бесконечна.
Доказательство Лукреция, конечно же, ошибочно, т. к. Вселенная может быть конечной, но не иметь при этом никакой границы. Однако на протяжении многих столетий этот аргумент был решающим в споре о размерах Вселенной.
Так же считал и Ньютон, полагая, что пространство на самом деле бесконечно, а не просто неопределенно велико́. Он утверждал, что такую актуальную бесконечность можно понять, особенно из геометрических соображений, но осознать ее – невозможно.
Применив свой закон всемирного тяготения к бесконечной Вселенной, он пришел к выводу, что сближаясь под действием гравитационных сил, звезды должны притянуться и, в конце концов, упасть друг на друга. Этого не происходит, поскольку, по его мнению, звезд имеется бесконечное количество и распределены они равномерно по бесконечному пространству[106]. Но идея абсолютного, однородного, изотропного евклидова пространства, а также принцип дальнодействия, постулируемый Ньютоном, с неизбежностью приводят к противоречиям. Это мог понять и сам Ньютон, но лишь два столетия спустя, в 1871 году, Иоганн Цёлльнер доказал, что в любой точке бесконечной, однородной Вселенной сила тяготения становится бесконечной, не имеющей определённого направления.
В двадцатом веке было доказано, что невозможно построить бесконечную стационарную модель Вселенной, в которой гравитация создает только притягивающий эффект. А расширяющаяся, динамическая, не являющаяся бесконечной Вселенная – именно такова модель Вселенной в рамках теории Большого взрыва – дала полное объяснение парадоксу Цёлльнера.
Представление о бесконечно долгом существовании ньютоновской Вселенной во времени также приводит к противоречиям. Оно несовместимо со вторым началом термодинамики, теорией Большого взрыва и современной теорией звездообразования.
* * *
Еще один парадокс, связанный с представлением о бесконечности Вселенной, – это фотометрический парадокс Ольберса. Он заключается в следующем: если Вселенная бесконечна, однородна и стационарна, а в XIX веке астрономы в этом были уверены, то в небе в направлении луча зрения обязательно окажется какая-нибудь звезда.
Т. е. всё небо будет полностью заполнено светящимися точками звезд и должно ярко светиться. В реальности же, это не так: наблюдается черное небо с отдельными звездами на нем.
В XIX веке было предпринято множество попыток решить парадокс, но окончательное его решение было найдено лишь в ХХ столетии. Т. к. Вселенная расширяется в результате Большого взрыва, астрономы способны наблюдать лишь светящиеся объекты, удаленные от нас на расстояния, не превосходящие значение космологического горизонта. Свет от объектов, находящихся за горизонтом событий, где хаббловская скорость удаления галактик больше скорости света, не может доходить до наблюдателя.
Поэтому число звезд на ночном небе, хотя и огромно, но конечно, и потому не по каждому направлению наблюдения мы видим звезду. Кроме того, мы знаем, что звезды не вечны: со временем они умирают и перестают излучать свет, а красное смещение уменьшает энергию фотонов, приходящих от далеких галактик.
Но главная причина – это конечность Вселенной в пространстве и во времени. Иначе говоря, отказ от применения актуальной бесконечности («-∞-») позволил бы сразу решить парадокс.
* * *
Представления о бесконечном существовании Вселенной во времени, неисчерпаемости объектов познания привели Канта к агностическому выводу (ошибочному выводу!) о том, что мир, как целое, непознаваем[107].
Такая Вселенная порождает возможность бесконечного числа случайных событий. В ней становится возможным все, даже самое невероятное, например, то, что атомы самопроизвольно объединятся в человека.
* * *
Французский математик и философ Блез Паскаль испытал в 1654 году состояние транса, когда в течение двух часов, как он впоследствии писал, Господь наставил его на путь истинный[108].
После чего стал совершенно другим человеком. Он продал все свое имущество, оставил себе только Библию, перестал общаться с друзьями, называя их «отвратительными привязанностями»; деньги раздал беднякам, оставив себе такие крохи, что вынужден был занимать и просить милостыню.
Бросил заниматься математикой и наукой вообще, но отнюдь не бездействовал. Свое прикосновение к Богу он описал в книге «Мысли о религии и других предметах», которая до сих пор переиздается. На страницах этой книги Паскаль изложил аргументы «за» и «против» веры в Бога на языке теории вероятностей[109].
Допустим, производится опыт с несколькими исходами, вероятности которых известны, а сами эти исходы образуют полную группу. Причем с каждым таким исходом связано значение некоторой величины, например, это может быть сумма денежного выигрыша. Тогда математическое ожидание величины выигрыша равно сумме произведений условных вероятностей на условный выигрыш. Пари Паскаля – это предложенный им аргумент для демонстрации рациональности религиозной веры.
Мы не знаем наверняка существует ли всемогущий бесконечный Бог, рассуждал Паскаль. Предположим, что вероятности того, что Бог есть или, что его нет – одинаковы и равны 0,5. (Можно взять другие значения – это не повлияет на результат.) На что «выгоднее» делать жизненную ставку: на религию или на атеизм? Какая игровая стратегия будет выигрышной?
Первая стратегия – ставка на атеизм. Если Бога не существует (P = 0,5), можно будет сэкономить на постах, обрядах, пожертвованиях и т. д., и это будет некоторый конечный положительный вклад в сумму математического ожидания благ от первой стратегии.
Но если Бог все же существует (P = 0,5), то за жизнь без веры наш «проигрыш» будет бесконечно велик: ад и вечные муки. Вклад второго члена в сумму математического ожидания «благ» будет отрицателен и равен -∞. Складывая произведения условных вероятностей на условный выигрыш, получаем -∞.
Вторая стратегия – ставка на веру. Если Бога не существует (P = 0,5), имеем конечный отрицательный вклад в математическое ожидание возможных «благ» по причине растраты средств, времени и здоровья на посты, обряды и пожертвования. Но зато, если Бог существует (P = 0,5), «выигрыш» будет положителен и бесконечно велик: спасение души и вечная жизнь. Складывая произведения условных вероятностей на условный выигрыш, получаем +∞.
Отсюда Паскаль делает вывод о том, что вторая стратегия предпочтительнее, поскольку позволяет приобрести не перекрываемое никакими конечными издержками бесконечное благо. Предположение о существовании бесконечного, всемогущего Бога с неизбежностью приводит к рациональному выводу о «выгоде» веры в такого Бога. Если же исходить из принципа «-∞-» – аргументы Паскаля следует признать несостоятельными.
* * *
Исходя из принципа «-∞-» можно сразу же забраковать ленинский тезис о неисчерпаемости материи: «Электрон так же неисчерпаем, как атом, природа бесконечна…»[110]. Число уровней организации материи в микромире не может быть бесконечным, а значит, существует и самый нижний уровень (и действительно «элементарные», бесструктурные, «математические» частицы, как некий набор чисел, матрица их свойств), добраться до которого познающему субъекту, возможно, так никогда и не удастся.
* * *
В книге «Наука и метод», в главе «Случайность», Анри Пуанкаре описывает бесконечно долгий рост энтропии Вселенной. По его мнению, для «весьма малых» величин не существует предела малости: «Таким образом, понятие о весьма малом, все-таки остается относительным». И в реальности, исходя из его логики, могут быть реализованы сколь угодно малые величины.
Второе начало термодинамики, практическая непрерывность кривой распределения вероятности, слабые колебания ее кривизны с тенденцией к спрямлению приводят Пуанкаре к неизбежному и ошибочному выводу о бесконечно долгом движении мира к однородному состоянию тепловой смерти, возврат из которого невозможен (выделено мной. – А.М.):
«Что означает слово „весьма малый“? Чтобы уяснить его себе, нужно обратиться к тому, что мы сказали выше. Разница весьма мала, интервал весьма мал, если в пределах этого интервала вероятность остается приблизительно постоянной. Но почему же эта вероятность может считаться постоянной в таком небольшом интервале? Именно потому, что мы допускаем, что закон вероятности выражается непрерывной кривой и притом непрерывной не только в аналитическом смысле этого слова, но и практически, как я это старался выяснить выше.
Что же дает нам право делать такое предположение? Как было сказано выше, это происходит оттого, что с начала веков имеются сложные причины, неизменно действующие в одном и том же смысле и постоянно направляющие мир к однородному состоянию, возврат от которого для него невозможен. Эти именно причины мало-помалу отбили выступы и заполнили впадины, и по этой-то причине наши кривые вероятности имеют лишь слабые колебания. Через миллиарды миллиардов веков мы сделаем еще шаг вперед по направлению к единообразию, и эти колебания сделаются еще в десять раз медленнее.
Радиус средней кривизны нашей кривой сделается в десять раз больше. И тогда длина, которая сейчас не представляется для нас очень малой, так как на нашей кривой дуга такой длины не может считаться прямолинейной, будет в ту эпоху признана весьма малой, ибо кривизна уменьшится в десять раз и дуга такой длины может быть в доступных нам пределах уподоблена прямой. Таким образом, понятие о весьма малом все-таки остается относительным; но относительным оно оказывается не по отношению к тому или иному лицу, а по отношению к настоящему состоянию мира.
Оно изменит смысл, когда мир станет более единообразным, когда все еще больше смешается, но тогда, несомненно, люди уже не смогут больше жить и должны будут уступить место другим существам, более крупным или более мелким – могу ли я это предсказать? Таким образом, наш критерий остается справедливым для всех людей, и в этом смысле он должен быть признан объективным» А. Пуанкаре, «Наука и метод».
Здесь им четко обозначены как актуальная бесконечность используемого на практике действительного числа, так и потенциальная бесконечность неограниченного во времени роста энтропии.
* * *
Представление об инфинитности, бесконечности Вселенной, господствовавшее в первой половине прошлого века, не позволило создателю учения о ноосфере В.И. Вернадскому расширить его действие на Солнечную систему, Галактику. (Теории Большого взрыва тогда еще не было.)
Идея стационарности и бесконечности мира с неизбежным выводом: «бесконечное не может иметь истории» противоречила идее универсальной эволюции. Поэтому Вернадскому пришлось признать, что эволюция жизни и разума на Земле есть не более чем локальная флуктуация, обреченная на то, чтобы раствориться, подобно океанской волне в бесконечной Вселенной, которая не менялась и «не будет меняться с течением времени». (Вернадский 1978: 136)
* * *
Среди ученых идея конечности существования Вселенной во времени вызывала сопротивление даже в середине ХХ века. Британский космолог Артур Эддинггон ясно выразил свои чувства:
«С философской точки зрения идея начала настоящего порядка в природе противоречива… Мне бы хотелось отыскать в ней какое-нибудь слабое место. Мы должны дать эволюции бесконечное время для того, чтобы она началась» [33].
В 1948 году американский физик Георгий Гамов (выходец из Советской России) вместе со своими учениками Р. Альфером и Р. Херманом на основе модели расширяющейся Вселенной Фридмана предложили теорию горячей Вселенной (теорию Большого взрыва). В том же году три британских астрофизика: Г. Бонди, Т. Голд и Ф. Хойл в противовес его работе опубликовали теорию стационарной Вселенной.
В их модели расширяющейся, но не имеющей своего начала Вселенной, возникновение материи из ничего объявлялось непрерывно действующим законом природы. (Принцип «-∞-» нарушается здесь дважды: первая бесконечность – это бесконечность существования не имеющей начала Вселенной во времени; вторая появляется в каждом акте творения атома водорода из «пустоты», когда конечное возникает из бесконечно малого.)
Но победа осталось за Гамовым, за теорией Большого взрыва и за принципом «-∞-». И никто ныне из серьезных ученых не сомневается в том, что мир, в котором мы живем, имел свое начало.
Кроме открытого в 1965 году фонового микроволнового излучения, существование и температуру которого предсказала модель Гамова, есть еще и тест Д. Джинса, предложенный им еще в двадцатых годах прошлого столетия: Вселенная, не имеющая ни начала, ни конца, должна иметь «неизменный» состав. Т. е. количество звезд в галактиках на разных стадиях своего развития должно быть пропорционально времени, которое требуется для того, чтобы пройти через все эти этапы.
Для Вселенной, не имеющей начала, должно существовать сбалансированное количество молодых, средних, старых и угасших звезд в галактиках. Однако возраст звезд, наблюдаемых астрономами, никогда не превышает 12 млрд лет, тогда как согласно расчетам бо́льшая часть звезд во Вселенной может гореть более 80 млрд лет.
Однако Хойл так и не отказался от стационарной модели. В 2000 году, т. е. спустя полвека (!) после первой публикации по этой теме, из печати вышла новая книга, написанная им в соавторстве с другими «альтернативщиками» – Д. Бербиджем и Д. Нарликаром, под названием «Иной подход к космологии: от Стационарной вселенной через Большой взрыв к Реальности». В этой книге, по характеристике журнала «Scientific American», представлена наиболее глубоко разработанная альтернатива Большому взрыву – теория «Квазистационарного состояния Вселенной», являющая собой новейшую инкарнацию стационарной модели Фреда Хойла 1948 года.
Авторы книги попытались опровергнуть прочно утвердившиеся в науке взгляды на происхождение Вселенной. Для доказательства своей точки зрения они предложили новые интерпретации известных фактов, свидетельствующие в пользу стационарной модели. В частности, они показали, что микроволновое реликтовое излучение может быть объяснено рассеянным излучением звезд в галактиках. Что синтез первичных элементов, обычно приписываемый Взрыву, мог происходить в звездах. Что материя постоянно создается и испускается в пространство из ядер галактик…
Книга эта, естественно, подверглась решительной и справедливой критике в рядах последовательных «бигбэнговцев» и в очередной раз наглядно продемонстрировала насколько значительную роль в творчестве ученого могут играть предубеждения.
Почему же столь блистательный ученый как Фред Хойл на протяжении всей своей жизни противился идее Большого взрыва? По мнению близко знавших его людей, в корне этого сопротивления лежало то, что ему не нравилась идея о зарождении жизни на Земле в результате естественной химической эволюции. Вот что об этом писал сам Хойл (выделено мной. – А.М.):
«По-моему, приемлемая философская точка зрения на эволюцию под углом космологии предполагает рассмотрение вопросов, стоящих над астрономией, и именно к этому быстро приходит всякий, кто пытается понять происхождение биологического порядка. Столкнувшись с проблемами сверхастрономического порядка сложности, биологи находят прибежище в волшебных сказках. Это ясно видно и по тому, как они исследуют порядок аминокислот в любом из сотен энзимов. (По оценкам Хойла, вероятность случайного формирования 2000 энзимов из аминокислот составляет примерно один шанс на 1040000 (А.М.)).
Чтобы у нас была хоть какая-то надежда решить задачу биологического происхождения жизни рациональным путем, нужна Вселенная, живописное полотно которой не имеет границ; Вселенная, где энтропия на единицу массы не возрастает неумолимо, как это происходит в космологиях Большого взрыва. Она должна предоставить именно такое бесконечное полотно, которое предполагает теория стационарной Вселенной, по крайней мере, я так думаю» [33].
Из приведенной выдержки становится очевидным, что приверженность Хойла теории стационарной Вселенной объясняется неспособностью дарвиновской теории эволюции объяснить происхождение и эволюцию жизни на Земле. Вероятность возникновения жизни, если исходить из позиции редукционизма и догматов дарвинизма, оказывается – и это прекрасно понимал Хойл – столь ничтожной, что такое возможно лишь в постоянно обновляющемся мире, существующем бесконечно долго.
Мире, в котором постоянный рост энтропии уравновешивается постоянным ростом негэнтропии, связанным с самозарождением материи (нейтронов); мире, в котором жизнь, появившись единожды в каком-то одном месте, способна распространиться на всю Вселенную. Удовлетворяла ли такая точка зрения Хойла на все сто процентов? – Вряд ли, иначе не было бы оговорок: «хоть какая-то надежда», «по крайней мере, я так думаю»…
* * *
В бестселлере Стивена Хокинга «Краткая история времени» слово бесконечность встречается 74 раза. Причем во всех случаях это понятие используется им вполне корректно за исключением всего лишь только трех. Из которых, однако, с полной определенностью следует, что автор не отрицает возможной потенциальной бесконечности Вселенной (Мультивселенной) в пространстве и/или во времени, а также актуально бесконечно больших значений для некоторых параметров ее эволюции в момент Большого Взрыва (выделено мной. – А.М.):
«Если Вселенная в самом деле бесконечна в пространстве или если существует бесконечно много Вселенных, то где-то могли бы существовать довольно большие области, возникшие в гладком и однородном состоянии». «…»
«Слабый антропный принцип утверждает, что во Вселенной, которая велика или бесконечна в пространстве или во времени, условия, необходимые для развития разумных существ, будут выполняться только в некоторых областях, ограниченных в пространстве и времени». «…»
«Если классическая общая теория относительности верна, то из доказанных Роджером Пенроузом и мной теорем о сингулярности следует, что в точке начала отсчета времени плотность и кривизна пространства времени принимают бесконечные значения. В такой точке нарушаются все известные законы природы. Можно было бы предположить, что в сингулярностях действуют новые законы, но их трудно формулировать в точках со столь непонятным поведением» Стивен Хокинг «Краткая история времени».
На самом деле Хокинг отмечает далее, что при приближении к сингулярности начинают сказываться квантовые эффекты и ОТО перестает работать. Но если бы это было не так, то плотность и кривизна стали бы «реально» бесконечными и физикам пришлось бы иметь дело с актуально бесконечными величинами «наивной» канторовской теории множеств. Такая здесь у него логика.