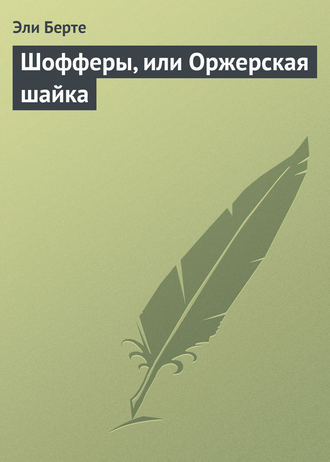
Эли Берте
Шофферы, или Оржерская шайка
– Почему ж вы удивляетесь этому поведению и за что тут краснеть моему брату? – спросила с горькой иронией маркиза. – Ваш дядя, гражданин Даниэль, остается верным самому себе, он не ищет, подобно другим, возможности скрыть свой эгоизм под маской самоотвержения и великодушия. Делав столько для сохранения своего состояния и жизни, станет ли он все это подвергать опасности, давая у себя пристанище вдове и дочери аристократа и заговорщика? Наконец, и гражданка Петронилла, его экономка, не простила бы ему этого… Впрочем, прекрасный братец мой и сам расчетлив, а ему слишком бы дорого стоило содержать двух бывших дворянок; гораздо лучше, под предлогом их безопасности, отправить их на легкую пищу и мало стоящее содержание Першской фермы.
Но, пожалуйста, оставим этот разговор, милостивый государь, ни моя дочь, ни я, мы не жалуемся и ни у кого милостей не просим, а уж если нам предоставлен выбор благодетелей, то мы, конечно, предпочтем всем другим честных поселян, приютивших нас.
Эта преднамеренная недоверчивость, эта потребность ненавидеть, проглядывающая во всяком слове маркизы, в высшей степени огорчили Даниэля.
IV. Брейльский замок
Прежде чем идти далее, нам нужно дать читателю некоторые нужные сведения о семействе Ладранж, несколько членов из которого будут играть важные роли в этом рассказе.
Ладранжи были одни из тех богатых семейств, которые, несмотря на свое мещанское происхождение, живут в провинции наравне с дворянами. Может быть, даже предки их и были из дворян, как уверяли некоторые из них, но два или три поколения пренебрегли возможностью заявить права на свое дворянство; богатство их шло еще от Петра Ладранжа или де ла-Данжа (в этом-то и заключался спор), оружейного мастера, поселившегося в конце шестнадцатого века в Нанте и скоро обогатившегося через морскую торговлю; потомки его прекратили торговлю, но, что бывает чрезвычайно редко, их состояние не уменьшилось в течение двух веков, так что во время революции оно было громадно.
С другой стороны, Ладранжи не упускали ничего для приобретения влияния в стране. Они были в родственных связях с самыми почтенными семействами из Боссе и Шартра, некоторые из них служили отлично по магистратуре в городе Шартре, двое были уездными судьями; последний из них, Павел Ансельм Ладранж, умерший в 1780 году, был отцом Даниэля.
Павел Ансельм, или, как в семье и даже во всей стране звали его, «судья» имел старших брата и сестру. Старший брат его, настоящий владетель Брейльского замка, в котором он и жил, наследовав по тогдашним законам все состояние семьи, проявил себя в самой ранней молодости слишком корыстолюбивым и жадным, чтобы брат с сестрой могли ожидать от него чего-нибудь определяемого законом, а потому Павел Ансельм должен был довольствоваться скромным местом, купленным для него отцом в Шартре, сестра же была предназначена в монастырь.
К счастью, Павел Ансельм был человек недюжинного ума, а сестра очень хороша собой, и пока первый постепенно возвышался, достиг одной из первых ступеней магистратуры в родном городе, вторая вышла замуж за маркиза де Меревиль, сельского дворянина, имевшего большие поместья в Орлеане.
Несмотря на то, что долго занимал «важные» должности, судья умер бедняком, оставя сына Даниэля двенадцатилетним сиротой без какого-либо другого состояния, кроме маленького дохода со стороны матери; конечно, Даниэль мог бы считаться будущим наследником своего дяди Ладранжа Брейльского, не только не проживающего своего состояния, но постоянно всеми способами, более или менее благовидными, увеличивающего его, но брейльский дядюшка, с которым сейчас познакомится наш читатель, далеко не был человеком, способным на малейшую жертву для бедного родственника. Он не прежде согласился принять на себя обязанность опекуна Даниэля, как убедясь, что у мальчика есть достаточно своих средств, чтобы не быть на его содержании; впрочем, его обязанность как опекуна ограничивалась весьма малым: отдав своего племянника полным пансионером в Шартрское училище, он видел его только во время каникул, когда мальчик являлся в Брейль пользоваться по теории и на практике уроками суровой экономии; позднее, чтобы окончить образование, дядя отправил его в Париж, откуда Даниэль возвратился уже адвокатом. При каждом удобном случае дядя предупреждал Даниэля, чтобы расходы его ни под каким видом не превышали ни на один лиард его маленького дохода, и молодой человек строго сообразовывался с этими предостережениями.
Но если Даниэль находил одну суровость и эгоизм в своем опекуне и дяде, то совсем другое встречал он в тетке своей госпоже де Меревиль. Маркиза всегда горячо любила своего меньшего брата, и всю силу этой привязанности перенесла на его сына, так что даже и маркиз всей душой полюбил сироту. Когда мальчик являлся провести несколько дней в Меревиль, маркиз осыпал его подарками и всячески старался доставлять ему удовольствия, приличные его детскому возрасту, но которых опекун лишал его.
Немного позже, когда Даниэль изучил закон, маркиз, немного сутяга, как быть следует всякому хорошему помещику, любил советоваться с ним насчет своих тяжебных дел и о своих воображаемых или действительных правах; но что более всего привлекало Даниэля в Меревиль, это его кузина Мария, прелестный ребенок, выросший на его глазах, и за постепенным ее развитием он сам мог следить. Дружеская короткость, установившаяся в их отношениях, может быть, с переходом в юношеский возраст перешла бы и в любовь, но ничто похожее на признание не было произнесено ни одним из них; они уж так давно любили друг друга, это чувство в них было так естественно, что они и сами, может быть, не подозревали, какого оно свойства, впрочем, и то сказать, они так редко виделись, а в последнее время в жизнь обоих нахлынули такие потрясающие душу обстоятельства, что им положительно было не до анализа своих чувств.
Итак, в этих двух родственных домах, так различных между собой, как Брейль и Меревиль, проходили короткие отпуска, даваемые Даниэлю его трудными занятиями, и легко отгадать, какой из двух он предпочитал; проведя несколько недель у дяди Ладранжа, он делался мрачным, после же нескольких дней пребывания в гостеприимном Меревиле веселье и свежесть возвращались на его личико, глаза загорались снова своим обычным блеском, а пылкая душа рвалась в юношеских порывах. Однако веселые пребывания в Меревиле не были способны отвлечь молодого человека от его забот о своем будущем. Благородно-честолюбивый, не надеясь ни на кого кроме себя, он усидчиво трудился, готовя себя к роли, предстоящей ему в обществе, зато когда он вернулся в Шартр со званием адвоката, то все говорило жителям города, что они приобретают дельного, неподкупного чиновника, каким был его покойный отец.
Здесь скажу я несколько слов о его свободных идеях, так вооружавших против него его тетку.
Как известно, принципы, во имя которых совершилось падение монархии, не принадлежали исключительно одному какому-нибудь из сословий; когда взрыв последовал, то все светлые умы в дворянстве, как и в среднем классе, в духовенстве, так и в народе сходились на убеждении о необходимости перемены правления; расходились лишь во мнениях – в каких границах должна заключаться последующая реформа?
Магистратура, которая особенно, как орган парламентов, так долго и упорно боролась с неограниченностью власти, была давно уже склонна к оппозиции и свободе.
В этом заключалась точка отправления Даниэля Ладранжа. Уважаемые законоведы, старинные друзья его отца, посвятили его в некоторые истины, переходящие от одного поколения к другому; с другой стороны, изучение прав, чтение великих мыслителей восемнадцатого века, а может быть, и чувство великодушия, влекущее всегда молодых людей к защите угнетенного класса, бросили его в круг новых идей, и, конечно, никто чистосердечнее его не приветствовал революцию.
Между тем как заговорщики оспаривали друг у друга влияние на ход революции, Даниэлю хотелось бы остановить ее в известных границах; но, впрочем, если он и сожалел, что эти границы были перейдены, то все же он этого не очень пугался и вот почему: когда он определился в Шартрский суд, он особенно сошелся с одним из своих новых товарищей по службе, человеком высокого ума и необыкновенному красноречию которого все удивлялись. Собрат этот был знаменитый Петьон де Вильнеф, назначенный местным Шартрским правлением депутатом в общее собрание. Петьон оценил возвышенный образ мыслей, смелость и энергию Даниэля Ладранжа; после расставания между ними установилась деятельная переписка. Петьон направлял мысли своего молодого друга, поддерживал его в отчаянии, до которого часто доводили его неистовства партий, и в виде утешения указывал ему всегда в конце всего этого на великое перерождение общества, о котором они оба мечтали.
Сделавшись мэром Парижа и президентом Национального собрания, Петьон облек Даниэля своим полным доверием, дал ему огромные права в стране. Ладранж, бывший номинально не более как мировой судья, в сущности же был предводителем умеренной революционной партии в провинции, и часто, благодаря своему влиянию, ему удавалось спасти изгнанника или предупредить какое-нибудь гибельное увлечение.
К несчастью, покровительство своего старого сослуживца он вдруг потерял. Петьон, побежденный в борьбе своей против ла Монтаня, обвиненный, принужден был бежать и умер ужаснейшей смертью в окрестностях Бордо с двумя другими депутатами, объявленными, как и он сам, вне закона.
Говоря с госпожой Меревиль о только что утраченном влиятельном друге, Даниэль говорил о Петьоне.
Жестоко огорченный в своих привязанностях и разочарованный в верованиях, Ладранж действительно чувствовал отвращение к победившей партии; но как было остановиться ему на скользкой покатости дороги, по которой он пустился? Он знал, что всем известное отношение его к Петьону делало его самого подозрительным для господствующей партии, а потому не только сознавал, но был уверен, что при малейшей его нерешимости он мог пропасть, а это лишило бы последней поддержки меревильских дам и его дядю, которого уже не раз единственно его влияние спасало от раздражения черни.
Все эти соображения вынудили его решиться не высказывать своих настоящих мнений и скрывать свое отвращение к первенствующей партии; а потому незаслуженная несправедливость тетки, несправедливость, которая только слегка сглаживалась словами Марии, расшевелила в душе его все горькие сомнения.
Направляясь по аллее к замку, он мысленно спрашивал себя, действительно ли нет никакой доли правды в словах маркизы и достаточно ли извиняют его поведение желание и необходимость оберегать родных и, наконец, свою собственную свободу? Но мрачный и запустелый фасад Брейльского замка, показавшись из-за деревьев, дал другое направление его мыслям.
Брейльский замок – было старинное, массивное, четырехугольное здание, находившееся, вследствие скупости настоящего владельца, в состоянии весьма близком к разрушению: столетние дубы, его окружавшие, отнимали у него и свет, и воздух, и при виде всех окон, постоянно затворенных ставнями, должно было счесть замок нежилым; кровли везде заросли мхом, а из больших каменных труб нигде не виднелось и струйки дыма; вообще, все здание до того обросло сверху донизу и со всех сторон высокими травами, что казалось, будто оно прячется от посторонних глаз. Ни одна курица не кудахтала на большом дворе; на заржавевших флюгерах не было видно ни одного голубя, только из окружающего леса слышалось по временам пение и крики диких птиц.
Передний двор по обыкновению был обнесен железной решеткой, и сверх того еще изнутри был сделан крепкий тесовый забор, не позволяющий постороннему глазу Проникать внутрь двора. Ворота, прочно заколоченные, казалось, уже давно не отворялись, да и дворницкая, видневшаяся сквозь доски, стояла с провалившейся крышей и скорее походила на развалину, чем на жилое помещение. Вследствие этого, конечно, Даниэль, хорошо знакомый с порядками в доме дяди, стал пробираться к маленькой двери, устроенной в одной из высоких каменных стен, окружавших здание, и наполовину закрытой плющом, как к единственному входу в Брейльский замок.
Когда, подъехав, он хотел сойти с лошади, то в нескольких шагах от себя заметил человека, неподвижно стоявшего и с большим вниманием рассматривавшего замок; углубленная в свое созерцание личность эта даже не заметила его приближения, и только обернувшись на шум, произведенный лошадью Даниэля, и взглянув на всадника, незнакомец засвистал и пропал в лесной чаще.
В эти времена смут малейшее, ничего не значащее, по-видимому, происшествие подавало уже повод к подозрению, а потому, не будь Ладранж так сильно занят в это время другими соображениями, он непременно захотел бы узнать причину, привлекшую этого бездельника к дому его дяди, но в данную минуту возбужденное этим явлением подозрение Даниэля тотчас же стушевалось, и, соскочив с лошади, он торопливо подошел к двери и дернул за старую, в узлах веревку, висевшую тут.
Не прошло и пяти минут, как дом, казавшийся до тех пор нежилым, вдруг будто бы очнулся, внутри его поднялся звонкий собачий лай; произошла общая суета, несмотря на которую молодому человеку пришлось прождать еще минут пять, по крайней мере, пока человеческое существо явилось на звон его колокольчика; он собирался уже звонить второй раз, как послышалось за стеной шлепанье башмаков и старушечий крикливый голос спросил на местном арго:
– Кто там опять лезет? уж, верно, какой-нибудь бродяга!.. С Богом идите дальше, здесь ничего не дают.
Даниэлю был хорошо знаком этот сварливый голос, а потому он нетерпеливо ответил:
– Это я, Петронилла! Отворяйте скорее, мне нужно спешно увидеть дядю!
Но просьба эта не привела к желаемому результату, только форточка, проделанная в двери, тихонько отворилась и в ней показалась старушечья всклокоченная голова, глядевшая на посетителя скорее удивленным, чем обрадованным взглядом.
– Это кто? Даниэль? Кой черт мог ожидать его сегодня сюда! Но вы, надеюсь, милый мой, ехали через ферму и, конечно, там пообедали, что было бы весьма кстати, так как у нас съестного мало чего водится.
Говоря таким образом, старуха не торопясь отодвигала один за другим огромные засовы, запиравшие дверь; конечно, ни одна крепость в мире не могла надежнее охраняться, чем Брейльский замок.
Наконец дверь, заскрипев на своих заржавевших петлях, отворилась, и Даниэлю можно было войти. Увидав, что он ведет за собой и лошадь, старуха опять заносчиво крикнула:
– Милосердный Господь! Да в уме ли вы, Даниэль, что ведете к нам и свою клячу? У нас ведь нет ни сена, ни соломы, а что касается до конюшни, так в ней давным-давно уже и крыши нет, прошлую зиму еще я сожгла все желоба и стропила; к тому же вы ведь, конечно, долго здесь не останетесь, не так ли? Вероятно, вы сегодня же вечером и уедете. Тогда она может пощипать и этой высокой травы, которой везде много, а Иероним принесет ей ведро воды, вот и будет с нее на этот раз.
Двор, на который вошел Даниэль, действительно сплошь был покрыт крапивой и волчицей, росших среди валявшихся то тут, то там земледельческих полусгнивших инструментов, телег без колес и бездонных бочонков.
На замечание Петрониллы путник наш ничего не ответил, зная бесполезность подобных переговоров; взяв под уздцы и распустив поводья своей лошади, он пустил бедное животное пользоваться скромным угощеньем, а сам последовал за госпожой Петрониллой.
Женщина эта, как казалось, управительница замка, была крестьянка из окрестностей, маленького роста, и при многочисленности носимых ею юбок представляла собою нечто вроде шара; между тем качество ее туалета не восполнялось числом, так как вся она была в лохмотьях. Костлявое лицо Петрониллы, ее красные, вечно моргающие глаза, широкий рот, который, раскрываясь, показывал только два черных зуба, длинных, как клыки кабана, все это, вместе взятое, составляло необыкновенно безобразное целое. Не переставая вязать и с неимоверной скоростью шевеля своими старыми пальцами, старуха пошла вперед, положив клубок в свой испещренный заплатками передник и воткнув одну из спиц в отвратительную свою повязку.
Петронилла уже более тридцати лет находилась в услужении у господина Ладранжа Брейльского, а потому знала Даниэля еще ребенком, но ни одного приветливого, радушного слова к племяннику своего господина не нашлось в черством созданье, напротив того, она так недружелюбно взглядывала порой на него, что можно было предположить, будто встретила врага. Даниэль, не обижаясь нисколько на этот неприязненный прием, спросил только, здоровы ли все в замке.
– Здоровы, здоровы! Вот сами сейчас увидите, – сердито отвечала старуха, – хотя это, может, и не совсем-то выгодно наследникам, ожидающим наследства и для этого приходящим обедать сюда, но что же делать? Все же это так, как ни печальна действительность.
Привыкший к дерзким выходкам экономки, Даниэль не обратил на нее внимания, а может, озабоченное состояние духа помешало ему даже понять и смысл ее речей. Итак, пробираясь посреди разного хлама, покрывающего двор, они пришли к входной двери замка, находящейся на противоположном фасаде. Прошли они и мимо конуры старой собаки, все еще не перестававшей лаять, гремя своей цепью; но только что животное узнало вновь прибывшего, как сердитый лай ее превратился в радостное ворчание и она замахала хвостом; быть может, припомнились старому псу в эти минуты кусочки хлеба, потихоньку приносимые ему Даниэлем-школьником! Рассеянно приласкав доброго сторожа, Даниэль пошел далее.
Внутренний фасад замка был так же мрачен, как и наружный; все окошки бельэтажа были плотно заколочены, только два или три, остававшиеся открытыми в нижнем этаже, свидетельствовали о жилых комнатах; но живые заборы и деревья сада, не подстригаемые с давних пор, а потому и сделавшиеся непроходимым лесом, образовали собою натуральные щиты, скрывающие это обстоятельство от прохожих, да и все остальное было, видимо, устроено с намерением показать постороннему глазу, что замок покинут своим хозяином. Собираясь всходить по расшатавшимся ступеням на крыльцо, молодой судья услыхал позади себя застенчивый голос.
– Здорово и братство, господин гражданин Даниэль.
Нелепое это приветствие заставило обернуться молодого человека, и через кучу хвороста, служившего изгородью саду, он увидел молодого мужика, облокотившегося на заступ и глупо и приветливо ему улыбавшегося.
На этот раз Даниэль вернулся и, подойдя ближе к приветствовавшему его, дружески ответил:
– Здравствуй, Иероним! О, да как ты, милый мой, вырос!
Иероним не успел еще ответить, как старая Петронилла опять вмешалась.
– Ну вот, теперь будете и его заставлять попусту терять время, – начала она. – Тунеядец, который не зарабатывает съедаемого им хлеба.
Бедный Иероним, не смея больше говорить, принялся опять за работу, и Даниэль, в свою очередь, зная влияние этой женщины на дядю и признавая за необходимость не раздражать ее, удовлетворился тем, что, кивнув приветливо работнику, вошел в дом.
Большая комната, без потолка, с кирпичным полом, казалось, была общей залой нынешних обитателей Брейля, то была прежняя кухня в замке. Обставлена она была старой, разношерстной мебелью: в углу стояла старая кровать с ситцевой занавеской, хозяйственные принадлежности, стол с бумагами, хлебная квашня, охотничьи ружья и мялка для конопли; все это, покрытое толстым слоем пыли, являло в комнате такой беспорядок, какой только можно себе представить.
В этой комнате и смежной с ней заключались единственные жилые покои замка, остальные же, а их было много, были заперты и в них никогда никто не входил.
Около сломанного стола, на котором еще виднелось немного житного хлеба, стакан вина и два печеных яблока, сидел человек лет шестидесяти, высокий, худой, с красным осунувшимся носом, маленькими, блестящими, как у борова, глазами. На голове у него была старая треугольная шляпа, украшенная большой трехцветной кокардой, и из-под этого почтенного украшения выбивалось несколько прядей желтовато-белых волос. Костюм его состоял из длинного коричневого сюртука, прорванного на локтях и зашитого тут и на спине белыми нитками, и из бархатных шаровар оливкового цвета, преобразованных в панталоны с помощью надставок внизу у ног из другой материи и другого цвета. Это был не кто другой, как владетель Брейльского замка Михаил Ладранж и, как все говорили, один из богатейших капиталистов старой провинции Перш.
Приезд посетителя его, казалось, сильно встревожил; при раздавшемся звонке он прервал свой скудный завтрак и стал боязливо вслушиваться; зато при виде своего племянника у него, видимо, отлегло от сердца, и, радостно вздохнув, он пошел ему навстречу, выказывая при этом столько радушия, сколько никогда еще не случалось.
– Ах, так это ты, мой молодчина! – весело выговорил он, протягивая к нему руки. – А я не ожидал тебя и немного испугался… Но что с тобой? – прервал он себя, заметив озабоченный вид Даниэля. – Уж не привез ли ты дурных вестей каких? Нет ли у вас чего нового там, в городе?
– Нет, нет, дядюшка! Нет ничего такого, чего бы вы не знали уже давно.
– Ну, в добрый час! А то я, видя твое такое расстроенное лицо… Но это, конечно, от усталости с дороги, пойдем, садись, да поешь со мною.
И он указал на остатки своего убогого завтрака. Даниэль сел, но есть отказался.
Дядя Ладранж продолжал:
– По крайней мере, ты не откажешься выпить? Петронилла! Там в шкафу ты найдешь бутылку, в ней еще винцо есть; принеси-ка ее сюда, чтоб нам с Даниэлем выпить за благоденствие нации и за истребление аристократов.
– Это еще что? Весь дом кверху дном повернуть, что ли? – грубо, как всегда, ответила экономка. – Малый-то, кажется, знаком с нашими-то порядками… – Но повелительный знак старого Ладранжа унял расходившуюся старуху, хотя и ворча, но все же тотчас же исполнившую приказание. Из любезности Даниэль помочил губы в какой-то уксус, очень аккуратно ему налитый дядей, и который сам дядя пил с видимым наслаждением.
– Хочешь, верь мне или нет, Даниэль, – начал опять старик, – но я, в самом деле, я очень рад, что ты приехал: давненько уж собираюсь я все переговорить с тобой об одном деле, сильно меня озабочивающем, зная же тебя за честного гражданина и хорошего патриота, я надеюсь на тебя, дело идет об очень серьезном предмете… Ты увидишь… Надеюсь, ты у меня ночуешь?
Даниэль объяснил, что, к сожалению, он должен сегодня же вечером вернуться в город.
– Вы, конечно, знаете, дядюшка, что со смертью моего несчастного друга, знаменитого гражданина Петьона я сам чуть ли не в подозрении у членов комитета, а потому мое продолжительное отсутствие из города может быть худо перетолковано.
– Ты! В подозрении? – вскричал дядя Ладранж, радушие которого заметно при этом известии убавилось. – Ты, имевший такое влияние, творивший радость и горе в стране, что ж, разве ты делаешься врагом нации? В таком случае, предупреждаю тебя, я тоже отвернусь от тебя… твой друг Петьон, теперь можно это сказать, был действительно не более как умеренный, тайный партизан Капетов и их семейства, даже, может быть, секретно был и заграничный агент, и они хорошо сделали…
– Дядюшка! – перебил его в сильном негодовании Даниэль. – Вы забываете, что только благодаря Петьону мне удалось дать вам вид от революционного правительства – обстоятельство, которому единственно вы обязаны своим настоящим спокойствием и безопасностью.
– Тише, тише! Милый мой! – заговорил беспокойно Ладранж, оглядываясь кругом. – К чему так громко кричать?.. Нельзя знать, где может прятаться и подслушать тебя шпион! Но послушай меня, дитя мое, я старше тебя, а потому и опытнее тебя и хочу тебе дать совет. Старайся ты, чего бы тебе это ни стоило, держаться в хороших отношениях с теперешним правительством. Например, оно не любит аристократов и круто поворачивает их, ну что ж тут худого? Все несчастья нации происходят от этих аристократов, от которых мы до сих пор не можем очистить страну.
– Любезнейший дядюшка, – ответил Даниэль, – вы, кажется, забываете, что за несколько лет до революции вы писали государственному канцлеру, требуя привилегий на том основании, что фамилия Ладранжей была с незапамятных времен дворянской, хотя невнимательные предки оставили свои права на титулы в пренебрежении? Я видел в префектуре ваши письма.
Ладранж позеленел.
– Ты видел мои письма? – спросил он задыхающимся голосом. – Где они?
– Я их сжег, потому что, попадись они кому другому, вы бы пропали!
– Хорошо, о, хорошо! Благодарю тебя, благодарю, Даниэль, ты добрый малый! – воскликнул старик восторженно. – Конечно, я мог бы объяснить очень просто попытку, которую меня принудили сделать, но все же есть такие злонамеренные люди… Но довольно, оставим это; а так как ты, я убеждаюсь все более и более, истинный мне друг, то я расскажу тебе, Даниэль, дело, сильно занимающее меня в настоящее время; но, – прибавил он, пугливо поглядев на толстую Петрониллу, постоянно сновавшую около них со своим вечным бормотанием. – Ты, конечно, предпочтешь пойти в мою комнату?
– К вашим услугам, дядюшка! – сказал Даниэль.
– Между тем, позвольте мне прежде поговорить с вами о причине моего приезда сюда, и тогда уж я буду более спокойно слушать ваши сообщения, я теперь приехал с фермы, где видел известных вам особ…
– А! Ты их видел? – повторил старик, лицо которого опять нахмурилось. – Ну, чего же они хотят?
Даниэль с жаром изложил опасность, которой подвергаются меревильские дамы, оставаясь долее на ферме у Бернарда, где они, несмотря ни на какое переодевание, всякую минуту рискуют быть узнанными, и кончил свою речь горячей просьбой принять их теперь же в Брейльский замок. Услыхав это предложение, старый Ладранж даже вскочил со стула.
– Несчастный! – воскликнул он в исступлении, – погубить меня ты хочешь, что ли? Мало тебе того, что ты уже раз навязал мне этих проклятых барынь? Стану я рисковать быть сочтенным за их соучастника, я, хороший патриот, всей душой ненавидящий аристократов. Ну, живут они теперь на ферме, и прекрасно, пусть там и остаются, а чтоб принять их сюда! Ни за что никогда не соглашусь! Ни для какого черта! Ведь это все равно, что свою голову самому на плаху нести.
– Для вас нет никакой разницы, что они на ферме, что они у вас, под вашим покровительством, и если их откроют, там ли, здесь ли, вы одинаково будете скомпрометированы.
– Ты прав, я не подумал об этом. Сейчас же предпишу Бернарду как можно скорее их спровадить, а если не послушается, то… Нет, он их отправит, или я его самого выгоню! Не хочу я, черт возьми, из-за этих шлюх сам быть в подозрении.
– Дядюшка! Умоляю вас, обдумайте хорошенько, что вы говорите! Да ведь это была бы подлость, на которую, я убежден, вы не способны: отказать в поддержке, отнять у родной несчастной сестры ее последнее убежище! Нет, серьезно обдумав, вы не можете остановиться на этом проекте.
– А между тем, остановился и иду сейчас же исполнить его, – сказал Ладранж, решительно вставая. – Петронилла! подай мне мою палку! надобно пойти мне на ферму!
– Милостивый государь! – запальчиво вскрикнул молодой человек, выведенный из себя, – прошу вас прекратить эту ужасную шутку; быть не может, чтоб вы серьезно собирались сделать подобную низость, но уж если вы на это способны, то объявляю вам, что я, со своей стороны, не оставлю вашу сестру и ее дочь, я буду покровительствовать им, буду везде за ними следовать, рискуя тем погубить себя вместе с ними. Конечно, ни моя, ни их смерть не слишком сильно огорчат вас, но мои услуги могли бы вам еще пригодиться. Три раза уж доносили на вас и чуть не арестовали, три раза я отвращал удар… Конечно, дурно с моей стороны, что я напоминаю вам об этом, но вы вынудили меня.
Ладранж был между двух огней.
– Я тебе верю, – наконец заговорил он, – это уж должно быть правда, если ты говоришь… но послушай, Даниэль, дитя мое, я не вижу тут никакой для тебя причины так жертвовать собой, можно быть добрым родственником, но когда уж дело идет о своей голове… Но ты не сделаешь всего, что тут наговорил, ручаюсь, что не сделаешь.
– Я это сделаю, дядюшка! Это так же верно, как то, что над нами есть небо.
Торжественность этого подтверждения ужаснула старика, он с минуту подумал.
– Хорошо, – начал он опять, – уж если ты непременно этого хочешь, я предоставлю Бернарду полную свободу действовать, как он хочет, в отношении этих дам: он может оставлять их у себя, если ему это вздумается, что же касается до того, чтобы принять и поселить их здесь у себя, никогда на это не соглашусь, пусть хоть на куски меня режут… Не правда ли, Петронилла, что нам нельзя принять к себе аристократок?
– Господи! – зашипела опять экономка, – да если б у нас на это духу стало, так я бы тут все кверху дном поставила… Принцессы, которые все перевернут… Там на ферме только теперь у всех и занятий, что об их кушаньях хлопотать, то цыплят, то яиц… одним словом, разоренье!
– Можно было бы устроиться так, что присутствие этих дам в замке не вводило бы вас в излишние издержки, – поспешил воспользоваться случаем и сказать, кстати, для успокоения дяди, – я бы обязался платить за них.
– Полно, – перебил его сухо Ладранж, – не будем более говорить об этом; я, конечно, человек бедный и от платы не отказался бы, но… покончим с этим! Из уважения моего к тебе я соглашаюсь еще оставить на ферме этих глупых созданий, ну их к Богу! Но не проси же у меня ничего более, или ты меня с ума сведешь.
Всякое настояние, ввиду страха за свою личную безопасность, так овладевшего стариком, становилось бесполезно; между тем Даниэль все-таки хотел еще попробовать некоторые доводы.
– Довольно, довольно! – снова перебил его Ладранж нетерпеливо. – Я сказал, ни слова более, или мы поссоримся… Лучше иди за мной, – продолжал он, вставая и таинственно подмигивая, – в моей комнате нам свободнее будет говорить о серьезном деле, – и он взял Даниэля за РУКУ.
– Ай, ай! – закричала своенравная Петронилла на своего барина. – Это мне-то нынче вы ничего не доверяете, пора, пора мне начать прятаться! Как будто я еще не знаю всех ваших секретов!.. Знаю, сударь, даже место, куда вы деньги свои прячете.
– Молчать, животное! – крикнул на нее с угрозой Ладранж. – Что ты, с ума сошла?
Потом, обернувшись к Даниэлю, прибавил:
– Не слушай ее! Какие у меня деньги? Я разорен, как и все другие; аренд мне не платят, а налоги душат… Но эта женщина такая сварливая! Что делать, милый мой, – продолжал он уже со снисходительной улыбкой, – много приходится прощать старым слугам. Правда, я сам допустил Петрониллу присвоить себе много воли в доме, а теперь уже и поздно ее исправлять.







