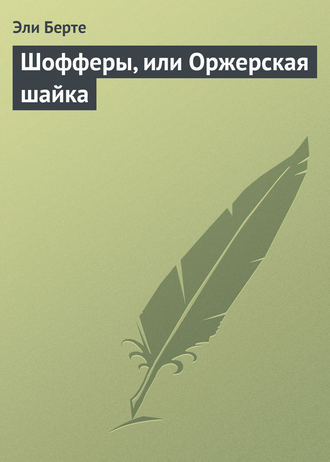
Эли Берте
Шофферы, или Оржерская шайка
– Добрый малый, – проговорила наконец маркиза, – да, честный малый и, кажется, очень веселого характера.
– Сколько в нем простодушия за его тривиальными манерами, – прибавила Мария.
Даниэль остался задумчивым, вдруг простясь наскоро со своими родственницами, в свою очередь скорым шагом направился к городу. На повороте дороги он надеялся хоть издали увидать всадников, но они, казалось, улетучились с пылью, и он дошел до Шартра, не встретив их более.
IV. Подвал трактирщика Дублета
Бо Франсуа с товарищем, оставив Сант-Марис, проскакали немного по дороге в Шартр; но на первом же повороте они свернули и въехали в плантации винограда, покрывавшего всю эту часть страны. Достигнув, наконец, уединенного местечка, где сплошные стены зелени скрывали их от любопытных, оба остановились и соскочили с лошадей.
– Теперь дай мне, – проговорил повелительно Бо Франсуа, – то, что я тебе велел спрятать.
Другой послушно поспешил отвязать от своего седла аккуратно свернутое В виде плаща платье; то был длинный сюртук с широким воротником, как их тогда носили. Торопливо натянув его сверх бывшего уже на нем платья, Бо Франсуа бесцеремонно снял с головы своего названного лакея его мохнатую шляпу, взамен которой отдал ему свою, хорошую, модную. Таким образом он мгновенно изменил свою наружность так, что легко мог надуть любого шпиона.
Занимаясь своим костюмом, он вместе с тем отдавал приказания спутнику.
– Ты не возвращайся теперь со мной в город, а ступай проселком к Обенскому Франку и оставь у него лошадей, потому что по ним нас могут узнать, сегодня же вечером приходи ко мне, сам знаешь куда; но войди в Шартр другими воротами, а не теми, через которые мы вышли сегодня; так будет надежнее. Хорошо ли ты меня понял?
– Достаточно, Мег! – ответил его товарищ, некто другой, как наш старый знакомый Бабтист хирург, – так, значит, не удалось?
– Нет, надеюсь, что нет, – ответил Бо Франсуа, садясь на обочину дороги, так как Баптист, стоя перед ним, держал в поводу обеих лошадей, – но дело, кажется, будет труднее и опаснее, чем я предполагал. Я, между тем, не хвастаясь, могу сказать, что славно сыграл свою роль, твердо следуя твоим наставлениям, так что, пожалуй, меня можно было принять за франта из Пале-Рояля. Одна беда, что они все знают больше, чем я думал, и помнят лучше, чем я ожидал. Один раз я встал просто в тупик, ну, да я взял храбростью! Особенно уж этот проклятый адвокат. Задал же он мне звону! Черт бы его взял!
– Э, чего вам бояться этих болтунов! – ответил презрительно Баптист. – Разве они опасны? У них вся сила сосредоточивается в словах… Что касается Даниэля Ладранжа, моего любезнейшего братца, чтоб ему было пусто, то им нельзя очень-то пренебрегать, он назначен главой суда присяжных в Шартре, и собирается, как видно из его слов, задать нам гонку наповал.
Баптист попятился назад и насколько мог раскрыл глаза.
– Главой суда присяжных? Значит, все войска в провинции в его распоряжении!
Франсуа только сделал небрежную мину.
– А что он подозревает? – спросил хирург с возрастающим страхом.
– Он подозревал, но я сумел в отличном виде представить это Гранмезонское дело и, хочешь верь мне, хочешь не верь, Баптист, но только в настоящее время старая эта сумасшедшая маркиза, молоденькая эта гражданочка и даже этот строптивый суровый администратор, все они считают меня своим избавителем и мы наилучшие друзья в мире.
Но хирург, по-видимому, не разделял мнения о безопасности.
– Но все-таки, Мег, не рассердитесь на меня, пожалуйста, что я скажу вам, что затеяли вы опасную игру… Адвокат хитер, малейшее обстоятельство, слово, движение может вовлечь вас в погибель; опасность тут слишком велика. Умоляю вас, не подвергайте ей себя!
– Хи, а если я люблю опасность? – грубо ответил ему Бо Франсуа. – Что я, такая же разве мокрая курица, как большая часть из вас? Впрочем, ведь ты знаешь, Баптист, что в этом деле я только свое требую. Ведь действительно я сын и наследник этого старого скряги, которого я сам… Но ба! Это ему поделом, за то, что он бросил меня. А потому, ни в каком случае я не отступлюсь от этих ста тысяч экю, следуемых мне, тогда как очень часто из-за ничтожных сумм я подвергаю опасности свою жизнь и жизнь всей шайки. А маленькая-то хорошенькая аристократочка, которая вот уже четыре года не выходит у меня из головы, и которая сегодня показалась мне еще прелестнее, чем прежде, разве и от нее мне тоже отказаться? Да еще именно тогда, когда семейные обстоятельства отдают мне ее в руки и когда она сама не слишком-то сурово на меня смотрит? Нет, не за тысячу чертей! Мне надобно достать эту малютку, я хочу ее, я буду ее иметь… Может, это мне дорого станет, но ведь я не торгуюсь! Впрочем, что же, возьмем самое худшее, то есть что меня узнают, так эти дамы так гордятся своим именем, а этот Даниэль так уважает свое семейство, что они ни за что не согласятся предать суду и гласности своего близкого родственника; и если что случится, то ручаюсь, что мой высокопоставленный родственник скорей употребит свое влияние, чтобы спасти меня, нежели погубить.
И, опустив глаза, он задумался.
– Ну, решено! – начал снова он твердо и поднимая голову. – Сперва употреблю мягкие средства, ловкость, хитрость, уверение; если этак не успею или дело слишком затянется, тогда мы пустим все на воздух. Ты ведь знаешь, что уж если я что задумал, то ни перед чем не отступлю… По правде говоря, я в этом деле боюсь только одного, это измены; но секрет мой известен только тебе одному, Баптист, а в тебе я уверен. Во-первых, ты не такой дурак, как все остальные, и у тебя хватит смысла понять действительную выгоду. А какая тебе может быть польза изменить мне? Где найдешь ты себе жизнь спокойнее и довольства больше, чем среди нас? Кормят тебя хорошо, живешь ты у Франков, во всех добычах шайки имеешь свою долю, тогда как прежде ты жил в такой нищете, что даже просил милостыню по дорогам; значит, дурак же бы ты был, если бы отказался от такого существования.
Наконец, собственно, тебе нечего даже бояться и правосудия, ты вовсе не участвуешь в наших экспедициях; следовательно, тебе не представляется никакой выгоды донести на нас. К тому же, случись подобное, то непременно какой-нибудь из нас да умудрится раскроить тебе башку; ты это знаешь, а так как ты насколько учен, настолько и трус, то я и доверяюсь тебе.
Грубость, только прикрывавшая в этой речи похвалы, которыми Бо Франсуа хотел задобрить Баптиста, нисколько не обидела последнего.
– Поверьте, я стою вашей доверенности, Мег, – ответил он. – Вам я обязан тем, что могу практиковаться в медицине, моем любимом занятии, запрещаемом мне этими дураками докторами только потому, что я не учился в университете… Гордецы!.. А я один знаю более, чем их пятьдесят человек разом, несмотря на их парики и черные платья; и уж если бы они приняли хоть один из моих вызовов, диспут письменный или словесный…
– Ну, полно! – перебил его Мег, находя, конечно, что достаточно уж польстил своему подчиненному, – мне пора в город, а ты скорей отведи лошадей и приходи ко мне к Шартрскому Франку.
Вслед за этим он встал, а хирург со своим обычным подобострастием поспешил сесть на лошадь.
– Послушайте, Мег, – спросил он, готовясь уже уезжать, – так как вы не отказываетесь от этого дела в Сант-Марисе, то какую же в нем роль отводите вы мне.
– Я об этом подумаю; но тебе не следует более показываться ни дамам, ни Даниэлю, потому что, признаться тебе сказать, мой бедный Баптист, тебя сейчас чуть-чуть не узнали.
– Меня? Да кто же?
– Адвокат, то есть судья… Он на тебя смотрел так пристально… но послушай, – прибавил Бо Франсуа веселым уже тоном, – если ты хочешь уж непременно мне быть полезным, докажи мне свои познания в медицине и приготовь пилюльку, которая, наконец, угомонила бы эту проклятую собаку. Прощай.
И он пустился по маленькой тропинке, проложенной по винограднику, а Баптист направился другой дорогой с лошадьми, тихо и сердито бормоча себе под нос.
– Пилюлю для собаки!.. Вот так честит он мои знания! Нет, видно, что я там ни делай и что он там ни пой, а в его глазах я не что иное, как шарлатан. Черт возьми! Хоть бы когда-нибудь в жизни пришлось расквитаться с этим Мегом, таким гордым, таким грубым… Но ба! Этому никогда не бывать, а, между тем, приходится ему повиноваться, не моргнув глазом, а то может плохо прийтись.
Освободясь от товарища, Бо Франсуа скоро добрался до Шартра, куда вошел Друэзскими воротами. Взглянув на него – в шляпе, надетой набекрень, с маленькой тросточкой в руках, беззаботно шедшего и весело посвистывавшего, – всякий принял бы его за купеческого сынка, возвращающегося с гулянья. Вскоре он вошел в квартал тех узких, извилистых улиц, грязных, недоступных для экипажей, которых даже новейшая перестройка не могла совершенно истребить из низменной части Шартра. Время от времени он оборачивался, чтобы убедиться, не следят ли за ним; но прохожих было мало, а добродушные физиономии, показывавшиеся в окошках, являли только любопытство.
Успокоенный этой тишиной Бо Франсуа дошел до грязного, темного переулка, вразнобой стоящие дома которого, закоптелые, покосившиеся, угрожали всякую минуту своим падением. Посреди этого стоял дом еще грустнее, еще несчастнее, чем все остальные; ветер качал старую белую вывеску, на которой с трудом можно было прочесть: «Деблет, кушанье и ночлег».
К этому-то дому и направился Бо Франсуа, но не решился войти без некоторых предосторожностей. Он остановился посреди улицы, как будто не зная, куда идти, и только увидя на передних окнах упомянутого дома какие-то знаки, он отворил дверь с оглушающим колокольчиком и вошел в дымную, закоптелую комнату, не то кухню, не то столовую, но во всяком случае заявлявшую собой гостиницу или харчевню низшего разряда.
Услышав звонок, маленький человечек с плутовской физиономией, в белом переднике и таком же бумажном колпаке, оставя свою стряпню, пошел навстречу посетителю; обменявшись с посетителем какими-то таинственными знаками, трактирщик тихонько указал пальцем на нескольких человек, сидевших в комнате, и громко проговорил.
– Пожалуйте сюда, гражданин; вам сейчас все подадут в той комнате, которую вы приказали приготовить для вас.
И оставя кухню свою на попечении грязной, неуклюжей бабы, должно быть, хозяйки дома, он отворил заднюю дверь и со всевозможными знаками уважения пропустил в нее посетителя. Пройдя через развалившийся двор, они стали спускаться по каменной лестнице как будто в подвал. Странность входа этой отдельной комнаты нисколько не удивила Бо Франсуа.
– Ну, Дублет, что нового? – спросил он.
– Ничего, Мег, только ваши люди пришли, и на этот раз их так много, что я уж не знал, куда и поместить их.
– Хорошо, они долго здесь не останутся… Ну, Дублет, держи ухо востро!.. Вероятно, станут искать мою квартиру; будь ко всему готов.
– Будьте покойны, Мег, – ответил трактирщик, подмигивая своими покрасневшими от дыма глазами. – Давненько-таки уж я умею надувать этих мошенников полицейских, и во мне, менее чем в ком другом из трактирщиков, они усомнятся. Моя репутация как честного человека уже сделана.
В это время они сошли с лестницы, скудно освещаемой маленькой отдушинкой; вскоре послышался глухой шум, среди которого минутами слышался человеческий голос, и все это как будто выходило из-под земли; в это же время к идущим долетал отвратительный запах, смесь табака, водки и говядины. Дублет, шартрский меняла, Франк, как звали трактирщика, наконец взял атамана за руку, чтобы вести его в потемках, продолжал веселым голосом:
– Наши молодцы веселятся, они-то хорошо поработали нынешнюю ночь, ждут теперь вас, чтоб разделить выручку по жребию… Когда вас нет, у них постоянные ссоры и дерутся насмерть… Право, Мег, без вас с ними ничего не поделаешь; неразумны они!
Остановясь у низенькой дубовой двери, он особым манером постучал. При первом же звуке в подвале воцарилась совершенная тишина, но когда зов повторился, гвалт и шум опять начались, вследствие убеждения, что идут друзья. Потом тяжелые запоры заскрипели, и когда последний из них упал, отворившаяся дверь открыла странную, отвратительную картину.
То был род погреба, куда свет не проникал и где воздух возобновлялся только посредством камина, находившегося в углу комнаты. В настоящую минуту в нем горел яркий огонь, немного сушивший страшную сырость этой подземной залы, голые стены которой были покрыты плесенью и светились раковинами слизняков.
Во всю длину комнаты тянулся импровизированный стол, сделанный из пустых бочек и полусгнивших досок; никуда негодные скамейки довершали меблировку. Но все это было так устроено, что при первом признаке тревоги весь этот гнилой хлам можно было свалить в угол, и подвал мог мгновенно принять вполне приличный вид. В настоящее же время он имел праздничный вид. На импровизированном столе, покрытом бывшей когда-то белой скатертью, виднелись признаки большого пиршества: огромные хлеба, куски холодной говядины, жбаны с вином или сидром, бутылки с водкой, стояли тут же к услугам каждого, а опрокинутые стаканы и разбитые тарелки доказывали, что угощение это выдержало уже атаку многочисленной публики. Дымившие сальные свечи, воткнутые в горлышки разбитых бутылок, освещали этот пир.
Тридцать или сорок человек мужчин, женщин и детей находились тут, одни одетые чисто, даже богато, другие в лохмотьях. Некоторые продолжали еще жадно есть, другие спали, опершись головами о стену, третьи составляли шумные кружки, из которых неслись ругательства, угрозы и хохот; кое-где виднелось зверское лицо какого-нибудь разбойника, торжественно рассказывавшего на арго какую-нибудь кровавую экспедицию, где он был действующим лицом. За особым столом, устроенным из двери, положенной на две скамейки, сидело пять-шесть человек детей, одетых в рубища, старшему было не более двенадцати лет.
Между ними сидел рослый мужчина со зверским лицом; важно покуривая трубку, он вместе с тем проповедовал своим питомцам необходимость воровать и от времени до времени понукал их выпить по рюмке водки.
Человек этот, замечательный своими черными волосами, заплетенными назад в косу, черной бородой и кожаными штанами, был Жак де Петивье, учитель ребятишек, находившихся в шайке. Воспитанники его, из которых некоторые были с прелестными, хотя уже бледными и увядшими личиками, слушали его с напряженным вниманием, перемешанным со страхом. Предмет, возбуждавший этот страх, была, конечно, кожаная плеть, висевшая за поясом у этого профессора воровства и убийств и которую он, казалось, любил пускать в дело. По стенам на досках лежали узлы и холщовые мешки, то была добыча, делить которую ожидали только атамана. И не трудно было на всех этих предметах, добытых в последнюю ночь, найти много пятен крови.
В подполье было так дымно, что у вошедшего со свежего воздуха могла закружиться голова, потом эти слизистые своды, расставленные плечи, зверские физиономии, ругательства, хохот, все это вместе составляло такое ужасное целое, что невольно вспоминался Дантов ад.
В этом притоне разбойников, имевших своим атаманом Бо Франсуа, мы встретим много уже знакомых читателю личностей. Во-первых, Ружа д'Оно, сидевшего в стороне около камина и углубленного по обыкновению в свои мрачные думы; костюм его и на этот раз хотя менее богатый, но все же был чрезвычайно нарядный; но его рыжие волосы беспорядочными прядями прилипли к его мокрому лбу, а лохмотья кружевного жабо болтались по малиновому бархатному жилету с золотыми пуговицами.
Молча, с блуждающими глазами, он не обращал никакого внимания на сарказмы Борна де Жуи, ходившего по обыкновению около него с трубкой во рту и стаканом водки в руках.
На другом конце стола сидела молодая женщина, несчастное существо в лохмотьях с голыми расцарапанными ногами и какой-то рваной тряпкой на голове, и жадно ела; возле нее на скамейке лежал узелок, составлявший все ее имущество, завязанное в дырявый платок. Читатель, верно, угадал в ней Греле, дочь честного фермера Бернарда. Она казалась все еще мало привыкшей к этим собраниям, и видно было, что только крайность вынуждала ее, превозмогая отвращение, оставаться в этом месте.
От времени до времени она оставляла еду, чтобы поцеловать ребенка, лет восьми или девяти, или улыбнуться ему. Мальчик этот был ее сын, нищенски одетый в холщовую рубашку и штаны. На его умненьком и кротком личике видна была тоже радость, между тем как эту радость, видеть мать после долгой разлуки, сильно смущал страх, производимый на него присутствием тут Жака Петивье, на которого он часто и робко взглядывал.
Наконец, в самом темном углу подвала, отдельно от всего общества, неподвижно сидела женщина, вся закутанная в большой черный плащ, и спокойно выжидавшая времени обратить на себя внимание.
Вышедший за несколько минут перед тем из прелестного и мирного домика меревильских дам, Бо Франсуа без удивления и без отвращения вошел в этот грязный притон. Отправив тотчас же Дублета к его стряпне, он смело и твердо вошел в собрание.
Увидав его, большая часть присутствующих встала, разговоры смолкли; но ни одна шапка не приподнялась с головы, ни одна рука не протянулась к нему. Эти люди были выше предрассудков вежливости. Он тоже никому не поклонился, но, узнав в толпе тех, кого искал, выразил удовольствие.
– А, ты здесь, Руж д'Оно, и ты тоже, Жак Петивье, – проговорил он торжественно, усаживаясь на деревянный обрубок, – вернулись уж, и шкуры целы, славно! Ну, что ж успели? Каждый из вас должен мне дать подробный отчет в экспедиции, которой руководил…
Прежде ты, Руж д'Оно, рассказывай, как смастерил ты дело на Сент-Авинской мельнице.
И потревоженный в своих думах Руж д'Оно только медленно поднял голову, видимо, не сознавая еще, чего от него требуют. Борн де Жуи весело подскочил.
– Очень добрые вести, Мег! – вскричал он, – Руж д'Оно с товарищами принесли из Сент-Ави пятнадцать тысяч франков, мешок с драгоценностями, не считая белья и других вещей… Но, как вы и сами видите по расстроенной фигуре Ле Ружа, там было много работы.
– Так и ты, Борн, был в деле?
– Нет, но…
– Уж я думаю, – сухо перебил его Бо Франсуа. – Что ж ты, Ле Руж, о чем так задумался?
Вынужденный наконец отвечать, Руж д'Оно растерянно проговорил:
– Надобно там было согреть старую бабку… а так как маленькая девчонка все плакала, то я ее задавил.
Послышался новый взрыв хохота Борна.
– Что за черт! Расскажи ж наконец, как дело было? – спросил еще раз Бо Франсуа.
Руж д'Оно еще раз постарался поивести свои мысли в порядок.
– Постойте, постойте, – пробормотал он, – слуга, хотевший защищаться, был повален с широкой раной на шее, а кровь-то текла, текла… и везде, и везде кровь!
– Кровь!.. Ай-ай, кровь! – вскричал Борн де Жуи.
– Ну, Руж д'Оно опять за свои бредни, значит, от него толку теперь не добьешься, – нетерпеливо топнув ногой, проворчал Бо Франсуа, – надобно подождать. Ну, а ты, Жак? – обратился он к школьному учителю, – что ты сделал на большой дороге?
Ни один мускул не шевельнулся на лице Жака Петивье и грубым, жестким голосом он ответил:
– Я остановил дилижанс из Рамбулье и отнял у путешественников тысяч двадцать франков… Со мной были Грандрагон, Сан-Пус, Марабу, Борн де Мане и маленький Ляпупе, мой ученик, ведший себя отлично.
– Ладно! Вот это называется отвечать толково; есть у нас раненые?
– Грандрагон ранен в плечо, что заставило нас отнести его к одному из окрестных Франков; но зато мы хорошо отомстили, кроме того плута, выстрелившего в Грандрагона, мы убили еще двух, пытавшихся сопротивляться.
– Ну, тут все в порядке… Дело это хорошо ведено, честное слово, Ле Руж не так хорошо успел… Опускается нынче наш Ле Руж, со своими бабьими нежностями!
Упрек этот вывел наконец Ле Ружа из оцепенения и даже разом поднял его с места.
– Я опускаюсь? Я? Чертовское сонмище! Что за важная штука остановить дилижанс и убить защищающихся путешественников? Но вот дело: жечь несчастную, рыдающую старуху или задавить бедного плачущего ребенка! Посмотрел бы я на кого-нибудь из вас в этом деле. А! Я опускаюсь! Ну так, Мег, вот что, поручите мне первое же дело, где будет работа, и тогда посмотрите, опускаюсь ли я? Ручаюсь, что между вами не найдется разбойника свирепее меня.
И лицо его в это время пылало, а из тусклых глаз положительно лились слезы стыда. (Следует напомнить читателю, что описываемый нами характер Ружа д'Оно исторически верен. У нас перед глазами документы из этого процесса, где говорится, что негодяй этот находил особенное удовольствие перед судом обвинять себя в ужасных, небывалых даже преступлениях и увеличивать те, в которых он в самом деле был действующим лицом.) Бо Франсуа, ожидавший этой свирепой выходки, улыбался только, помахивая своей тросточкой.
– Ну полно, Ле Руж! ведь я пошутил, – начал он дружески. – Ведь я тебя знаю давно, и знаю, чего ты стоишь… Но все к лучшему.
– Теперь, вы там, раскладывайте добычу по частям, потом кинете жребий; только чтоб ни ножей, ни кулаков в деле не было!
Тотчас же все заинтересованные зашевелились и принялись за дележ. Среди общего движения один атаман сидел не шевелясь на своем стуле, готовый наказать малейшее отступление от правил. Несколько человек из присутствующих мужчин и женщин воспользовались этой минутой, чтобы подойти к нему.
– Мег, – сказал подошедший молодой франт, ведший под руку хорошенькую молодую женщину, но с наглым взглядом, – вот Бель Виктуа соглашается выйти за меня по нашим правилам, позволите ли вы мне взять ее?
– А, это ты, Лонгжюмо! – ответил, зевая, Бо Франсуа, – что ж. Если вы оба согласны, то кюре Пегров обвенчает вас в первый же раз, что будет в ложе Мюст, а до тех пор – убирайтесь к черту!
И будущие супруги удалились.
– А я, Мег, – сказал, подходя, другой, – хочу, напротив, развестись с Нанетой, с которой мы не ладим.
– Очень хорошо! вас тоже разведут при первом собрании в Мюст… Только ты знаешь наши правила; так как я не люблю, между собой не ладят бы, то Нанета и ты, получите каждый в минуту развода по двадцать палок; согласен на это?
– Черт возьми! Двадцать палок, – проговорил проситель, почесывая у себя за ухом. – Между тем, чтобы избавиться от Нанеты… К тому же ведь и она получит столько же, как и я… Хорошо, Мег, уж если иначе нельзя, то пусть будет по-вашему!
По удалении недовольного супруга еще несколько человек из шайки подходили к атаману за расправой; но только что Бо Франсуа кончал их дело, как они тотчас же скрывались в толпу, как будто каждый из них боялся надолго привлечь к себе внимание страшного атамана.
Таким образом, Бо Франсуа опять остался один на своем обрубке, служившем ему троном и трибуной, стал опять смотреть вокруг себя. Вскоре пытливый взгляд его упал на Греле с ребенком ее, сидевших за столом.
Сначала он не узнал это погибшее создание, виденное им некогда таким чистым, прекрасным, но вскоре воспоминания его уяснились. Он встал и подошел к бедной матери, дрожа прижимавшей к груди своего ребенка, сказал ей насмешливо:
– Э! Фаншета, Фаншета ля-Греле! Опять вернулась к нам, хоть и долго дулась! Говорят, ты поместилась было на ферме в Этреши и от нас отказывалась; но честность-то, видно, не далеко тебя увела, бедная Греле; а потому хорошо делаешь, что ни на кого более не рассчитываешь, кроме нас.
– Ничего не оставалось делать, Мег, – отвечала несчастная мать. – Люди из шайки узнали и так часто стали ходить ко мне, что довели-таки до того, что хозяева прогнали меня. Я пошла просить милостыню с сыном, вот этим мальчиком, которого они все зовут Этрешским мальчуганом, оттого что мы долго жили в Этреши. В это время мы были очень несчастны; Жак Петивье, встреченный нами на одном из ночлегов около Орлеана, предложил мне присоединить его к другим детям, которых он учит. Я отказывалась всеми силами; я лучше предпочла бы видеть его мертвым, но меня не послушали; ночью, пока я спала на сеновале, у меня увели моего мальчика. Проснувшись на другой день и не найдя его я думала, что сойду с ума; я плакала, кричала, бегала во все стороны, но он пропал у меня; тогда уж я более не колебалась: насколько прежде избегала я встреч с людьми вашей шайки, так же горячо принялась я теперь отыскивать их. Я узнала, что мой сын с другими ребятишками должен быть сегодня в Шартре. Я собрала все нужные сведения, с клятвой обещала все, что у меня просили; наконец вот и нашла я своего дорогого мальчика!.. О, Мег! Не правда ли, вы не разлучите нас больше!
Во время рассказа бедная женщина заливалась слезами, горячо обнимая и целуя своего сынишку, в свою очередь горько плакавшего. Невозмутимо стоял и смотрел Бо Франсуа на эти страдания, на эту скорбь, на это отчаянье.
– Хорошо! – проговорил он, когда Греле замолчала. – Вы с мальчишкой должны стараться приносить какую-нибудь пользу, если хотите, чтобы вам помогали. Ты не много еще нам наслужила, а между тем про тебя говорят, что ты не совсем-то была чиста в Брейльском деле… Что же касается до твоего мальчишки, я сейчас узнаю., стоит ли он, чтобы им занимались.
И обратясь к учителю, считавшему на бочке полученные деньги, проговорил:
– Жак, поди сюда!
Убрав в карман свои деньги, Жак подошел ровным, мерным шагом.
– Как находишь ты Этрешского мальчугана? – спросил Бо Франсуа.
Строптивый педагог нахмурился и инстинктивно схватился за кожаную плеть, висевшую у него на боку.
– Дрянной мальчишка, – грубо ответил он, – никаких способностей! Мать набила ему голову разными пустяками, так что теперь надобно его сечь, чтобы заставить утащить белье с сушильни или схватить в поле заблудившуюся курицу. Если бы у меня все были такие, как он, так хоть отказывайся от ремесла, но, по счастью, я могу назвать мальчиков, хорошо пользующихся моими уроками, например, Ляпупе, Ля Мармот, Лепти Руж де Шертр; из этого же мне никогда ничего не сделать.
И, высказав все это, преподаватель, важно повернувшись, отошел к товарищам.
Слыша эти нелестные отзывы, бедной матери сильно хотелось обнять, расцеловать своего сынишку, но она не смела предаться этому чувству при атамане, казавшемся сильно рассерженным. Положив руку на плечико ребенка, Бо Франсуа устремил на него свои глаза, блеск которых мало кто и из взрослых мог переносить спокойно, и грубо сказал:
– Мы не любим лентяев, слышишь ты, негодный мальчишка! Теперь я позабочусь, чтобы тебе поскорее доставили работу и случай показать усердие, увидим, как ты справишься! Смотри, если споткнешься, обещаю тебе, что сам накажу, помни это.
Этрешский мальчуган, как все его звали, дрожал всем телом, и по бледному личику его катился холодный пот. Новое горе встревожило бедную мать.
– Мег, Мег, вы ничего ему не сделаете… Я вас знаю, и знаю, как страшен ваш гнев… Франсуа, – прибавила она тише, – умоляю тебя, не будь слишком строг к нему, это сын бедной женщины, обязанной тебе всеми своими несчастьями… Ты более чем кто другой обязан быть к нему добр… Если бы ты знал…
Она остановилась.
– Что такое? – спросил Франсуа.
– Ничего, ничего. Но послушай: если мой сын, несмотря на свою молодость, не может привыкнуть к вашей… к вашему ремеслу, согласись отдать его мне… Мы с ним уйдем так далеко, как потащат нас ноги, и никогда ты не услышишь о нас. О, Франсуа, скажи, что ты соглашаешься отдать мне его, и, несмотря на все сделанное тобою мне зло, я буду всю жизнь благословлять тебя. Отдай мне его, умоляю тебя, отдай мне его!
Атаман презрительно улыбнулся.
– Ну, бедная моя Греле! Ты просишь невозможного; твой сын и ты, вы знаете слишком хорошо наши тайны, чтобы я мог отослать вас; даже если бы я это и сделал, то первый же встретивший вас из шайки имел бы право убить вас обоих. Лучше уж оставим это; если только он будет послушен, с ним будут хорошо обращаться, и я надеюсь, что он не заставит меня наказывать его… О тебе же мне сейчас пришла в голову мысль, я придумал, какое дело тебе дать.
И, обратясь к Этрешскому мальчугану, сказал:
– Поди туда, к детям, за маленький стол и выпей там рюмочку или две водки, чтобы быть здоровее да умнее.
– Водки, Мег! – тихо возразила Греле, – он еще так мал!
Повелительный жест заставил ее замолчать, а мальчик, довольный тем, что может избавиться от этой пытки, проскользнул к детям, принявшим его ругательствами и пинками.
Но Греле теперь всецело углубилась в опасность, ей самой грозившую. Так как атаман стоял молча и задумался, то она застенчиво и тихо спросила:
– Так как же, Мег? Чего вы желаете от меня?
– Можно подумать, что уж и боишься! Успокойся, я знаю, что ты очень щепетильна, а потому вначале следует пощадить в тебе это чувство. Твое дело будет из самых невинных. Слушай: здесь недалеко в деревне Сант-Марис есть дом, где мы собирались смастерить хорошее дело… Почти напротив него стоит кабак, из которого можно видеть все, что там делается. Ты пойдешь и поселишься в этом кабаке, старательно будешь замечать всех выходящих оттуда и всякий день будешь сообщать мне, что заметила… Гм! надеюсь, что работа не трудная, будешь иметь хорошее помещение и сыта будешь, но только надобно глядеть в оба глаза!.. Еще вот что, дело это касается меня одного, и ты слова не пикни никому из шайки об этом…
– И больше этого вы ничего от меня не потребуете? – недоверчиво спросила Греле.
– Да. Ведь я уж тебе сказал, что на первый раз я не хочу употреблять тебя в дело, к которому бы ты имела сильное отвращение; это придет потом, само собой.
– И вы обещаете мне, Мег, что я буду видеть моего сына?
– Ты его будешь часто видеть.
– Ну хорошо! – ответила бедняга со слезами. – Нечего делать, если нельзя иначе; но у меня нет денег, и я так бедно одета, что кабатчик меня не пустит.
– Денег немного я тебе дам, а в вещах, которые сейчас будут делить, можно будет найти приличный для тебя костюм.
– В краденое платье!.. – с невольным ужасом вскрикнула Греле.
– Ну, полно ребячиться! Когда будешь готова, я дам тебе последние инструкции; но помни, что кроме тебя и меня, чтобы никто не знал, какое дело тебе поручено.
– И для меня секрет, Франсуа? – проговорил позади него тихий, но твердый голос. – И мне тоже нельзя знать этого?
В это время женщина, закутанная в черный плащ, тщательно до сих пор скрывавшаяся в темном углу, подошла к говорившим. Бо Франсуа, бывший всегда настороже, отскочил и стал в оборонительную позу; но незнакомка, ловко сбросив свой плащ на руку, открыла таким образом стройный, роскошный стан и молоденькое, свежее личико с кокетливо надетым крошечным чепцом.
То была Роза Бигнон, жена Франсуа; неожиданное явление это, казалось, более удивило, чем обрадовало мужа.
– Опять ты, Роза? – спросил он в замешательстве. – В самом деле, я никак не ожидал… Греле, оставь нас! – обратился он к Фаншете, с жадным любопытством смотревшей на молодую женщину. – Уходи с сыном!







