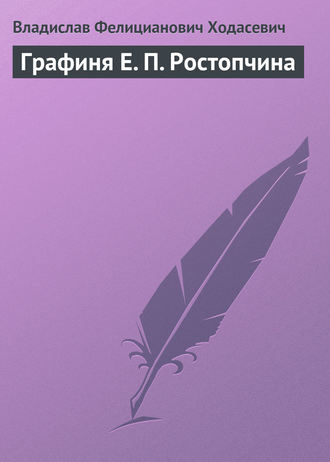
Владислав Фелицианович Ходасевич
Графиня Е. П. Ростопчина
Первые бальные триумфы Додо совпадают по времени с первыми литературными успехами, впрочем еще не простирающимися за пределы «своего» круга. Изящные, легко написанные, часто импровизированные стихи ее ходят по рукам; случается, через одного из родственников – Н. П. Огарева, – попадают и кружок Герцена. Друзья, знакомые, университетская молодежь – все остаются довольны свежестью и прелестью таланта. Стихи заучиваются наизусть. Герцен пользуется ими в своих письмах.
В 1830 году кн. П. А. Вяземский взял у нее стихотворение «Талисман», и оно появилось в Северных Цветах 1831 года за подписью Д-а. Для начинающей поэтессы попасть в Северные Цветы было весьма почетно. Но бабушка и тетки нашли, что выступления в печати для светской, хорошо воспитанной барышни неприличны, и в дальнейшем стихи Додо стали вновь появляться в журналах только после замужества, подписанные то Гр-ня Е. Р-на, то просто а. Зимой 1836 года Ростопчина сблизилась с кружком петербургских литераторов, в числе которых были: Жуковский, Пушкин, Плетнев, Вяземский, гр. Соллогуб. В это время Плетнев писал И. И. Дмитриеву о том, как «московскую Сафо» хорошо приняли в Петербурге, «что довольно редко бывает с новоприезжими, особенно из Белокаменной». На собраниях у Соллогуба, куда женщины вообще не допускались, для Ростопчиной делалось исключение. Стихи ее брались журналами нарасхват. Не только публика, но и писатели ценили их высоко. Несколько позднее, 25 апреля 1838 года, Жуковский писал ей:
«Посылаю Вам, Графиня, на память книгу, которая может иметь для Вас некоторую цену. Она принадлежала Пушкину; он приготовил ее для новых своих стихов, и не успел написать ни одного; мне она досталась из рук смерти, я начал ее; то, что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и докончите эту книгу его. Она теперь достигла настоящего своего назначения. Все это в старые годы я написал бы стихами, и стихи были бы хороши, потому что дело бы шло о Вас и о Вашей поэзии; но стихи уже не так льются, как бывало, – кончу просто: не забудьте моих наставлений; пускай этот год уединения будет истинно поэтическим годом вашей жизни».
Наконец, в 1840 году Плетнев восторженно предуведомил читателей Современника о предстоящем выходе книги «Стихотворений Графини Е. П. Ростопчиной», а в 1841 году книга появилась в продаже. Журналы встретили ее громкими похвалами. Греч и Полевой хвалили Ростопчину в Русском Вестнике, Булгарин – в Северной Пчеле; в Сыне Отечества Никитенко писал, что «сфера ее идей принадлежит современному поколению: это большею частью тревоги и страдания неудовлетворенного бытия»; Шевырев расточал похвалы в Москвитянине. Хвалил книгу и Белинский, но отмечал при этом в поэзии Ростопчиной власть бала и сожалел, что ее думы и чувства не нашли «более обширную и более достойную сферу, чем салон».
С легкой руки его Ростопчина так и перешла в историю русской поэзии поэтессой салонной, бальной. Приговор оказался единственным и окончательным. Слова Белинского повторялись и повторяются до сих нор как неопровержимая истина. Однако при этом упускают из виду, что Белинский, когда писал о Ростопчиной, знал о ней несравненно меньше, чем можем знать мы. Ее поэзия исчерпывалась для него одной первой книгой. О героине романа судил он лишь постольку правильно, поскольку можно судить о ней, прочтя первую главу и не зная последующих. Наконец, как современник, он не мог рассматривать ее поэзию в связи с ее жизнью, а между тем, именно когда дело касается Ростопчиной, это должно приводить к еще большим ошибкам, чем в иных случаях.







