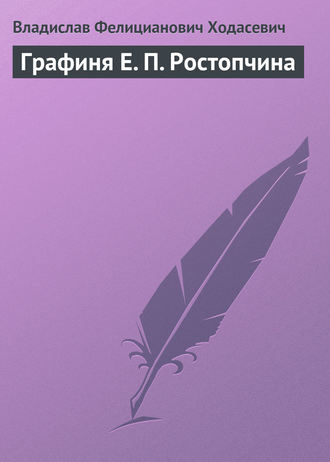
Владислав Фелицианович Ходасевич
Графиня Е. П. Ростопчина
Ей предстояло испытать много тяжелого. Брак был несчастлив. Помимо того, что он был заключен без любви со стороны Евдокии Петровны, существовали тому и еще какие-то причины, на которые смутно намекает брат поэтессы, С. П. Сушков, в биографическом очерке, им написанном. Впрочем, он говорит, что распространяться на эту тему «бесполезно». Достоверно известно лишь то, что Ростопчин был на три года моложе своей жены, то есть женился девятнадцати лет, что был он человек с какими-то «странностями», что о жене думал он мало, более времени уделяя то конскому заводу, то собиранию картин, что до 1836 года, когда граф ездил на минеральные воды, детей у них не было. В общих чертах показания эти подтверждает и Л. Ростопчина, дочь поэтессы, в своей «Семейной хронике». Она характеризует отца как гвардейского «шалуна», кутилу, рано истаскавшегося, лысого в 19 лет и проч.
По стихам Ростопчиной можно проследить всю жизнь ее, как по дневнику. Писала она много. Но в собрании ее стихов нет ни строчки, написанной между августом 1832 и январем 1834 года. Вероятно, того, что было написано во время сватовства и в первые месяцы брачной жизни, проведенные в деревне, она не считала возможным печатать. Как бы то ни было, в книгах ее весь этот период отмечен молчанием, и вслед за ним, как вздох облегченной усталости, звучат первые слова следующего отдела:
Подчас, измучившись тоскою,
Тяжелым сном душа замрет,
И много дней своей чредою
Над мертвой время пронесет…
Но если вдруг она очнется…
III
Подобно Ненскому, мужу «Счастливой женщины», Андрей Федорович не препятствовал жене своей жить, как ей нравится. Поскольку позволяли светские приличия, он не мешал ей. Ростопчина «очнулась» зимой 1834-35 года, в Москве, и, конечно, на бале. В это время, выстрадав, видимо, много и со многим примирившись, писала она какой-то «Прежней наперснице»:
Дитя, вопросами своими,
Молю, мне сердца не пытай!..
Боюсь, что, соблазнившись ими,
Проговорюсь я невзначай…
Нет! Нет! Я гордого молчанья
Навек дала благой обет…
Не лучше ль утаить страданья,
Которым исцеленья нет?..
Не лучше ли предстать на бале
С улыбкой, в полном торжестве,
Чем жертвою прослыть печали
И на зубок попасть молве?
Увидя раннее крушенье
Своей надежды и мечты,
Поверь, – умно искать забвенья
В чаду и шуме суеты.
С этой поры бал окончательно завладел Ростопчиной. Оказалось, что это и есть то место, где так хорошо скрываются причины тоски, где романтические мечтания с волнующей и хрупкой скудостью осуществляются в действительности. Кавалеры в плащах Чайльд-Гарольда, учтиво-красноречивые взгляды, томная струнная музыка, «игра страстей» под маской холодности, рукопожатия, многозначительные и как будто случайные улыбки, разом и обещающие и небрежные, легкие любовные шалости, которые неизвестно еще, к чему приведут, словом, все то, что делает каждый бал немного маскарадом, – все это пленило ее. Бал сделался для Ростопчиной чем-то вроде «искусственного рая», причудливым синтезом быта и бытия, созвучием двух голосов, из которых, говоря ее же словами, один, «обворожив, на небо увлекает», другой «к быту земли приковывает нас».







