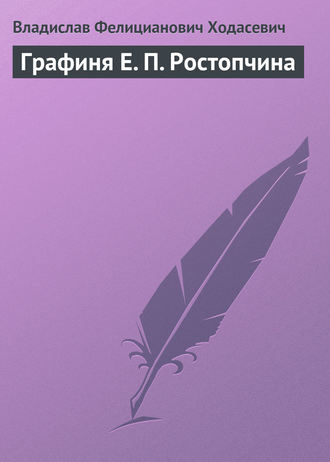
Владислав Фелицианович Ходасевич
Графиня Е. П. Ростопчина
Возможно, впрочем, и то, что стихи «Неизвестного романа» и были написаны в конце тридцатых годов, но только впоследствии снабжены предисловием и напечатаны. Если это было так, то предложенная нами догадка еще более правдоподобна.
Окончательное решение этого вопроса – в письмах, бумагах и черновиках Ростопчиной. Они хранятся и Московском Румянцевском музее, но доступ к ним ныне закрыт теми же, кто их туда пожертвовал: закрыт по причинам, ничего общего с литературой не имеющим.
VI
В 1847 году Ростопчина вернулась в Россию. Встреча с былыми друзьями и поклонниками оказалась нежданно холодной, – и вот отрывок из «Песни возврата»:
…Кто здесь мне рад?
Кто встретил мой приезд благословеньем?
Кому нужна я? Чей тоскливый взгляд
Меня искал с желаньем и томленьем?
И без меня обычный жизни лад
Всех веселил вседневным треволненьем…
Прошли два года без меня – и что же?
Минувшего забыт и самый след!
Два года… для людей!.. для светских!.. Боже!
То более, чем сотни сотней лет
Для вечности Твоей!..
Ростопчина ошибалась, виня во всем одну только забывчивость света. Были другие, гораздо более значительные причины холодности.
Слишком погруженная в свои «женские» и поэтические дела, слишком часто их смешивая, она не замечала того движения, которое совершалось в русском обществе. Она была наивно уверена, что дело обстоит так: после двухлетнего отсутствия и путешествия она, тридцатишестилетняя красавица и всеми признанная «московская Сафо», возвращается на родину. Но она упускала из виду момент своего возвращения: ведь это был 1847 год. В ее отсутствие на многое стали смотреть по-новому. Столь же поверхностен был ее взгляд на отношения с критикой. Она полагала, что критики просто «забыли» ее, графиню Ростопчину. В действительности в самой литературе русской началось торжество новых течений. Внешним выражением происходящего перелома был тот факт, что именно в этом году основанный Пушкиным Современник перешел к Панаеву и Некрасову.
Тогда она попыталась прибегнуть к наивному средству: в надежде, что все как-нибудь уладится, и не сознавая, что это невозможно, она стала вести себя в литературе как в светском салоне. Чувствуя общее недоброжелательство, старалась она делать вид, что его не замечает. Но уже вскоре тактику эту пришлось оставить и забаррикадироваться в погодинском кружке. При помощи того же Погодина ей даже удается собрать довольно пышный салон, стоящий в стороне от современных ему течений. Отсюда, из этой импровизированной крепости, собирается она делать вылазки, защищать идеалы своей молодости «от германистов, реалистов, грязистов и всей пресмыкающейся пишущей братии», как выражается она в одном письме.
В следующем, 1848 году тревога окончательно овладевает ею, и она пишет Погодину, что теперь «не до поэзии, особенно не до женской». Теперь ей «хотелось бы на часок быть Богом, чтобы вторым, добрым потопом утопить коммунистов, анархистов и злодеев; еще хотелось бы быть на полчасика Николаем Павловичем, чтобы призвать на лицо всех московских либералов и демократов и покорнейше попросить их, яко не любящих монархического правления, прогуляться за границу».







