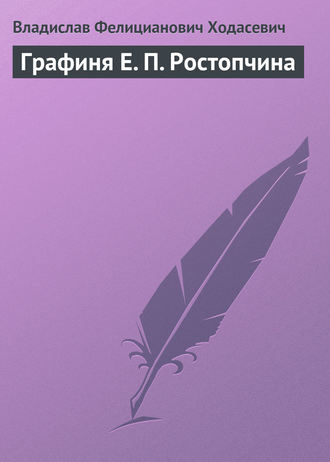
Владислав Фелицианович Ходасевич
Графиня Е. П. Ростопчина
И вот из-под власти этого очарования она уже никогда не могла выйти. Пленное воображение ее неутомимо создавало образы мучительные и прекрасные. Светская барышня превратилась в даму, все еще не забывающую прежних мечтаний. Пока героиня романа была девушкой, она свободно и просто тянулась к радости; теперь, когда она сделалась дамой, настало для нее время новых сомнений: мечты о личном счастии столкнулись с законами супружеского долга и со страхом перед так называемой «беспощадностью света». В этих сомнениях, в этой внутренней борьбе, молчаливой и гордой, почерпнула Ростопчина новые страдания, новую боль и радость, новые мотивы для своей лирики.
В старозаветных романах между сакраментальной фразой: «она почувствовала, что готовится стать матерью» – и «первым, слабым криком ребенка» всегда лежит область тумана и молчания. В поэзии Ростопчиной промежуток времени с ноября 1836 до октября 1837 года отмечен таким молчанием и совпадает с беременностью и рождением первого ребенка. Но уже с октября 1837 года, как и в предыдущую зиму, находим Ростопчину в Петербурге.
Здесь ей суждено пережить любовь, уже по всем пунктам обставленную законами бала. Уже ей приходится признаваться в «Разговоре во время мазурки»:
Хоть я и говорю: «никто и никогда!» –
Я так неопытна, пылка и молода,
Что, право, за себя едва ли поручусь я.
Мне страшно слышать вас…
Теперь ей снова приходится идти наперекор себе, вновь заглушать любовь, «страшась волнений страсти», и, наконец, после долгих томлений, сказать:
Все кончено навеки между нами…
И врозь сердца, и врозь шаги…
Хоть оба любим мы, но, встретившись друзьями,
Мы разошлися, как враги.
…………………………………………….
Я шуткою ответила небрежной.
Он встал… во взорах гнев пылал…
В душе, в груди моей был плач и стон мятежный,
Он ничего не увидал!
Он не видал, как сердце билось больно
Под платьем дымковым моим…
Он не слыхал страданья вопль невольный
Под женским смехом заказным!
Банальные слова? Верно. Банальная развязка маленького романа? Верно и это. Но какой прекрасной, человеческой болью звучат признанья тех дней! Какие скорбные порывы, какие грустные мысли:
Любовь – то завтра, то вчера,
Живет надеждой и утратой.
Банальная героиня, банальный гвардейский герой! Но какой вечно прекрасной скорбью разлуки он освящен:
Вы вспомните меня когда-нибудь… но поздно,
Когда в своих степях далеко буду я…
Когда надолго мы, навеки будем розно –
Тогда поймете вы и вспомните меня…
Проехав иногда пред домом опустелым,
Где вас всегда встречал радушный мой привет,
Вы грустно спросите: «Так здесь ее уж нет?» –
И, мимо торопясь, махнув султаном белым,
Вы вспомните меня.
И каким вечным, священным памятником над «могилой любви» останутся тихие слова посвящения, сказанные много позднее, через целых семнадцать лет:
Тебе воздвигнут храм сердечный,
Но милым именем твоим
Не блещет он: под тайной вечной
Ты будешь в нем боготворим.
IV
Не в литературном салоне, не в редакции журнала, а на бальном паркете, под знаком «света» встретилась Ростопчина с двумя великими поэтами: в 1829 году, на бале у кн. Голицына, с Пушкиным и около того же времени, у кузин Сушковых, с Лермонтовым.







