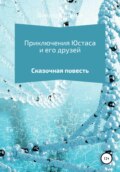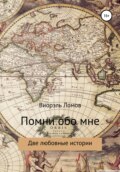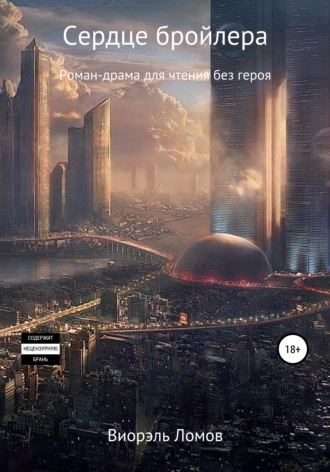
Виорэль Михайлович Ломов
Сердце бройлера
2. У «задохликов» с «болтунами» нет будущего
После третьего курса Настя устроилась на полставки рабочего в учхоз. Проработала лето, а когда начались занятия, все свободное время пропадала там. За это ей ежемесячно платили вначале пятнадцать, а потом двадцать пять рублей. Из них рублей пять уходило на один только транспорт.
Маточное стадо уток насчитывало полторы тысячи голов. «На мясо» выращивалось еще сорок тысяч утят. Век утиный короток, а потому каждый день начинался у них с еды и заканчивался едой. Собственно, как театр начинается с вешалки, так и птицеферма начинается с развешивания кормов.
Все лето Настя была «на кормах». Конечно, ей больше нравилось возиться с утками не в длинных низких помещениях, где от крика закладывало уши, а на водном выгуле, огороженном металлической сеткой. На берегу пруда стояли огромные чаны, в которых готовилась «мешанка», и надо было постоянно что-то таскать, взвешивать, мешать, раскладывать, разносить… Утки были страшно прожорливы (чуть-чуть – и съели бы Советский Союз, как когда-то овцы съели Англию) и каждый день, понятно, требовали свое в громадных количествах. Им, в меру своих сил, помогали еще и воробьи. Тьма их выводилась в застрехах утятника, и все они были сколочены в плотные дружные стайки. Насте нравились воробышки, и она махала на них рукой любя.
За двукратным кормлением птицы влажной «мешанкой» и раздачей зерна утром и на ночь у самой Насти иногда за день макового зернышка не попадало в рот. Одно утешало, что человеку жир менее полезен, чем утке – будь она с яблоками или в том же «бялеше». Мама так вкусно готовит это татарское блюдо! Тесто пропитывается жиром, корочка сочная, хрустящая, а прожаренная начинка из картошки, лука и кусков утки так и тает во рту! Косточки – и те как сахарные! Как есть хочется! А эти – обжоры несчастные!
Утиный рацион был королевский – от витаминов до рыбьего жира. Будто уток готовили не с яблоками, а в палату лордов.
Символически птичнику ближе всего подошли бы песочные часы – сверху глотка, снизу клоака. Впрочем, как и всему остальному человечеству. Как все пройдет насквозь, так и время твое закончится.
Зимой работать приходилось в помещении, и тут мешки и ящики не надо было уже возить и таскать на такие расстояния. За год Настя перелопатила сотни тонн кормов и выкормила десятки тонн жирного утиного мяса. Да и утки охотно шли ей навстречу и старались каждая на своем месте съесть как можно больше, чтобы своим привесом порадовать страну.
***
Прилежание и трудолюбие студентки не осталось без внимания и со стороны людей. Когда в учхоз приехал заведующий кафедрой частной зоотехнии, профессор Толоконников, ему хорошо отозвались о студентке Анненковой. Толоконников поговорил с ней (он помнил ее по занятиям) и оформил ее на кафедру лаборанткой. Григорий Федорович с дальним прицелом делал это: со временем в кафедру надо было вливать свежую кровь. Ему уже давно приглянулась эта умненькая и, по всему, настырная девушка. Да и мать у нее, того и гляди, в «номенклатуру» заберут.
С осени, на пятом курсе, Настя занялась лаборантской работой. Она приходила на кафедру первая и покидала ее последней. В свободное время она изучала методические пособия, специальную литературу, читала курсовики, дипломные работы, авторефераты диссертаций. Такой энтузиазм, разумеется, вызывал некоторое неудовольствие у старого лаборантского состава, но открыто его никто не выражал. Ничего, год потерпеть можно – да и самим меньше работы: посуда вон вся чистая, блестит! Диплом защитит, а совхоз быстро ее уму-разуму научит!
Григорий Федорович как-то в середине ноября задержался на кафедре, усадил напротив себя Настю и стал объяснять, чем ей предстоит заняться, какую литературу почитать и какие методики освоить.
– А я уже, Григорий Федорович, все это прочитала и освоила.
– Да не может того быть! Когда?
– Да ведь два месяца уже прошло…
– Да? Ну-ка, ну-ка, покажите, как вы меряете, скажем, сопротивление разрыву подскорлупной оболочки?
Показала.
– А, скажем, раздавливанию?
Тоже показала.
– Что, и…
И это показала!
А когда Настя произнесла слова «стандартная методика Когана-Бергмана», неведомые старшей лаборантке Садыковой, профессор, как говорится, и вовсе «отпал».
– Я и биохимию освоила! – не удержалась Настя. Она раскраснелась, глаза ее горели восторгом.
– Умница! – не удержался и профессор. – Настя, вы уникум! Первый раз такое встречаю! Когда вы успели освоить все это?
– У меня же, Григорий Федорович, целых два месяца было!
– Хорошо, продолжайте в таком же духе. Два месяца! За два месяца иные два раза не почешутся. Я вам завтра дам список литературы. Диплом будете делать у меня, на базе Черноярской инкубационно-племенной станции, инкубатора, одним словом. Знаете, что это такое? Вы все знаете. Займемся благородным делом – выведением утят. Женское, кстати, дело! А нормально пойдет, курами займемся. Бройлерами. Это потом.
Насте стало страшно любопытно, что означало это «потом», но она сдержала себя и согласилась:
– Хорошо – потом!
Толоконников засмеялся. В отличном расположении духа он проводил девушку до ее дома, помахал по-приятельски рукой и, насвистывая, отправился к себе. Он тоже жил неподалеку от института.
***
Женское дело, выведение утят, было благородно во всем, кроме запахов.
В инкубаторе стояла страшная вонь от протухших неоплодотворенных яиц – их называли по-простому «болтунами», от яиц с «кровяным кольцом», от так называемых «задохликов», от замерших эмбрионов. О жаре в инкубаторе как-то даже не думалось, но вонь Настю здорово доставала. Недели полторы она перемогала себя и свою природную брезгливость к неприятным запахам. Но когда занялась изучением связи морфологических особенностей утиных яиц с их инкубационным качеством и с головой ушла в измерения и анализы с утиными яйцами и эмбрионами, во взвешивания, подсчеты, описания и другие операции, она вонь перестала чувствовать. Вонь осталась снаружи, а мысли ее были ясными и свежими, как горный воздух, как мысли всякого молодого талантливого ученого, занятого только лишь поиском истины. Уже через три месяца Настя обратила внимание на то, что больше всего замерших эмбрионов и «задохликов» оказывается в яйцах, имеющих удлиненную эллипсоидальную и удлиненную яйцевидную заостренность концов. Толоконникова заинтересовала эта особенность.
– Вот уже готов и диплом, – сказал он, проглядывая данные и подставляя в полученную Настей формулу какие-то одному ему ведомые значения.
– Как готов? Я еще к нему не приступала.
– А вот так и готов. Думаю, многие аспиранты были бы счастливы получить такой результат. Вы, Настя, еще так не искушены в жизни!
– Это плохо? – серьезно спросила Настя.
– Не знаю. Наверное, хорошо. Нет, это удивительно!
– Что? – встревожилась Настя.
– Все точки ложатся на кривую. У вас легкая рука.
– Вы еще говорили: светлая голова, – засмеялась девушка.
– И светлая голова, – профессор задумчиво глядел на дипломницу. Сколько их было у него: студенток, дипломниц, аспиранток – а вспомнить некого! Вот уж верно: понятливу девку недолго учить. По аналогии с «задохликами» и «болтунами», все они поделились в его памяти на две категории отходов, а ученый так ни один и не вывелся!
– У «задохликов» с «болтунами» нет будущего! – как бы сделав открытие, произнес он.
Настя засмеялась. На нее падал свет настольной лампы. У нее были красивые черные глаза и правильные черты лица. Профессор невольно обратил внимание на ее руки, лежащие на столе без движения. Он раньше не обращал на них внимания – они были у Насти вечно заняты какой-то работой. Руки ее были несколько полные, имели красивую форму, а кожа была удивительно чистая и упругая. Как пленка у яиц, подумал Толоконников.
– Да какое же у них будущее? – поддержала профессора Настя. – Будущее за нормальной полуэллипсоидальной формой!
– Умница.
Толоконников не мог оторвать от девушки глаз и уже на уровне разума, а не случайных проблесков чувственности, сказал сам себе: да, Настя – истинная красавица, кровь с молоком! Все при ней: и ум, и краса, и стать – бывает же такое! А ты, старый пень, ничего другого сказать не можешь, кроме как: «Приготовьте, пожалуйста, биометрические показатели формы и размера яиц пекинских уток – для нормальной формы». Да таких биометрических показателей у самых первых красавиц Москвы и Ленинграда не сыскать! Да с ней только в «Славянском базаре» гулять да с Эйфелевой башни смотреть на Париж! Эх, Гриша, Гриша! Несла баба на базар корзину с яйцами да размечталась!..
Толоконников улыбнулся. Настя заметила это.
– Вспомнили что-нибудь смешное? – по-детски непосредственно вырвалось у нее.
– Очень!
3. Развитие взаимоотношений
После института Анненкову оставили на кафедре, и она стала готовиться к поступлению в аспирантуру к профессору Толоконникову. Настя с блеском защитила дипломную работу. Председатель квалификационной комиссии назвал ее «феерической». За полгода она опубликовала статью в трудах Нежинского СХИ и выступила с весьма содержательным докладом на ежегодной конференции по итогам научно-исследовательской работы. Толоконников на заседании кафедры поставил ее в пример двум своим аспирантам, и у него вырвалось:
– Интересно будет, кто из вас защитится вперед – вы или она?
Стране нужна была птица. Разумеется, домашняя. В живом виде «яичная» да еще та, что на ВДНХ, а в «убойном» вся прочая «мясная», и чем больше, тем лучше. С каждым годом птичьего мяса требовалось все больше и больше, а его становилось все меньше и меньше, будто его пожирала некая социальная раковая опухоль. В те годы много говорили и писали о бройлерах, как некоей панацее от всемирного голода. За рубежом бройлеры произвели сенсацию, с ними начался продовольственный бум. Еще бы: привес по килограмму в месяц!
Толоконников, как и обещал, отдал Анненковой заветный сектор своих личных пристрастий и интересов. Тем более, на него нужны были силы и запал.
Едва Настя сдала экзамены и ее приняли в аспирантуру, она с ходу занялась проблемой бройлерства. Она знала о ней от Григория Федоровича. Но когда Анненкова ближе познакомилась с достижениями мирового птицеводства, они поразили ее. «Что же это мы занимаемся вчерашним днем?» – подумала она.
Два-три раза в год Анненкова ездила в Москву на ВДНХ, в Ленинку и в Загорский институт птицеводства. На ВДНХ Настя изучала плакаты, планшеты, проспекты, осматривала стены и закоулки павильонов, аккуратно переписывала заинтересовавшую ее информацию в тетрадочку. На Анненкову стали коситься в павильоне, как на ненормальную. Раз даже подошел мужчина в сером костюме, вежливо пригласил ее в служебную комнату и попросил показать документы. Потом с улыбкой извинился за доставленное ей беспокойство.
В Ленинке по письму Нежинского СХИ Анненковой выписали пропуск в научный и диссертационный залы, и она неделями сидела там безвылазно, с досадой отвлекаясь на буфет или пирожковую. В десятом часу вечера выходила на свежий воздух, ошалевшая и радостная от новых фактов и мыслей. Когда Настя возвращалась поездом в Нежинск, она вспомнила вдруг, что молодой человек Вася, который сидел в диссертационном зале за соседним столиком, собирался проводить ее на вокзал, а она совсем забыла о нем!
***
Григорий Федорович любил говорить с Настей не только на научные темы. Затрагивал он и «высшие» материи, в частности, литературу и искусство.
– Если Союз писателей направить на птицефермы, – говорил он, – хотя бы одно только его поэтическое отделение – сколько же не будет написано стихов! Какая будет экономия бумаги, краски, клея, критических статей, труда наборщиков, читательского терпения! Сколько бессонных ночей, отданных музам, будет отдано сну. Сколько женщин обретут свое земное счастье! Сколько будет не выпито водки на презентациях сборников стихов и насколько здоровее станет нация! Не будет ни диссидентов, ни лауреатов, ни домов творчества, ни съездов, не будет долгих зимних запойных ночей и полураздетой девы на подоконнике при полной луне, не будет тени Пегаса на горизонте и стакана с хорошим крепким вином, а лучше, с водкой в руке. Не будет раздвоения сознания, бреда и шизофрении. Не будет в момент пробуждения от сна шустрых слов, разбегающихся из сознания, как тараканы с кухонного стола. Ничего не будет! И ты знаешь, Настюша, с тобой я пересмотрел даже свой взгляд на женщин и на все, что с ними связано.
– А с ними все связано, – вырвалось у Насти.
Григорий Федорович молодился, но Настя знала, что значит запустить козла в огород. У руководителя глаза блестели, как новые. Хотелось, хотелось Григорию Федоровичу тайком от суровой супруги Натальи Васильевны, а еще пуще от ярой блюстительницы нравов доцента Дрямовой, найти в аспирантке Настеньке не только преданного ученика, но и благодарную ученицу. Но никак не получалось у него с подходом. Не пристать большой барже к небольшому, хоть и заветному причалу! Не половить в тихом омуте на спиннинг чертей. Что ж тут поделаешь: большие суда должны идти фарватером, а не сворачивать налево к заливным лугам.
– Засиделись мы тут с вами сегодня! Что-то мне захотелось, Григорий Федорович, холодного поросенка с хреном, а? Люблю резать его тупым ножом! А то еще сациви из осетрины. Сациви, Григорий Федорович, это и соус, и сама рыба. Они готовятся отдельно, как жених с невестой. На одной плите варится из осетра бульон, на другой в оливковом масле жарится осетр. Хотя это, я гляжу, явно не для мужского уха.
– Это явно для мужского желудка, – проглотил слюну Григорий Федорович. – Особенно в восемнадцать тридцать. Ну, и кто ж тут жених, а кто невеста – среди сациви и осетра?
– Как скажете, Григорий Федорович, так и будет. Вы же, в конце концов, мой научный руководитель или я ваша?
Научный руководитель было протянул руки к своей аспирантке, но та решительно пресекла старческие поползновения.
– Григорий Федорыч! Григо-орий Фе-едорыч! Ай-я-яй… Что о нас подумают люди?
Какие люди, какие люди?! У профессора тряслись руки, и не только от старости и употребленного в прошлом алкоголя, но и от грядущих сказочных утех.
Утех, увы, не последовало.
– Договоримся, Григорий Федорыч, на берегу. На котором на нас глядит из окна Наталья Васильевна. Вон она.
– Где? – испуганно отпрянул от аспирантки научный руководитель.
– Вот и я о том же. Когда она перестанет пугать вас своим умозрительным присутствием, тогда и поговорим. А пока обсудим выводы.
Когда перестанет пугать, тогда будет уже поздно о чем-либо говорить, подумал старый профессор. Каждый день на счету!
Вот так однажды строгая Наталья Васильевна и бдительная Вера Павловна чуть не потеряли Григория Федоровича, хотя потерю его, как супруга и высокоморального руководителя коллектива, они бы вряд ли почувствовали, так как давно перестали обращать внимание на такие пустяки. А забота о старости, что ж, она всегда была в почете. Пусть девочка покормит проголодавшегося дедушку сациви из осетрины и обещаниями из жар-птицы.
Впрочем, для Настиной диссертации это имело несомненно положительный народнохозяйственный эффект, так как нерастраченная энергия руководителя позволила сцементировать выводы.
4. Защита – лучшее средство от нападения бедности
Защиты диссертаций проходили в зале заседаний Ученого совета, который располагался в модернизированной пристройке к административному корпусу сельхозинститута. Издали сочетание огромных стекол пристройки с крепостными валами старого здания несколько резало глаз, но осознание того факта, что архитектура – это застывшая музыка, потом этот же глаз и успокаивало.
В зал заседаний можно было войти либо, как триумфатору, центральным входом, завешанным красным плюшем, для чего надо было обогнуть здание по улице и подняться по мраморной лестнице с дубовыми перилами на второй этаж, либо, как своему человеку, более коротким путем прямо из предбанника ректора через уютную потайную комнатку. Из комнатки сквозняком можно было попасть в зал заседаний, а если с поворотом на девяносто градусов – в банкетный зал. Банкетный зал, в свою очередь, имел прямое сообщение с залом заседаний по закону сообщающихся сосудов: чем больше воды было в заде заседаний, тем больше пили в банкетном.
Члены Ученого совета, оппоненты и научный руководитель диссертанта, как свои люди, из административного корпуса попадали в зал заседаний коротким путем, путем ректората. За потайной комнатой закрепилось название «Сезам». Стоило легонько стукнуть в драпировку на дверце, сказать: «Сезам, отворись!» – и «Сезам» отворялся. Появлялся импозантный мужчина, распорядитель банкетов и прочих торжеств. Фамилия его была Живчик и когда-то, говорят, она соответствовала его темпераменту. За многие годы, отданные церемониям, Живчик обрел осанистость и несмываемую никакими невзгодами улыбку на лице. Никто из научной элиты толком не знал его имени и все обращались к нему либо «Вс-вс-вс…», либо «А! хм, н-да, ович!», либо просто по созвучию: «Голубчик!» К слову, звали его Василий Александрович. Словом, он был то, что надо. Старался все эти годы на совесть. С его совести И.Е. Репин вполне мог бы написать картину маслом, размером в полстены «Сезама», под названием «Апогей заседаний Ученого совета СХИ».
В банкетном зале, разумеется, все располагало к радости. Выпивка и закуска, понятно, шли за счет «подзащитного», сервировка и атмосфера творились Живчиком. Бутылок на столах не полагалось. Бутылки Живчиком отвергались. На бутылках может быть пыль, микробы. Без дегустации в них самих может оказаться подделка или суррогат, не говоря уж о всяких неожиданностях: джиннах, записках, жемчужинах. Бутылки – это порождение плебса, а в этом зале, что вы, были только аристократы духа! Поэтому никаких бутылок! Никаких! Разве что сразу же после защиты – шампанское. Из ведерок со льдом. Только так, настоял некогда Живчик. И ректор его одобрил.
На столиках в хрустальных графинчиках маслянисто поблескивал ликер, терялся на фоне мебели из натурального дерева, но угадывался коньяк, водка застыла академически холодно и строго. Вкусы были учтены все. Тут же в кувшинах стояли соки и воды, напитки и морсы. Краснела клюква, присыпанная сахарком. В бочоночке таилась моченая брусника. На блюдах в разноцветной теплой гамме лежали нарезанные, свернутые крест-накрест и в трубочку круглые, овальные и квадратные куски завяленного и прокопченного мяса. Впечатляли с морковными цветочками и веточками свежей петрушки заливные пласты языков и студня. На отдельном, похожем на шахматный, столике лежали бутерброды с красной икрой и, отдельно, с черной. В более прохладной гамме тускло отсвечивали рыбные блюда. В центре стола, как бы в назидание теме нынешней диссертации (мол, вот какое можно при желании приготовить блюдо!), в крохотных глиняных горшочках поджидал почитателей изысканной и благородной пищи нежнейший жюльен из птиц. Ученые еще до защиты имели возможность из «Сезама» увидеть в полуоткрытую дверь накрытые столы банкетного зала и уронить первую слюну. Слюну хорошо ронять в банкетных залах – она не долетает до пола. Плохо в студенческих столовых – можно поскользнуться.
В «Сезаме» было скромнее, но скромность в предвкушении скоромного это такая мина! В таких же графинчиках был тот же ликер, коньяк, водка, а из закусок лишь яблоки да бутерброды с икрой. Из представленных напитков прежде других в глаза бросалась водка. Водка – это академизм. Кстати, в магазине неподалеку под вывеской «Элитные напитки» в самом центре витрины располагались именно русские водки. Сразу было видно, что расставляла их родная рука.
Успокоив взглядом графины с ликером и коньяком – мол, все еще впереди, разлили водочку, опрокинули и тут же руки потянулись к черной икорке. Это уже инстинкт. Обсудили, весело глядя друг на друга, тот удивительный факт, что у такой белой осетрины такая черная икра и, поскольку дам в «Сезаме» не было, что у дам бывает такое же.
Надо отметить, все присутствующие были люди ученые, и в зал заседаний добрая половина из них шла, предварительно тяпнув по рюмке-другой из своих закромов. Все-таки налегать на горячительные напитки до защиты был моветон, бросалось в глаза, а пропустить в «Сезаме» хоть и по пузатой рюмке, согласитесь, было маловато. Все-таки в зале заседаний предстояло сидеть часа три-четыре, а то и все восемь, и слушать, кто на что горазд. И не просто слушать, а еще и задавать вопросы, выносить решение и, главное, не испортить себе последующий банкет долгим и скучным ожиданием. Эти предварительные две-три рюмочки были совершенно как два-три полешка в печурке с изразцами морозным вечером на зимней даче (у кого она есть). Покой в душе и тепло в желудке гармонировали с ясностью мысли.
Путь к сердцу оппонента – известный путь. Оппонент (к слову, не каждый) отличался от членов Ученого совета только тем, что не позволял себе лишней «предварительной» рюмки. Как-никак прокурорская должность. Благодушие оппонента зависит от сочетания в нем природных жалостливости и желчи, удобрений, вскормивших его талант, скрытых достоинств и явных промахов диссертационной работы и, разумеется, от банкетного церемониала. Ректор вуза, тонкий ценитель и гурман, хорошо разбирался в человеческих слабостях, иначе бы он не был ректором. Оппонент обязательно должен не только увидеть, но и слегка «окунуться» в атмосферу банкета до церемонии защиты. Поэтому стопочка в «Сезаме» и вид банкетного зала не повредят! На всем протяжении защиты тонкий аромат и золотистые видения грядущего банкета не позволят забыться оппоненту и резким выступлением перечеркнуть радость последующих минут.
Ну, как тут не помянуть лишний раз знатока и мастера банкетных церемоний Живчика, чье имя многими вспоминается с трудом. За ненадобностью. Василий Александрович принадлежал к тем безымянным, чьими руками выстроено столько дворцов и храмов, столько расписано стен и икон, столько соткано ковров и сшито мундиров, столько выковано булатных мечей и выточено малахитовых шкатулок, что несть им числа! Крепость сильна крепостными. А над нею всегда сильный ректор. Ну, а при нем, понятно, пушки, генералы и маркитантки. Это уже второстепенно.
***
Настя долго репетировала свое выступление и перед зеркалом, и перед Григорием Федоровичем, и на кафедре. Выступать на кафедре перед преподавателями, которым несколько лет назад сдавала зачеты и экзамены, стучать в дверь дома, в который они готовы были впустить ее, бесстрашно говорить: «Это я!» – было страшно. И Настя очень волновалась. Текст своего выступления она выучила наизусть, но стоило ей открыть рот и посмотреть в зал, как она сразу все забыла, и что говорила, как говорила – потом совершенно не помнила. Ей казалось, что она выглядит наивно, смешно, с претензией, глупо, в конце концов! Настя была в отчаянии и едва не расплакалась, подводя итоги своей работы. Неожиданно все зашумели: «Хорошо! Хорошо! Прекрасно!» и даже слегка поаплодировали. А профессор Суэтина сказала, что «работа явно тянет на докторскую».
Григорий Федорович был доволен. Он сказал, что все будет хорошо, и только посоветовал Насте за двадцать минут до защиты выпить валерьянки. За двадцать минут до защиты Григорий Федорович сам выпил валерьянки, а Настя выпила коньяку и, красная, направилась на экзекуцию. Григорий Федорович по пути заглянул еще и в «Сезам».
– Опаздываете! – с нарочитым ужасом приветствовали там его.
Как проходят защиты, многие знают. Для остальных немногих пробежимся вскользь по главным моментам этого ритуала. Зал заседаний – это несколько рядов скрипучих кресел, длинный стол под зеленым сукном, пятнадцать стульев красной обивки, рядом трибуна для выступающих. На трибуне графин с водой, стакан. За спиной совета черная доска, на которой во время дискуссии пишут мелом, пара металлических планок, к которым прикрепляются магнитиками плакаты. В трубочку свернут экран, на который при случае проецируют диапозитивы из переносного диапроектора. На столе в хрустальных вазах розы, за которыми можно пошептаться о том же банкете. Перед каждым стулом стопочка бумаги, бутылка нарзана, стакан и карандаш. В середине и по концам стола три экземпляра диссертации соискателя. На стенах картины Шишкина (копии). Медведи, сосны, рожь. С потолка свисает огромная люстра, упади которая, накрыла бы аккурат всех собравшихся в зале. Пол натерт и блестит. Окна раскрыты, в них видно шевеление жизни. Каждые две-три минуты проползают рога троллейбуса.
Собрались все. Двери закрыли. Открытая защита диссертации началась.
Сидели, каждый на своем месте: Ученый совет во главе с председателем, секретарь совета, два оппонента, научный руководитель, приглашенные коллеги, малочисленные родственники и друзья, наконец, сам соискатель. С небольшим интервалом – команда второго соискателя. Сегодня было две защиты.
Минута молчания. Секретарь привычно занудно бубнит:
– На защиту представлена диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук аспиранта третьего года обучения Анненковой Анастасии Николаевны. Тема диссертации: «Морфологические показатели качества утиных яиц». Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, профессор Толоконников Григорий Федорович. Ведущая организация – Научно-исследовательский институт птицеводства, город Загорск. Первый оппонент – заслуженный деятель науки и техники СССР, профессор Григорьев Егор Дмитриевич. Второй оппонент – кандидат биологических наук, доцент Семенов.
Секретарь полистал бумажки, подумал и объявил:
– Слово предоставляется соискателю Анненковой Анастасии Николаевне!
Настя подскочила, словно ее ударили в бок. Стараясь идти медленно и ровно, поднялась на трибуну. Ей показалось, что трибуна мелко дрожит. Сухим языком обвела пересохшие губы. Машинально налила воды в стакан, выпила. В зале и в президиуме заулыбались. Первые две-три минуты были привычные, как рога троллейбуса в окне.
Настя откашлялась и выше, чем хотела, произнесла:
– Уважаемый председатель! Уважаемые члены Ученого совета! Основная идея работы заключается в исследовании влияния…
Пока Настя докладывала, члены совета сначала с одобрением убедились, что у соискателя костюм полностью соответствует торжественности и ответственности момента – серый с белым жабо, брошкой, что это действительно очень приятная женщина – крупная и красивая, настоящая русская красавица, что она в меру волнуется и у нее грамотная речь, после чего по очереди стали быстренько проглядывать выводы из ее диссертации, пытаясь уловить смысл. Некоторые, в поисках подходящего вопроса, углублялись даже в середину работы. Когда они переставали листать, замирали и остановившимся взором тупо смотрели в одну точку, это свидетельствовало о том, что вопрос пойман. После этого начинали говорить соседу, например, о том, какие туалеты в Лондоне – блестят, как станции метро! Что ж, на Западе блестящие сортиры, а у нас – умы.
На удивление, Настя волновалась меньше, чем на предзащите. В начале своего «слова», как это и было положено, она сделала изящный реверанс в сторону генерального птицевода Леонида Ильича Брежнева и всеохватных материалов XXIV съезда КПСС, в основном и целом посвященных (в том числе) проблемам птицеводства, и только затем углубилась в рассуждения более частного плана. После того, как Настя раскрыла основную идею работы, рассказала о законах, регулирующих причинно-следственные связи, представила статистические данные и полученные зависимости, она с облегчением подумала: «Все: остались графики и выводы!»
– А сейчас, товарищи, я вам проиллюстрирую сказанное, – сказала она. – Будьте любезны, закройте шторы.
Закрыли шторы, и в зале сразу же стало глухо и душно. Зашумел диапроектор. Члены совета, как гуси, повернули головы в сторону экрана. Внимательный человек заметил бы, что скорее всего они видели не экран, а угол зала, так как на полный разворот шеи и корпуса членам совета явно не хватало гибкости. Впрочем, говорят, все Ученые советы страдают косоглазием. Во всяком случае, диапозитивы просмотрели с интересом.
Выключили диапроектор, раскрыли шторы, несколько секунд был шумок. Настя глотнула воды, незаметно вытерла вспотевшие руки о салфетку и приступила к выводам. Собственно, выводы сами дотянули ее до конца. Настя взглянула на Григория Федоровича. Тот одобрительно кивнул ей. Анна Петровна Суэтина сидела с бесстрастным лицом. Значит, тоже одобряла. Настя инстинктивно чувствовала, что самую верную оценку ее работе может дать только она, Суэтина, или «суета», как они ее называли, будучи студентами.
Секретарь зачитал отзыв ведущей организации. Он был в целом положительный, замечания носили несущественный характер.
После этого первый оппонент с большим чувством собственного достоинства сказал о большом, пионерном вкладе диссертанта в развитие науки. «Это, я бы сказал, прорыв!» – сказал он. (Эх, жаль, не слышал его в этот момент Шопен или Лист!) Разумеется, он считает, что работа выполнена на отменном уровне, несмотря на некоторые мелкие недочеты, и товарищ Анастасия Анненкова вполне заслуживает искомого звания.
Второй оппонент, как менее заметная в научном мире личность, говорил громче и напористей, демонстрируя свою никому не нужную здесь эрудицию. Его выслушали благосклонно.
Перед дискуссией секретарь зачитал семь положительных отзывов на авторефераты.
Дискуссия носила явно демонстрационный характер, так как, собственно, все уже было ясно. Наиболее типичный вопрос был:
– Будьте великодушны, Анастасия Николаевна, напомните мне, куда ведет кривая А на втором графике?
– Вверх, Анатолий Ефремович.
– Благодарю вас. Я так и думал.
Дискуссионное поле чаще всего захватывают молодые, ищущие известности, ученые – чужая диссертация для них оселок, на котором они оттачивают свои языки. Им доставляет истинное наслаждение резать по живому дрожащего соискателя, совершенно не соображающего подчас, чего от него хотят. В поисках истины заходят порой туда, где ее в принципе не может быть. Но на этот раз не было даже таких. Один только «вечный ассистент» Жмуриков ехидно спросил, а почему на защиту представлены не все результаты блестяще проведенных экспериментов. Жмурикова «подавили» из президиума.
Пожалуй, самым дельным было выступление Суэтиной, в конце которого она сказала:
– Я позавчера вернулась из Москвы. Членкор ВАСХНИЛ Харитонов просил передать свои поздравления профессору Толоконникову и вам, Анастасия Николаевна. Сказал, что помнит вас вот такую, – показала она на уровне пояса.
В зале заулыбались. Давненько не слышали ничего подобного от профессора Суэтиной!