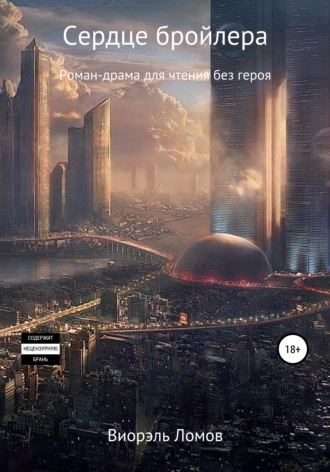
Виорэль Михайлович Ломов
Сердце бройлера
7. О том, как поссорились Анна Ивановна с Анной Петровной
– Я теперь Тимошку перед сном прогуливаю, – сказала Анна Ивановна. – Приходится на поводке таскать – удержу на него нет.
Анна Петровна не переносила собак дома. Она подкармливала их под топольком, но собаку в дом? Увольте! Она уныло выслушала подробности о собачьих потребностях.
– Вчера Гурьянова видела. И позавчера… Из вашего подъезда выходил, – Анна Ивановна вопрошающе глядела на Суэтину. – У вас был?
– Да, Женю рисовал, – сказала Анна Петровна. – Не получилось.
– У профессионала и не получилось? – в голосе Анны Ивановны послышалось злорадство.
Анна Петровна с удивлением взглянула на нее и пожала плечами:
– Видно, не смог что-то в Жене разглядеть. На это время надо, – вздохнула она.
Анна Ивановна понимающе улыбнулась. Конечно, разве может чужой глаз разглядеть то, что видит глаз материнский?
– Странно, он такой плодовитый портретист! Выставляться любит!
– В общении очень приятный человек. Простой. Но с чувством юмора.
– Юмора ему не занимать. Вы только подумайте! – воскликнула Анна Ивановна. – Снег пошел! Как рано в этом году.
Собственно, пришло время снега. Это, кстати, вчера вечером бросилось в глаза. Уже в сумерки начался буран. Серые листья задергались, закружились, как летучие мыши… Так что белый снег, голубушка, всегда после такого серого бурана выпадает. Анна Ивановна сама затеяла разговор о Гурьянове и что-то вдруг сама и замяла его. И ладно, подумала Анна Петровна. Хотя ей очень хотелось рассказать Анне Ивановне (она уже третий день хотела сделать это), какой тот умный и… да что греха таить, и обаятельный мужчина. Бездна обаяния и вкуса. А голос – чистый велюр! Анне Петровне хотелось говорить о художнике долго и в подробностях, как о заболевшем ребенке. Она вдруг вспомнила фильм, который смотрела месяца два назад у Анны Ивановны. Там тоже был художник, чем-то похожий на Гурьянова, любовь, домик на Волге… Она поняла теперь, кого он ей все время напоминал. И успокоилась. Белые хлопья снега мягко падали на еще черный теплый асфальт и тут же таяли, точно пронизывали асфальт насквозь и терялись в темной бездне. Странно, что падают хлопья, а не сыплет мелкий противный дождь и не порошит. Уже так привыкла к этому. Природе надоели, видно, все эти мелкие раздражители, успокоения захотелось…
– Николай Федорович так забавно рассказывал о том, как он этим летом делал под заказ бюстики Ленина… – не удержалась Анна Петровна.
– Бюстики Ленина? Пф-ф… Анна Петровна, меня этот художник и все его творчества абсолютно не интересуют! Найдем другую тему для разговора!
Анна Ивановна не смогла скрыть раздражение, и это больно задело Анну Петровну. Хорошо, он ей чем-то не нравится, но при чем тут она?
– Хорошо, Анна Ивановна, не будем о нем, – покорно сказала Суэтина. Но в покорности ее слышалось неодолимое упрямство. Анна Ивановна почувствовала это. Свой свояка видит издалека.
– Ну, что ж, – сказала Анненкова. – Пошла ужин готовить.
Анна Ивановна собиралась зайти в магазин вместе с Анной Петровной, но то ли забыла об этом, то ли передумала.
Озадаченная Анна Петровна рассеянно осмотрела витрины, увязла в свинцовой очереди за котлетами и, ничего не купив, вернулась домой. Странно, очень странно ведет себя Анна Ивановна. Вожжа под хвост ей этот Гурьянов. Да ну его, в конце концов! Что, на нем свет клином сошелся? Не хватало из-за чужого мужика ссориться с единственным близким по душе человеком!
После ужина она легла раньше обычного на кровать и долго лежала без сна, стараясь не думать ни о чем и думая о Гурьянове. Почему он так неприятен Анненковой? Чего-то тут не так. И тут же всплыла в памяти, как щепка, свинцовая очередь в гастрономе за котлетами. Вот она, покачиваясь, плывет к выходу из памяти. Значит, вовсе не свинцовая. Странно, что воспоминания о потраченном времени в очередях или на курорте дают абсолютно одинаковые ощущения. Наверное, потому, что и то, и это не стоят самих воспоминаний. Сами воспоминания, все равно о чем, одинаково дороги, как воспоминания, бывшие именно с тобой, и одинаково безразличны, как не имеющие к тебе уже никакого отношения. В очередях, пожалуй, еще интересней бывает. Облают, а то и под бок саданут… «Почему же все-таки Анна Ивановна так не хотела говорить о Гурьянове?» – задала Анна Петровна вопрос кому-то встретившемуся во сне и не расслышала ответа.
***
В субботу после коллоквиума и трех пар аудиторных занятий Анна Петровна была как выжатая губка и рада была тому, что плелась молчком домой одна. На разговор с кем бы то ни было она не имела никаких жизненных сил. А дома шаром покати, крошки хлебной нет. Неужели тащиться в магазин? Анна Петровна тоскливо глянула через дорогу и, решив, что не помрет без ужина, махнула рукой и пошла домой. Авось и найдется что. «Господи, а как же там Женечка?» – всколыхнулась в ней волна заботы, но тут же и опала, так как с Женечкой-то все сегодня было нормально. Он сегодня весь день был в гостях у Анны Ивановны. У Насти Анненковой сегодня был день рождения, тринадцать лет. Анна Ивановна сама пригласила его, зная о субботней нагрузке Анны Петровны. Надо бы зайти, нехорошо как-то получается. Жене уже шестнадцать. Как время летит! Уж два года знакомы с Анной Ивановной, а она ни словом не обмолвилась о своем муже. Где он? Был, не был? Анна Петровна подумала о своем муже и тут же успокоилась. Тоже, наверное, алкаш. Помер или у родственников, если не в канаве… Не будем муссировать эту тему. Подарю книжку, заодно и чаю у них попью. Анна Петровна достала из шкафа «Историю Тома Джонса, найдёныша» Генри Филдинга, купленную по случаю в Москве, и пошла к Анненковым.
Там уже все разошлись. Остались две девочки. Они шептались с Настей, хихикали и поглядывали на Женю. Ишь, раскраснелись! Правильно, правильно, Женечка, не поддавайся на их уловки. Еще не такое будет! Женя, в стороне от веселых подруг (наверняка он даже не познакомился с ними), пользуясь возможностью, смотрел телевизор. Анна Петровна горделиво посмотрела на него, потом на девчат.
Уселись на кухне и стали пить чай с яблочным пирогом.
– Отменный пирог, Анна Ивановна. У меня сегодня маковой росинки во рту не было. Думала, не дотяну до конца третьей пары.
– Ой, да что же вы не сказали? У меня и салатов сколько, и курица!
И вот кухонный стол ломится от яств, стоит початая бутылка вина, два фужера и легкая грусть в атмосфере кухни, грусть от еще одной вехи в жизни. Грусть, но вместе с тем и недосказанность.
– Вы меня простите, Анна Петровна, я вчера обещала вам пойти в магазин и не пошла. Голова что-то вдруг заболела, – сказала Анна Ивановна.
– Да что вы, какие там прощения? Нашли, за что прощение просить! Так бы вот все на Ученом совете друг перед другом извинения просить стали – то-то была бы потеха!
– Да-да, весь Совет только и извинялись бы!
– Больше проку было бы!
Обе смеялись. Хорошо смеяться, когда ребенку только тринадцать лет, когда он еще не упорхнул из дома. Вспархивает легко, а уже не вернуть.
– Хорошенькая она у вас. Глазенки точь-в-точь ваши, а носик нет.
– О, до паспорта еще три года! Подрастет, – Анна Ивановна явно не хотела развивать тему счастливого детства.
Зашел Женя.
– Посмотрел? Может, хочешь чего?
– Нет, спасибо. Я домой пойду. Устал.
– Устал! – рассмеялись обе женщины. – Он устал!
Женя недоуменно посмотрел на них.
– Иди-иди. Я тоже скоро приду. Дверь на щеколду не закрывай.
Анна Петровна рассказала, как однажды сын уснул и пришлось дверь с петель снимать, а он так и не проснулся.
– И стучали! И кричали! И по батарее снизу били! Ничего не слышал! Как убитый спал. А утром глаза округлил: а ты когда пришла, спрашивает.
– Илья Муромец какой-то! – смеялась Анна Ивановна.
– Да, в отца. Тот-то крепкий мужчина. Спился вот. Живет сейчас в своей деревне… У родни. Нищета!
– Я девочек провожу, – Анна Ивановна поднялась с табуретки. – Какую красивую книгу вы подарили, спасибо!
Она взяла ее в руки и вдруг побледнела. Невидящим взглядом посмотрела на Суэтину и вышла. «Что это с ней?» – подумала Анна Петровна.
– Да и я пойду, засиделась, – крикнула Суэтина вслед Анне Ивановне. И в прихожей добавила: – Замечательные у вас пироги.
– Чем богаты, тем и рады, – улыбнулась Анна Ивановна, но как-то сухо. Устала, должно быть, от колготы.
***
Остаток вечера и все воскресенье Анна Петровна не находила себе покоя. Все валилось из рук. Единственный выходной прошел насмарку. Ничего не подготовила ни к занятиям, ни по своей научной работе! Хоть бы борщ сварила, так и его не удосужилась сделать! Женька пропал где-то! Хоть бы булку хлеба матери принес! Анна Петровна в раздражении пошла за хлебом. Хлеба тоже не было. В воскресенье вечером так часто бывает, что его не бывает. Пришлось тащиться в столовку за тестом: может, осталось? В столовой она столкнулась с Гурьяновым.
– Вы тоже за тестом? – спросила она.
– За чем? Нет, я тут портрет пишу. Одной знатной поварихи, – судя по тембру голоса, портрету предшествовали и другие блюда. – А вот и она.
Из подсобного помещения вышли две толстушки, и одна подхватила Гурьянова под руку.
– Коля! – резанул по сердцу Анны Петровны чужой женский голос.
– До свидания, Анна Петровна! Привет Жене… Сорокину! – крикнул, обернувшись, «скорочлен».
Анна Петровна, забыв о тесте, возвращалась домой. Ей не хотелось идти домой. Ей никуда не хотелось идти. Но куда-то же надо было идти, куда-то же надо было нести себя! Себя, никому не нужную, никому не интересную, никому не желанную!
Что это со мной, опомнилась она на пороге своего дома. Совсем расклеилась. Она поднялась к себе и впервые за многие годы отругала сына зазря – шляется где-то без спросу! Тот забился с книгой в угол и просидел там до ночи.
– Темно, глаза испортишь, – не выдержала Анна Петровна.
Сын вздохнул, отложил книжку, сходил в туалет и, не ужиная, молчком лег спать.
Анна Петровна плакала до утра. Неделя рабочая обещала быть интересной!
А в понедельник – новости сами летят к кому надо – она все узнала о Николае Федоровиче и широкой его душе. Шура рассказала, лаборантка, словно догадываясь о терзаниях Суэтиной. Лаборантки догадливый народ! Тем более старожилы этих мест.
***
Что привлекает женщин в творческих натурах? Трудно сказать.
Если типичный мужик, скажем, за день может играючи перекидать сотню мешков с картошкой, перепилить пять кубов леса, а потом за один присест умять поросенка с хреном или гуся с яблоками, опрокинув в себя при этом пару бутылок водки и пять литров пива, тут все понятно без слов. Особенно, если после этого он без лишних слов берется делать то, ради чего делал все предыдущее. Но когда типичный представитель творческих профессий, утомленный самим фактом своего существования, пальцем о палец не стукнувший для дома, вздымает очи горе и начинает сетовать на трудности жизни и на то, что его никто не понимает и никто не жалеет (будто эти никто разные люди), тут впору пожалеть женщину, которой он все это говорит, но… Ради Бога, не вздумайте делать этого! Она, как фурия, вцепится вам в горло. Ибо для нее нет никого красивее и сильнее на свете, чем этот бледный, доедаемый сомнениями и остеохондрозом слабак. Если же мужчина совмещает в себе задатки и мужика и творца, тут туши свет и поскорей проваливай. Тебе там делать нечего, товарищ! Потому что такое бывает только в древнегреческих мифах и древнерусских былинах, где одни и те же герои с разными фамилиями и все они равноудалены от жизни.
В жизни же таким типичным мужиком (при всем при том типичным представителем творческих профессий) был Николай Федорович Гурьянов, и он знал себе цену, как брильянт чистой воды. Женщины, привыкшие к финтифлюшкам, от Гурьянова краснели и вздымали грудь, и ничего не могли с собой поделать. Удушливая волна (из известных стихов) накрывала их с головой. Играя взорами, они предоставляли себя в его трастовое управление, и он во всех случаях проявил себя выдающимся менеджером.
Обо всем этом и о том, что Николай Федорович осчастливил вниманием не только свою супругу Нину Васильевну, Анна Петровна узнала, увы, задним числом, когда волна накрыла уже и ее, закрутила и ушла, а теперь несла на своих гребнях в купальнике пятьдесят четвертого размера выдающуюся во всех местах повариху республики. Узнала она еще и о том, что практически под каждым женским портретом, включая престарелого проректора Софью Игнатьевну, можно было смело написать «Имя рек любит Колю». Такая вот получалась интересная выставка достижений. А еще (под страшным секретом) Шура поведала, что, оказывается, Настя Анненкова его дочь. Точно, конечно, не известно, но говорят. Лет пятнадцать назад (еще при Дробышевском) такая романтическая история приключилась! Весь институт гудел, как улей.
После этого тревога не покидала Анну Петровну ни на минуту. Хоть миф сочиняй об этой тревоге треклятой и запечатлевай его на полотне в три квадратных метра жизни!
Когда во вторник она встретила Анну Ивановну, та спросила:
– Что же вы не заходите, Анна Петровна? Столько всего осталось с именин!
– Остатками не питаюсь, – поджав губы, произнесла Суэтина.
Когда сердце разбито, все разбито и все равно.
Когда разбито сердце, разбивается и судьба.
8. Кто не учится у жизни, того учит жизнь
Анненкова и Суэтина столкнулись в гастрономе – где еще сталкиваться гражданам, их телам и интересам? В гастрономе граждане сталкиваются, как корабли в порту. Было не разойтись. Криво улыбнулись, поздоровались, даже спросили друг друга про дела. Чего спрашивать про дела – как сажа бела, что у той, что у этой.
– Надо бы объясниться, Анна Ивановна.
– Надо, Анна Петровна.
Дома были дети, да и дома объясняться – хуже, чем сор из избы выгребать, в дом заметать придется. Решили, не откладывая, и объясниться на свежем воздухе. Лучше всего для этих целей подходила «кибитка». «Кибитка» привыкла ко всем отправлениям человеческого духа – в ней и целовались, в ней и затевали всякие коварства.
Во дворе под тремя кленами была беседка (или «кибитка»), где жильцы дома любили отдыхать от служебных и семейных забот. Заботы – такая препротивная материя, из которой впору саван шить. Мужчины и женщины, воспитанные в раздельном обучении, и отдыхали раздельно. Если «кибитку» первыми захватывали мужчины, они до глубокой ночи рубились в домино, играли в шахматы, пили пиво, портвейн, вермут, а женщины в это время довольствовались скамейками возле своих подъездов, под тополями, и разговор их, понятно, не был столь оживлен, как он бывал, когда плацдарм был в их распоряжении.
В этот вечер «кибитку» захватили мужчины.
– А1-А2, – сказал Баранов с кафедры математики.
Филиппов с кафедры разведения недоуменно посмотрел на него.
– Чего?
– Вон идут. Анна Ивановна – «А1». Анна Петровна – «А2». Ладья и конь.
– Ты ходи-ходи, – сказал «разведенец».
– Семеныч, чует сердце, неспроста сюда идут. Смотри, как несет их!
– Тебе шах.
Соперники склонились над шахматами.
– Шах и мат! – послышалось над их головами.
Шахматисты вздрогнули.
– Все ясно! – воскликнула Анненкова. – Следующая пара!
Анна Ивановна села на скамейку, выдавливая Баранова, тоже довольно широкого в кости. Филиппов встал без намеков. Такого еще под сводами «кибитки» не было. «Выдавленные» мужчины молча покинули беседку и направились по тропинке к четырнадцатому дому.
– Нет, я даже не знаю, что и сказать! – сказал Баранов, с удивлением глядя на Филиппова. Тот, как собака, тряс головой.
– Это форменное безобразие! – воскликнул Баранов, так направив свой возглас, чтобы было слышно на скамейках возле дома и не слышно в «кибитке».
– Да! Да! Да! – послал голос в землю Филиппов.
Скамейки выясняли, влияет или не влияет валерьянка на формирование яичек у подростков, а если влияет, то как. Услышав о безобразии, они заинтересовались. Сумерки стали гуще, но женские глаза светились сквозь них, как девичьи, подогретые предыдущей темой.
– Что? Что там? Что случилось? Хулиганы?
– Хулиганки, – тихо молвил Баранов и, не оборачивая головы, ткнул назад большим пальцем. – Анненкова с Суэтиной.
– Шахматы захватили, – пояснил Филиппов.
– А вы?
– А нас поперли! – сорвался на фальцет Баранов.
– Да как же это? – женщины опешили. У них так не получилось ни разу. Досадно было, что и говорить.
***
А у двух «захватчиц» состоялся крайне интересный разговор. Дамы, оккупировавшие скамейки возле подъездов, много отдали бы за то, чтобы послушать его, а Баранов с Филипповым в очередной раз подивились бы бабьей глупости. Во всяком случае, три клена, окружавшие «кибитку», перестали даже шевелить листьями и прислушивались к словам, от которых пробирал мороз по коре, как в декабре.
– Анна Ивановна, я решила объясниться с вами.
– Я вас слушаю.
– Нет, это я слушаю вас!
– Очень мило – она слушает…
– Анна Ивановна, не будем о присутствующих говорить в третьем лице.
– Не будем. Тогда уж и ничего дурного. Но и от первого лица я не собираюсь выступать здесь. Мы ведь пришли поговорить друг с другом, а не выслушивать мнения сторон. Слава богу, этого на Ученом совете хватает. Сегодня, как с ума все сошли.
– Олсуфьева сняли?
– Нет еще, но снимут. Так как же? Анна Петровна, инициатива ваша была, – Анна Ивановна взяла в руки белую и черную пешку, протянула Суэтиной белую.
– Ваш ход, сударыня. Вот же черт! Сюда, кажется, идут. Расставляйте свои. Быстрее!
Подошли оторвавшиеся от скамеек дамы, на время позабыв волнующий разговор о подростковых яичках.
– Играете? – сладко протянули они.
– Играем. Вам-то какое дело? – неучтиво бросила Анна Петровна, берясь за любимую фигуру коня. Анна Ивановна окинула подошедших взглядом, в котором отразилось недоумение по поводу столь неосторожных слов мастера Суэтиной.
– Нам – никакого, – менее сладко и менее протяжно сказали дамы, но в голосе их появился металл.
– Вот и топайте отсюда! – по-солдафонски отрезала Суэтина. – Не мешайте игре! Жужжите по своим лавкам!
Возмущенные женщины воскликнули: «Это просто неслыханно!» – и с шумом вернулись на старые позиции.
– Анна Петровна, нельзя же так!
– Ой, достали! Чей ход-то?
– Ваш, – учтиво улыбнулась Анна Ивановна.
Суэтину это задело.
– Вот только не будем эти улыбочки ядовитые строить друг другу. Давайте без дипломатий. Анна Ивановна, я понимаю, тема, сама по себе, деликатная, но ее надо настоятельно закрыть.
– Можно и не открывать…
– Нет-нет, уже открыли. Рубикон перейден.
– О, головы не полетят? Все, я вся внимание.
– Анна Ивановна, – продолжила звенящим голосом Суэтина (Анненкова невольно подавила в себе иронию, поняв нешуточность намерений Анны Петровны), – мне уже две недели не дает покоя мысль, что вы подозреваете меня в неблаговидном поступке и осуждаете за это! Поверьте, я далека от всяких интриг и не хотела бы, чтобы меня хоть кто-нибудь превратно понял или истолковал! Тем более, когда живем мы все… живем мы все в таком гадюшнике! – она махнула в сторону скамеек.
Анна Ивановна ошарашенно глядела на Суэтину.
– Анна Петровна, голубушка, да ни сном, ни духом! О чем вы? Какие подозрения и осуждения? Успокойтесь. Я-то думала…
– Что вы думали? – как в блице, среагировала Анна Петровна, наклоном головы и горящими глазами не оставляя Суэтиной время на раздумья. – Вы думали, что у меня с этим… живописцем!.. шуры-муры?! Да? – Анна Петровна закашлялась. – Если я одинокая женщина, то кто вам дал право судить меня по себе?
– Ну, знаете, Анна Петровна, я, кстати, тоже одинокая женщина и неделикатно с вашей стороны говорить мне это. И потом, вам, кто вам дал право говорить со мной таким тоном? И потом, что значит, по себе? Она, видите ли, как жена Юпитера, без подозрений, а мы – сами по себе, вали на нас, что хочешь!
– Кто жена Юпитера? Я жена Юпитера? Да он алкоголик несчастный, Юпитер ваш!
– Ваш, Анна Петровна, ваш!
Далее разговор, к сожалению, потерял всякую логическую нить и перешел на заурядную перепалку, лишенную всякого смысла, коими заполнен земной шар по самую крышку.
Не прощаясь, а в душе распрощавшись на всю оставшуюся жизнь, Анненкова и Суэтина разошлись из «кибитки» в разные стороны. Разошлись, как в море корабли. Анна Петровна пошла к двенадцатому дому, Анна Ивановна к четырнадцатому. И если Анна Петровна прошла мимо своей скамейки быстро и молча, то Анна Ивановна возле своей задержалась и, вздыхая, долго объясняла что-то любопытным варварам, к которым подтянулись с вытянутыми лицами сударушки с прочих скамеек, одинаково жестких, как их судьба.
***
Шестьдесят второй год был в полном разгаре. Анна Петровна была совершенно выбита из колеи и на время забросила свою диссертацию. Вернее, диссертация забросила ее саму. Ведь нам только кажется, что мы то и дело заняты делом. Это дела занимаются нами. Не верите? Зайдите в отдел кадров, там есть и ваше.
Стоило Анне Петровне только подумать о завтрашнем дне, институте, кафедре, занятиях, дипломниках, как тут же начинала чувствовать спицу, проткнувшую ее насквозь от левой лопатки. А если мысль устремлялась к заоблачным далям: обработке всей статистики, конкурсу, защите – спица начинала раскаляться и жечь огнем. Мысли же о судьбе и вовсе делали боль невыносимой. Вся грядущая жизнь оборачивалась в этот момент одной только болью, острой, жгучей, злой.
Так нельзя, так больше нельзя, решила Анна Петровна. На ее счастье сработал инстинкт самосохранения.
Она накапала тридцать капель корвалола в стакан с водой, выпила и, стараясь не делать резких движений, легла в постель. Все замерло в ней, даже негодование, даже злость, которые питали ее уже целый год. Неудивительно, что меня весь день распирала злоба ко всему на свете, все пустяк, все суета, думала она. Порыв ветра, песок в лицо. Забыть и забыться. Пусть они грызут друг друга, пусть они пожирают сами себя, пусть наслаждаются своим триумфом, пусть это будет их триумф друг над другом – там не будет меня.
А ты, милая, подождешь, обратилась она к своей диссертации. Ничего с тобой не сделается. Не девушка. А то придется ложиться с тобой в могилу. Не надо. Полгодика подождешь… Месячишко-другой…
Анна Петровна избрала, быть может, единственно верную в ее положении тактику – не обсуждать ни с кем свои проблемы, а с «коллегами» молчать, как партизан. Она перестала участвовать во всех мероприятиях кафедры, кроме обязательных, ни с кем не разговаривала, не здоровалась (кроме Харитонова) и по возможности старалась на кафедру не заходить, сразу шла в аудиторию. Раздевалась в гардеробе.
Как ни странно, это возымело действие. Сначала сотрудники кафедры не знали, что и делать от обиды, но и потом ничего не придумали. Надоело, и перестали обращать друг на друга внимание. На Толоконникова нашло просветление: он решил, что в такой вязкой борьбе победа может оказаться не на его стороне, и сходил к ректору. Переговорил с ним о штатном расписании на следующий год, о необходимости отправить в московскую аспирантуру способного Харитонова (договоренность с ВАСХНИЛ есть), двух новых спецкурсах и замене ассистентской строчки на доцентскую. Ректор дал принципиальное согласие, с оговоркой: там посмотрим, сколько денег дадут.
Анна Петровна через месяц возобновила свою работу над диссертацией. По воскресеньям корпела, не вставая, по шестнадцать часов, а в будние дни посвящала ей любую свободную минуту. Поскольку она решила ни на что не реагировать и ничего не брать в голову, она следовала своему решению, и год для нее пролетел незаметно. Она даже толком не обратила внимание на то, что защитилась (с божьей помощью) Дрямова, а ее саму и Толоконникова переизбрали на новый срок. Когда она осознала произошедшие перемены, только подумала с облегчением: ну, теперь оставят в покое года на четыре. До следующего конкурса. Как раз докторскую защищу! Защищу, «мои хорошие», защищу!
– Анна Петровна, поздравляю вас! – обратился к ней на заседании кафедры заведующий. – Мы тут ходатайствовали, можно сказать. Ваш доклад будет представлен на Всесоюзной конференции в Киеве. Мы очень рады! Поздравляем!
Анна Петровна кивком головы поблагодарила его за поддержку. Должен же кто-то пропускать студентов через свои руки и выпускать в жизнь специалистов! Ведь жизнь рано или поздно учиняет с учителей свой спрос!
В московскую аспирантуру поступил Вадим Сергеевич Харитонов (в «Акомедию» наук, на прощание сказал он). И хотя без его острот на кафедре стало совсем серо, на сердце у Анны Петровны было светло: хороший человек не пропал, как топляк в реке.
Все, решила для себя Анна Петровна Суэтина, не буду больше загадывать далеко наперед – себе дороже получается. И назад оглядываться тоже больше не буду. Буду ощущать себя в настоящем. А то и впрямь перестаешь понимать, что в жизни настоящее, а что нет.
Правильно, видишь только то, что видишь. Дальнее будущее может и не приблизиться или пройти стороной, как в окне вагона, а даже близкое прошлое уже мертво. Когда перед глазами жизнь, а в спину глядит смерть, это и есть настоящее. Поэтому никогда не надо оглядываться, никогда! Надо идти вперед!







