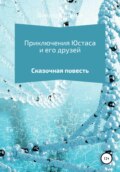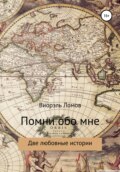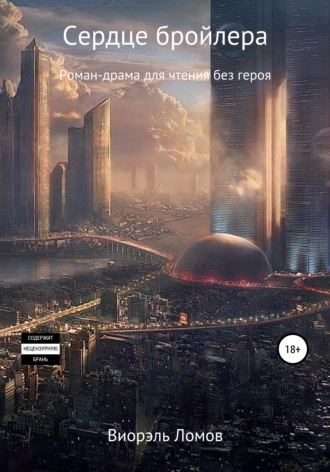
Виорэль Михайлович Ломов
Сердце бройлера
Интермедия (1968 г.)
Запах портрета
Гурьянов любил мать и жалел ее. Она была несчастлива с отцом и всю свою невостребованную любовь изливала на сына. Он был для нее всем, светом в окошке, ее надеждой и гордостью. Успехи в школе, а потом и первые успехи в университете, публикация стихотворений наполняли ее гордостью. Когда она рассказывала своим знакомым о сыне, глаза ее светились непостижимым для многих счастьем, и она выглядела много моложе своих сорока девяти лет и достаточно устойчиво при всем своем неустойчивом состоянии. А с Аглаей Владиславовной они стали лучшими подругами и коротали свои одиночества в беседах о Лешеньке и Лермонтове (у Нины Васильевны Лермонтов незаметно вышел на первое место, потеснив Стефана Цвейга на второе).
Алексей посвятил матери свой первый сборник, написав просто и искренне: «Любимой мамочке». Нина Васильевна весь вечер читала стихи и после каждого глядела на посвящение и плакала. Отец вечером никуда не пошел и раздраженно ходил от телевизора к холодильнику. Алексею даже показалось на мгновение, что будь у телевизора дверка, он и ею бы непрерывно хлопал. Он, наконец, подошел к матери, прочитал посвящение и хмыкнул:
– Ну, и чем ты так тронута? Надписью или стихами?
– А тебе-то что до этого? – воскликнула мать.
Алексея покоробили и задиристо-раздраженный вид отца, и сам вопрос, и тон, каким он был задан. Раздражение – против чего, против кого? Против него или матери? Или против стихов? Что это с ним? Ревнует, что ли?!
«Что они не разведутся?» – подумал Алексей и пожалел мать: всю жизнь мучается с отцом. Отца ему было совершенно не жалко. Поделом. Сам себе выбрал такую жизнь. Вне семьи так вне семьи. Хотя ему эта жизнь была явно к лицу. Как стал выставляться и писать по дюжине портретов за год, словно лаком покрылся и сбросил лет десять с погрузневших именно в эти годы плеч. Забронзовел, батя, заматерел. Пора табличку на дом вешать. Волосы потемнели. Красит, что ли?
«Не женюсь! Ни за что не женюсь! – поклялся сам себе Алексей. – Лучше женщин оставлять счастливыми, чем делать их несчастными».
У отца с женщинами все так естественно, как дыхание. Вдох-выдох. Познакомились-расстались. Как утренняя гимнастика на ночь. Вальсок крутанул по площадке. И все довольны. Даже мать. А на стенке новый портрет висит. Кистью мазнул, глазом моргнул и – я ваша тетя!
У Алексея, впрочем, то же самое получалось еще проще и естественнее, чем у отца. По молодости, наверное. Да и большая часть жизни отца прошла в других исторических условиях: война, разруха, нищета… Не тот колер был.
Да-да, Аглая Владиславовна, я раньше начал, кончу ране… Надо ей свой первый сборник преподнести. Моей первой и единственной учительнице, пожалуй, напишу так.
Внешностью, голосом, глазами, скрытной, но прорывающейся в каждом движении страстностью Алексей был очень похож на отца, и Нина Васильевна со страхом ожидала от него повторения и продолжения «художеств» мужа. Они у него будут еще сильнее, если судить по таланту, который отпустил ему Бог.
Так оно и вышло. Девушки летели на свет поэзии, как безмозглые бабочки, и, как безмозглые бабочки, опаляли свои крылышки или с треском сгорали в его огне. Где этот гигантский костер, в котором пылают все творческие натуры и который, пройдя сквозь них, сжигает заодно и всех окружающих?
Женщинам и особенно особам, не успевшим еще стать ими, нравились не столько стихи Гурьянова, а магия выступления поэта, когда он совершенно преображался на сцене, чуть покачиваясь, словно на волнах времени, своим бархатным голосом нараспев читал свои стихи, читал с таким видом, будто сочинял их тут в зале на глазах слушателей.
В этот момент слова-звуки обретали плоть, наполнялись его дыханием, взмахивали невидимыми крыльями согласно ритму стиха, окрашивались бархатным тембром густого голоса и летели по диагонали зала ввысь, согреваемые мечтательным взором поэта.
Ах, как много женщин мечтало укутаться в их облако, как в воздушную божественную шаль, насладиться своим восторгом и всеобщей завистью!
Выступления Гурьянова имели несомненный успех с первого же его вечера, в который он вполне профессионально заявил о себе, как о незаурядном поэте и чтеце.
Как-то на одном из таких вечеров Гурьянов увидел в зале Аглаю Владиславовну. У него екнуло сердце, как на суде. Он ни разу не видел ее на своих выступлениях. После вечера он раздал автографы и, отбившись от жужжавших барышень, подошел к учительнице, поджидавшей его в фойе. Он поздоровался и молча устремил на нее вопрошающий взгляд. Аглая Владиславовна одобрительно улыбнулась.
– Поздравляю, Леша, ты пользуешься успехом.
– Да, Аглая Владиславовна, – слегка смущаясь от похвалы, произнес Алексей, – мне лучше стали удаваться стихи. Особенно четверостишия и двустишия.
– А за трехстишия страшно браться? Нет, Леша, я не совсем разделяю твой энтузиазм. Краткость, она, разумеется, свойственна таланту, но делает его тоже кратким. Краткость идет или от многой мудрости, или от многой желчи. Извини, в тебе больше второго. Не ко времени, кстати. Молод еще. Ну-ну, не бычься, мудрость еще придет к тебе. Никуда ты не денешься от нее. Если, конечно, не будешь убегать специально. Да сам посуди, хотя бы вот это… Да, проводи меня. Не надо мне текста, я прекрасно все запомнила. Вот: «Как трудно умному в стране, где дуракам закон не писан, где пишут матом на стене, и где подъезд, и лифт записан». Или эти вот, «детские»: «У тети Оли, тети Риты оба мужа паразиты, а муж у тети Кати паразит в квадрате». Ну, что это? Не спорю, остроумно, но где вершины гор, с которых поэзия не имеет права спускаться? А некоторые рифмы? «От почечуя зад не чуя», «У еврея диарея»? Извини, пошло. Ведь у тебя есть и такие строчки: «Ночь настала. День куда-то канул. Я читаю Данте. Дождь идет. Я спокоен. Я никем не стану. Жизнь моя, как этот дождь, пройдет». А? Ведь тут в четырех строчках вся твоя жизнь. Да и не только твоя… Или вот, посвященные Лорке, концовка: «По дороге серебристой еще бродят тени мавров, и на цвет зеленый листьев тучей падают жандармы». Тут и Лорка, но тут и ты. Пиши пока нормальные стихи, краткие на памятнике напишут. Вон, поэма о Мэри и Перси Шелли, легкая и задорная! «За столом сидела Мэри, на столе стоял портвейн, в парк открыты были двери, в голове был Франкенштейн». Прелесть, хоть и банально! Но, увы, такого не много. Что ж, на три с плюсом, Алексей, справился.
– Может, все-таки четверочку поставите? – протянул Гурьянов.
Аглая Владиславовна засмеялась, наклонила Гурьянову голову и поцеловала в макушку.
– Тьфу, горько!
– От желчи, Аглая Владиславовна.
Учительница легонько стукнула его по затылку.
– Привет Нине Васильевне. На той неделе не получилось, в субботу обязательно приду. А голос у тебя чудо какое-то!
Гурьянов старший, наслышавшись от жены об успехах сына, пожертвовал своим вечером и пришел на выступление сына. Признаться, он был поражен тем, сколько женских глаз с восторгом смотрит на Алексея. Николай Федорович тут же сделал набросок, а потом в первый раз взялся писать портрет сына. За неделю он справился с ним и принес в институт.
***
Анна Петровна столкнулась в коридоре сразу с обоими Гурьяновыми, отцом и сыном. Художник, видно, решил похвастать сыну выставкой своих достижений. Суэтина поразилась, как они были похожи друг на друга. Николай Федорович раскланялся с ней и, как девушка в танце, плавно и широко повел рукой:
– Вот, Анна Петровна, мой сын Алексей. Поэт.
– Ну, папа, – по-мальчишески сказал сын и с улыбкой поклонился ей.
У Анны Петровны даже застучало в висках – как он был похож на того Николая Федоровича, который рисовал портрет Жени!
Она никак не могла успокоиться и на занятиях ни с того, ни с сего похвалила последний портрет Гурьянова (хотя и не видела его). Среди студентов оба Гурьянова, как люди искусства, были достаточно известны.
– Я только что видела его самого с сыном. Удивительно похожи! Как две капли воды!
Настя Анненкова поинтересовалась, где портрет.
– Да сразу, как с лестницы поднимешься.
Анна Петровна задумалась, ловя ускользающую мысль. А тут и звонок прозвенел…
Настя пошла вдоль стены, скользя взглядом по округло-одутловатым, будто только что из-за стола, лицам портретных современников. Возле лестницы она остановилась возле портрета молодого мужчины (одна голова без плеч и без головного убора, вроде чеширского кота), выгодно отличающегося от прочих выразительностью черт и отсутствием упомянутых плеч. Рядом с портретом стоял мужчина, и против света Настя не видела его лица. Мужчина, не обращая на нее внимания, зашел с другой стороны. Настя перевела взгляд с портрета на мужчину и обратно. Ба, с портрета мужик сошел!
– Похожи как!
Гурьянов-младший был приятно удивлен совпадением его представления о цвете голоса крупной красивой черноглазой девушки с самим цветом. Голос был звучный, грудной, мелодичный.
– Вы поете? – спросил он.
– И пляшу, – ответила девушка.
– Так кто на кого похож?
– Друг на друга.
– Вы имеете в виду меня и портрет?
– Я имею в виду вас и вашего отца.
– А-а, мы в самом деле похожи.
– Так это ваш портрет или автопортрет вашего отца?
Гурьянов озадаченно посмотрел на девушку. Такая мысль не приходила ему в голову, даже когда отец рисовал его семь вечеров подряд. «Так он меня рисовал или во мне, как в зеркале, разглядывал себя?» – подумал Алексей.
– Думаю, это автопортрет, – сказал он.
– Я тоже так думаю, – эта реплика почему-то задела Алексея.
– Да? Почему же?
– В портрете нет чего-то такого, что есть только в вас.
– Интересно, чего ж?
– Мне тоже интересно. Не могу понять. Пока на уровне ощущения. Чувствую… нечто родственное, что ли. Трудно объяснить. Как запах. Яблока, например, или сирени. Как передать словами? Да никак. Пахнет яблоком. Пахнет сиренью. Вот ваш портрет не пахнет…
– Чем же это он не пахнет, чем пахну я? – засмеялся Гурьянов.
Ему на ум пришла пара строк, а записать было нечем.
– У вас есть ручка? Или карандаш?
Настя протянула ему карандаш, который вертела в руке. Гурьянов записал что-то на манжете рубашки. Настя ткнула пальцем:
– Стирать кто будет?
– История. Так чем же портрет не пахнет, чем пахну я?
– Одеколоном «Шипр». Ой, звонок был, что ли?
– Да уж минут пять.
– Да вы что?! Суета убьет! Заметит, что меня нет…
– Не блистайте своим отсутствием!
– Может, прошвырнемся в киношку? В «Гвардейце» «Земляничная поляна» идет. Там, говорят, покойник из гроба встает. В самом начале.
– Как слово. Да что вы говорите? Прямо из гроба? Покойник? Идем!
После кино Настя потащила поэта к себе домой.
– Мама прическу делает, а мы пока чай попьем. Придет из парикмахерской, познакомлю. Полпирога хватит?
– Маловато будет. Целого нет? Слышь, неудобно как-то. Мы и с тобой-то толком не знакомы, а ты уже с мамой собралась знакомить меня, – они за мороженым в буфете кинотеатра перешли на «ты».
– Да я скажу, что учились вместе.
– В одном классе? – насмешливо сказал Гурьянов. – Тебе сколько лет? Двадцать? А мне двадцать три. Три года, Настя, разделяют нас, но и три года нас соединяют. Кстати, «классную» вашу, Аглаю Владиславовну, видел. На мой вечер приходила. Похвалила.
– А я скажу, что ты три года в одном классе просидел. Из-за меня.
***
Анна Ивановна раскладывала пасьянс, грызла печенье и разговаривала с Тимошкой. Сколько сменилось у них собак, все они были бездомные, подобранные на помойках, и все Тимошки. И характер у всех один был, и всеядность. И совершенно дурацкий оптимизм. Все в нас, вздохнула Анна Ивановна. Второй день у нее было высокое давление и болела голова.
– Ну что, Тимошка, печенья, наверное, хочешь?
Глаза вечно голодного Тимошки выражали печаль и недоумение по поводу столь странного вопроса. Хвост прополз по полу пару раз туда-сюда.
– Хочешь? Вижу, что хочешь.
Тимошка для убедительности пустил слюну и нетерпеливо взвизгнул.
– На, на, ненасытный. И сколько же влезает в тебя?
Тимошка протянул хозяйке лапку. В глазах его было: все, что в вазочке, влезет.
– Ты эгоист, Тимошка. Ни разу не оставил мне в своей миске ни крошки, ни разу не спросил, хочу ли и я поесть.
Тимошка согласно пустил слюну до пола.
Открылась без звонка входная дверь и вошла Настя с молодым человеком. Тимошка, оглядываясь на вазочку, побежал к ним. Рядом с Настей молодой человек выглядел даже внушительно, а ведь и Настя не мала. Впечатляет, с непонятным ей самой удовлетворением отметила Анна Ивановна, статен и… какой взгляд, какой взгляд! Бог ты мой!.. Анна Ивановна почувствовала, как заколотилось вдруг сердце. Она приложила руку к груди. Взяла себя в руки.
– Ты дома? – воскликнула Настя.
– Как видишь, дома.
– Я думала, ты в парикмахерской.
Анна Ивановна усмехнулась:
– Мне сейчас только в парикмахерскую идти! Не прошла голова, – она приложила ладонь тыльной стороной к виску. – Опять сто восемьдесят.
– Ма, познакомься, – сказала Настя.
Анна Ивановна с деланно вялой улыбкой встала из-за стола и протянула молодому человеку руку.
– Анна Ивановна Анненкова.
– Да он знает, что ты Анненкова, – засмеялась Настя. – мы же вместе учились!
– Зипунолог Гурьянов Алексей, – произнес тот бархатным баритоном.
Анна Ивановна вдруг повела перед собой ладонью, взмахнула рукой и опустилась на стул – благо он был под ней. Уронила голову на стол и застонала.
– Мама, что с тобой? – воскликнула Настя. – Алексей, помоги.
Они перевели Анну Ивановну на диван и уложили ее.
– Может, «скорую» вызвать?
Анна Ивановна внятно произнесла:
– Не надо… Свет выключите.
Настя укрыла мать теплым халатом. На цыпочках они вышли на кухню.
– Что ты сказал? – спросила Настя.
– Я? Когда?
– Что ты маме сказал?
– Да ничего я не успел сказать маме! Представился и все.
– Ты перед этим что-то сказал?
– Перед этим? А, зипунолог, сказал. От слова «зипун». Курсовик пишу по древнерусским обрядам и фольклористике.
– Да? Странно. Ничего не пойму. Почему она так вот водила ладонью? – Настя медленно водила перед глазами своей ладонью из стороны в сторону и задумчиво смотрела на нее. – Почему? Она явно что-то хотела сказать.
– Не надо ее беспокоить, – сказал Алексей, взял ладонь Насти в свои руки и прижался к ней губами. Настя отняла руку и спрятала ее за спину.
– Не надо, Алексей, – сказала она.
– Называй меня Лешей.
– Что-то ты не так сказал. Не правильно.
– Можно, конечно, и правильно говорить, гекзаметром, но…
– Ты иди, я справлюсь одна. Иди. Если что, найдешь меня по расписанию.
Гурьянов блеснул глазами, взмахнул своими кудрями, поклонился и молча вышел.
***
Настя терялась в догадках. Она могла, конечно, спросить у матери, что все это значит, но сначала хотела разобраться сама. Почему мама так странно (болезненно даже) отреагировала на незнакомого молодого человека. Кстати, очень симпатичного. В дверь он к ней не ломился, в окно не лез. Я представила его, как старинного знакомого. И, на тебе, взять и брякнуться в обморок. Причем не натуральный. Актриса. У актрис хоть роль какая-то, сверхзадача. А тут? Но и брякаться ради пустяка, менять не только планы вечера, но и, может, планы на мою дальнейшую жизнь… Стоп, вот оно где! Планы на мою дальнейшую жизнь. Она, выходит, восприняла мое знакомство с Алексеем, как нечто выходящее за рамки приличий или невозможное по своей сути. Ну, насчет приличий, тут все пристойно до тошноты. А вот невозможное по сути – не знаю… Настя задумалась.
Притворство матери бросилось в глаза, когда она ловко подоткнула немощной рукой халат себе под бок, чтоб не дуло.
– Мама, что это значит? – Настя зажгла свет.
Анна Ивановна приоткрыла один глаз.
– Ушел? – спросила она.
– Ма, ты меня напугала. Что за комедию ты устроила? Как маленькая, ей-богу!
– Ой-ой-ой! Не смеши – я напугала тебя! Тебя напугаешь!
Настя была втайне польщена такой оценкой, но продолжала допытываться у матери о причине ее столь странного поведения.
– В кои веки привела кавалера, старинного знакомого, а она бряк в обморок. Как в пьесе. В драмтеатре конкурс объявили. Иди…
– Брось врать-то: старинного знакомого! Где подцепила его, старинного знакомого, в какой такой библиотеке? По его холеной физиономии видно, что он сто лет как дорогу туда забыл. Когда познакомились-то? Неделю, две назад? – в голосе ее за небрежностью слышалась настороженность.
– Сегодня. В институте.
– Поздравляю, – облегченно вздохнула мать. – Гора с плеч.
– Какая гора?
– Большая. Тебе не разглядеть. Дай-ка цитрамон. Третью пью, не помогает.
– Раз не помогает, зачем пьешь?
– Ты поможешь? Воды принеси.
Она знает его. Она знает Гурьянова. Откуда? Или… Или она знает его отца? Его отца… Ну и что?..
Настя во сне открыла глаза и увидела, как перед ними раскачивается, как маятник, ладонь матери, туда-сюда, туда-сюда, и никак нельзя было ее остановить и от нее избавиться. Мало того, под утро она стала раскачиваться под слова: Гурь-янов… Гурь-янов… Гурь-янов…
С детства Настя видела сны и привыкла, что все они так или иначе у нее сбываются.
Акт 2. «Три товарища» (1970—1978 гг.)
1. Такая радостная встреча, что искры сыплются из глаз
С молодости (особенно до женитьбы) Дерюгин был доволен всем в жизни. Всё хоккей, говорил он. Жил он в своем доме на берегу Нежи, и река была одним из слагаемых его довольства. Не говоря уже о микроклимате, включавшем, разумеется, сам вид водного бассейна и всегда свежий воздух. Река давала Дерюгину рыбу, раков, выгул и выпас трех десятков гусей и уток, камыш и прутья для корзин на продажу, в половодье лес для строительства и отопления и всякую другую дрянь.
День с самого утра выдался на редкость удачным. Еще до первого рейса – трепался о том о сем с кассиршей Тоськой, подходит Емельчук, сторож, вынимает из сумки щенка колли.
– Толян, дарю! – говорит. – Топить жалко. Красивый.
И впрямь – загляденье! Дерюгин любил эту породу собак. У него уже были две. И он любил рассказывать всем своим знакомым, какие красивые это были собаки, какая густая и пышная у них шерсть. Он и сейчас повторился:
– Замечательные были собаки. Когда умирали, чего-то не прижились, через год померли одна за другой, я из них шапки делал – очень хорошие получались шапки, пышные и красивые. А этого я Артуром назову. Редкое собачье имя!
Где-то он услышал это имя, и оно ему понравилось. Вырастет Артур, опять будет в доме собака, думал он, и на сердце его становилось тепло.
Кассир Смирнова воскликнула:
– Да как же ты мог из собаки сделать шапку!
Дерюгин посмотрел на Тоську и не понял вопроса, но на всякий случай сказал:
– Шапка-то получилась не абы как, красивая вышла шапка! Я вон ее до сих пор ношу, а вторую племяшу дарил – отказался, а зря. Артура буду в ней воспитывать. Должна понравиться – собачья шерсть, родня какая никакая.
После ужина Дерюгин вышел покурить перед сном. Полоска заката на глазах превратилась в полосу. Дерюгин сидел на скамейке у ворот и курил, сплевывая в специально сделанное для этого дела углубление слева от скамейки, скрытое от посторонних глаз выдвигающейся крышечкой. Уже стемнело, но река была еще достаточно светлой. Вдалеке темнели какие-то пятна. Дерюгин сплюнул пару раз и обратил внимание на то, что пятна вроде как переместились слева направо, то есть по течению реки. Никак, плывут, заключил он. И мысль тут же подвигла на дело. Он отвязал лодку и поплыл к темным пятнам. Это оказались шпалы. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – воскликнул он. Удача-то какая, и сколько их тут. В аккурат на баньку плывут. Откуда такие? Он быстро стал цеплять шпалы и буксировать их к берегу. Уже совсем стемнело, когда он справился с этим делом. Двадцать пять шпал – такой был подарок вечера. Дерюгин перетаскал их за домик и, уставший, но довольный, сел покурить. Ну, подфартило! Возле ног лежали три шпалы, которые он выловил еще по весне. Они проросли травой, засыпались песком, надо будет ломиком завтра поддеть, подумал он. Хорошо, выходной. От реки доносились звуки жизни. Кто-то плавал на лодке, скрипел уключинами и, похоже, был чем-то недоволен. Во всяком случае, ругался. Кто бы это мог быть, заинтересовался Дерюгин, и прикурил новую папироску от первой. Минут десять еще скрипели уключины, плескала вода, ругался невидимый голос, потом из мглы нарисовалась тень. Пристала лодка, тень подошла к Дерюгину и спросила мужским голосом, тем, что выражал недовольство:
– Не видал тут кого-нибудь, кто таскал шпалы на берег?
Дерюгин даже уронил потухшую папироску на землю.
– Нет, – сказал он, – не видал. Вот лежат три шпалы, так они еще с весны тут лежат.
– Вот же паразиты! – в сердцах сказал ночной голос. – Я с баржи возле излучины шпалы поскидал. То-се, нет шпал! Сказали, кто-то кружил по реке в этом месте с полчаса назад. Не видал?
– Да нет же, только что с работы пришел, – сказал Дерюгин. – Закурить еще не успел. Будешь?
Тень ушла, слилась с тенью лодки, а потом эти слившиеся тени слились и с рекой. Хороший выдался вечер. Сразу на половину баньки шпал хватит! Хоккей!
***
И надо же, после такой везухи пошла полоса неудач, связанная с женой Зинаидой. У Дерюгина как какая неудача – обязательно от Зинки! Прямо магнитные силовые линии, то засасывают, то отталкивают. На следующий день в десять вечера приперлась какая-то девица. Вчера забыла, мать ее, диплом в его автобусе, а он, нет, чтоб пройти мимо, заметил его и забрал с собой, о чем доложил диспетчеру. Разумеется, девица его нашла, и нашла именно в тот момент, когда он, в свой единственный выходной день, совпавший с воскресеньем, после плотного ужина расположился с Зинаидой на тахте. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – сказал он, встал и отдал студентке диплом. Девица сказала, что уже поздно, не проводит ли он ее до транспорта, а то тут дикие (!) места. Пришлось проводить. Транспорта не было минут сорок. Зинаида устроила, понятно, сцену, после которой на тахту уже не тянуло. Что тоже имело свои последствия.
В понедельник, также на ночь глядя, Зинка при стечении соседей закатила ему форменную истерику по ничем не обоснованному подозрению в супружеской измене с соседкой Валькой, якобы случившейся в реке. Ну, были они в реке! Пляжик тут от дома неподалеку, мысок, кустики, протока. После работы пошел помыться. Валька там. Ну, побегали, побрызгали друг на друга водой. Ну, задел пару раз за задницу. Так там мудрено не задеть. Откуда ни зайдешь – всюду она. Подумаешь, нежности! На пляже – что делать еще? Что, по жопе хлопнуть – измена?! Принесло же Зинку именно в этот момент! И вообще, при чем тут река? Что, если невмоготу изменить, на реку переться?
***
Во вторник того хуже. С утра не встала и не накормила. Попил чайку без всего. Пряник, мышами не догрызенный, специально, наверное, в блюдце оставила! С утра то свеча, то зеркальце. Да еще без обеда – колесо, так его растак, менял! Дерюгин трясся от возбуждения, возведенного обстоятельствами в куб. Куб, как известно, символ бесконечности. Чтобы успокоиться, он курил одну папироску за другой. Баранку еще крутить и крутить. На остановке была толпа. Нехай ждут! Еще шесть минут. Отдохнули на дачках? Теперь ждите! Для гармонии чувств. Ишь, елозят от нетерпения. Елозьте-елозьте. Дерюгин вылез из автобуса, обошел его, постукал ногой по шинам. Скорей бы этот чертов институт кончить да куда на завод пойти. Осточертела шоферская дерготня! Покурил, выглядывая в толпе знакомых. Знакомых не было. Пора, кажется… А это что за Дрон! Дрон-выпендрон! В сторонке стоит (гордый!), сигаретки смолит. Болгарские, кажется. Ну, смоли-смоли…
Дерюгин подогнал автобус к остановке. После обычной давки все влезли в «салон» и разместились на креслах и в проходе. Заработал двигатель. «Дрон» последним заскочил на подножку, на ходу сделав еще несколько быстрых затяжек. В дверях обернулся, бросил сигарету и плюнул ей вслед. Сигарета попала в левый глаз, а плевок в правый глаз парню в спортивной кепке, возникшему в дверях. Парень, понятно, озверел. «Дрон» выставил руки и не пускал его в автобус. Несколько секунд борьба шла с переменным успехом. «Кепка» то заскакивал на подножку, то соскакивал и, держась за поручень, бежал рядом. Дверь захлопнулась – в тот самый момент, когда «кепка» был на улице, а «Дрон» в автобусе. Правда, в автобусе он был не весь: его голова торчала снаружи, а руки, просунутые в дверь, спасали шею. Автобус набирал скорость, а рядом с ним бежал «кепка» и бил «Дрона» по лицу. Дерюгин не без интереса наблюдал за этим и – ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – въехал в бетонный столб по правую руку.
Люди в «салоне» посыпались на пол и друг на друга. Двери раскрылись. «Дрон», пошатываясь, спустился на землю. Он крутил головой и тер себе шею. Дерюгин выскочил из кабины и с кулаками кинулся на «кепку». Но, сообразив, что «Дрон» помят, а «кепка» просто оплеван, сменил направление главного удара и в сердцах отвесил «Дрону» такую оплеуху, что того кинуло на столб.
– Безобразие! – сказали граждане. – Напьются с утра!
В участке все трое поостыли. Не сговариваясь, хором сказали, что вышло явное недоразумение. Мол, думали так, а вышло этак.
– Говорить по очереди, – прервали их. – Вопросов не задавать. Друг от друга отойти.
Как пятиклассники, они повторили: так-этак, так-этак, так-этак. Дурацкий, мол, случай, и никаких претензий друг к другу не имеют – боже упаси! «Дрон» с «кепкой», затаив дыхание, наблюдали, как тестировали водителя. О-ох, свеж! Расписались и отпустили.
– Так ты Гурьянов? – спросил «кепка» «Дрона» на улице. – А я Суэтин. Из десятого «Г» в прошлом, параллельно учились.
– О! Встреча! Сколько лет-то прошло? – воскликнул «Дрон» Гурьянов.
– Уже интересно, – сказал Дерюгин. – И чего ж вы тогда плевались и рожи друг другу царапали, а мне бампер помяли?
– Да учились мы в одной школе! – воскликнули оба. – В разных классах, правда, но в один год выпускались.
Благополучно завершившийся день (если не считать двух царапин на лице, помятой шеи и синяка под глазом Гурьянова) они отметили у Дерюгина в гараже. Накупили выпивки, закуски побольше и расположились отдыхать. Все было по уму и, главное – никаких баб!
– Ты где? – спросил Гурьянов.
– На «Нежмаше», в газодинамической лаборатории, – ответил Суэтин. – В прошлом году из Москвы приехал.
– Совсем, что ли?
– Да, совсем.
– Чего так?
– А-а, тут отдельный разговор. От дивергенции ротора перешел просто к роторам. А ты вроде как филфак кончал?
– Да, конвергенцией языков интересуюсь. Сам в свободном полете. Стишатами балуюсь. Вот, третья брошю-юрка на днях выходит.
– Не бросил, стало быть?
– Мне теперь без тропов и апострофов жизни нет. Синекдоха какая-то.
Дерюгин не выдержал:
– Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! Ребята, не надо ля-ля! Чего вы тут пороли сейчас? А? Давай по-простому, по-нашенски! Я сам, правда, на третьем заочном учусь. Но тяжело как-то, когда бу-бу. Давай без интервенций!
– Давай! – тут же согласились ребята. – Извини, больше не будем.
– А я вообще-то классный механик! – сказал Дерюгин, и «кепка» с «Дроном» подняли стаканы за его «Дерюгу», собранную из остатков «Москвича» и всякой рухляди…
Когда Дерюгин в четвертом часу утра добрался до дома, где его уже часа три поджидала супруга, первое, что он сказал ей, пока та не успела раскрыть рта:
– У меня, Зинаида, теперь есть по гроб жизни два корефана, у нас с ними полный хоккей, и ты меня Валькой своей застиранной больше не компрометируй и не доставай! Никаких больше интервенций! С конвергенциями, – вдруг вспомнил он. – Заднице ее еще надо подрасти, ё-пэ-рэ-сэ-тэ!
***
В сказках жизнь складывается так, что рано или поздно она подходит к столбу, от которого дальше ведут три дороги в разные стороны, и на каждой из дорог хуже некуда, а в самой жизни, как в сказке, бывает так, что к столбу с разных сторон подходят три разные жизни и дальше идут одной общей дорогой. И все у них путём. Бывает такое.
По гаражам стоят такие упоительные российские вечера!