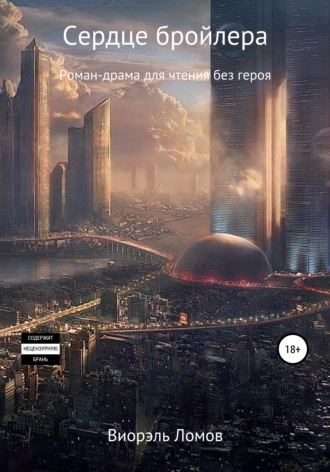
Виорэль Михайлович Ломов
Сердце бройлера
6. Сергей
Сергей к двадцати двум годам полностью разочаровался в жизни. То есть даже в той, которую еще не знал, что только была впереди и сулила ему и успех, и радости. Во всяком случае, окружающие Сергея люди были уверены в том, что она сулит ему радость и успех. Может, завидовали? Впрочем, было чему. Способности у Сергея были блестящие. И к математике, и к шахматам. В шахматных соревнованиях он не участвовал, но у Дерюгина выигрывал и белыми, и черными, а в блиц ему вообще не было равных. А «красный» диплом говорил сам за себя, и прежде всего, не то что он был зубрила и посредственный отличник, а ему одинаково ровно и легко давались любые предметы. Учился он играючи. И, конечно же, в звезду его верила в первую очередь мать. Отец лет до пятнадцати проявлял интерес к способностям сына и даже гордился им, но потом стал равнодушен, чем постоянно выводил мать из себя. Сергей еще ни разу не подвел мать и оправдал все ее надежды.
В плане благополучия он был благополучный мальчик, а затем и юноша. Единственный привод в милицию в восьмом классе был скорее исключением из правил и нелепостью, нежели закономерностью. Хотя Сергей, попав туда в первый раз, почему-то был уверен, что побывает здесь снова. Может, сказывалась русская присказка о том, что лучше не зарекаться, может, еще что-то. Он словно инстинктивно знал, что на Руси зарекайся не зарекайся, а все равно во что-нибудь да вляпаешься. А кто хочет избежать своей судьбы, тот получит чужую.
Этот привод у Сергея был за хулиганство. Школа располагалась над балкой, с боков и со стороны фасада была закрыта густыми деревьями. Школьный двор окружала высокая изгородь с металлическими воротами, и он был хорошо скрыт от посторонних глаз. Ночью в школьный двор часто заезжала милицейская патрульная машина и располагалась там до утра. Патруль, понятно, всю смену дрых и никто его там и не думал разыскивать. Сергей однажды закрыл ворота на замок и позвонил в отделение милиции. Кто-то из своих же его продал, и пришлось расплачиваться за недозволенную шутку. Хорошо, подполковнику она пришлась на руку, и Сергея отпустили сразу же. Однако зуб на него, надо полагать, в райотделе имели и при случае могли показать. Так что Сергею очень не хотелось предоставлять свою судьбу на волю этому случаю. Слава богу, больше такого случая не представилось.
Учеба может даваться легко, но иметь тем не менее свинцовый привкус. Сергей же постигал все науки с моцартианским изяществом, поверяя свою гармонию математикой. Если бы не постоянное жужжание матери, что отцу надо скорей защитить докторскую, а ему кандидатскую, оно бы скорее всего так и было, и отец бы давно защитился, и он еще в институте стал кандидатом, но, по понятной причине, понукания матери только замедляли естественный ход событий, а у отца, похоже, и вовсе тормозили. Сергей заметил, что после каждой вспышки у матери творческого энтузиазма насчет отца, у того вовсе пропадал интерес к чему бы то ни было. Он собирался и шел в дерюгинский гараж.
– От твоего ледяного равнодушия скоро вновь наступит эпоха оледенения! – кричала она ему вслед.
– Ма, ну что ты пристаешь к отцу? – спрашивал Сергей у матери. – Опять придет из «харчевни» пьяный. Ну зачем тебе это надо?
Но она никогда толком не могла ответить ему, почему пристает к отцу и чего от него ждет. У нее эта привычка стала патологической. В самом начале ее блистательного взлета научной и преподавательской карьеры Сергей, понятно, отвлек ее на много лет от истинных интересов и призвания, отбросил на много лет назад, и ничем сейчас не мог искупить своего невольного греха перед ней. Впрочем, почему моего, думал Сергей. Не я же завел самого себя, в конце концов. Я же не тот старый патефон с ручкой, что валяется на антресолях. Сами завели, сами и слушайте. Ну, а отец оказался в их семейном треугольнике единственным тупым углом, который мать отстругала до острого состояния. Всю жизнь, сколько помнил себя Сергей, она пыталась доказать отцу, что он не то чтобы погубил ее талант, но не дал раскрыться, и вообще не стоит ее ногтя. Впрочем, это могло Сергею и казаться так. Так как иногда он видел родителей вполне умиротворенными друг другом. Но умиротворение завершалось вопросом:
– Как докторская? Думаешь защищаться?
– По очередному дерьму, утилизации отходов? Чьих, человечества?
– Ну, тебе меньше по штату не положено!
– От человеческого дерьма защиты нет! – отрезал отец.
– А ты когда защитишься наконец? – переключалась мать на Сергея.
– Не надо давить на меня. Не надо. Силы действия и противодействия не равны. Неужели не знаешь? Сила противодействия всегда больше.
– Особенно у таких противных, как ты!
Странно, но он давно не находил в себе ничего от отца. Собственно, с того самого момента, как сознательно захотел найти в себе черты отца, он ищет их и не находит. Это удивительно. Нет, внешне-то он похож. Но вот внутренне – ничего схожего ни в характере, ни в душе. Ведь должно же было быть хоть что-то, некий резонатор, который давал бы ту же амплитуду, частоту колебаний жизни, мыслей, чувств. Нет, все было по-другому. И отец, казалось, тоже это замечал и с годами стал к нему холоднее. И Сергею было обидно, что отец совершенно перестал интересоваться его соображениями о карьере, темой его диссертации и всем тем, что должно составлять стержень любой нормальной семьи, в которой все живут друг другом, заботятся друг о друге и видят смысл только в такой жизни и в этой заботе.
Вот и разочаровался Сергей именно в той жизни, которой от него ожидала мать. И для достижения которой готова была пожертвовать чем угодно: собой, отцом и даже им, Сергеем. Это он знал совершенно определенно. Смысл ее существования свелся к тому, чтобы Сергей как можно быстрее стал кандидатом. Ей были абсолютно безразличны (в отличие от отца) и тема работы, и практическое ее применение, и даже смысл. Для нее весь смысл сосредоточился в самой процедуре защиты и торжестве победителя. Кого – ее? С отцом Сергей на эту тему не беседовал, но предполагал, что ничего путного от него и не услышит, так как отец совершенно перестал интересоваться его судьбой, что было крайне странно и обидно…
Сергей торопился домой. Зайдя во двор, заставленный автомобилями, он решил прошмыгнуть мимо сталистого «БМВ» и белого «японца». Взвизгнул сначала «БМВ». Взвизгнул и тут же заткнулся. А потом «японец». Сергей сгоряча пнул его по колесу. Не сделал он и десяти шагов, выскочил с кулаками хозяин «японца». Сергей одним ударом сбил его с ног и, не оглядываясь, зашел в подъезд, треснув дверью. Он и хотел, и не хотел, чтобы сбитый им мужик кинулся на него сзади. Вот уж когда Сергей даст выход всей злости, накопившейся в нем за последнее время! Он даже с минуту простоял внизу, прислушиваясь к шуму во дворе.
***
Сергей вспомнил, как года три назад до смерти напугал бабушку, царствие ей небесное! Бабушка приехала ним в гости и сидела на кухне, ждала, когда разойдется компания.
Анна Петровна любила рассказывать эту историю.
– Загулялась молодежь за полночь. Родителей нет, в Москве оба. У меня сердце мягкое, отзывчивое. Я на кухне сижу, чтоб им не мешать, книгу читаю. А там, не рыдай моя мать! Такой рев, такой рев и топот! Как это соседи не пришли, не знаю даже? А, Новый год был. Чего же я читала-то? А, Оскара Уайльда. Забавное что-то. Вдруг стук в окошко. Тук-тук-тук! Голову оторвала от книги. Не пойму, где стучат. Снова: тук-тук-тук! В стекло оконное. А квартира на четвертом этаже. Я перед этим фильм какой-то смотрела про летающие тарелки, как на них людей похищают. Нехорошо на душе стало. Стук громче. Я закричала. А в окно уже не на шутку дубасят. Ну, тут я и заорала, как под Миусом, когда фрицев атаковали. Прибежали парни с девками. Я ору. Они ко мне: что, что такое? Я ору и на окно показываю. Я ору, они орут и не слышно больше ничего! Я тогда – тише! – говорю. Слушайте. Замолкли все, прислушались. А в окно снова стук. Так что стекла трещат. Окно заделано, отодрали с горем пополам, отворили, а там Сергей, окоченевший весь. Поздравить бабушку пришел – по карнизу!
Тогда Сергей вдруг затосковал (на него в шумных компаниях такое иногда находило) и не знал уже, что предпринять. И вдруг вспомнил о знаменитой сцене кутежа Пьера Безухова. Позабавлю-ка ремейком гостей, а заодно и бабулю поздравлю. Соскучилась, небось, там одна. Вышел на балкон, перелез через перила и по карнизу, хватаясь за обледенелые стены, добрался до окна кухни. Два раза чуть не сорвался. Удержался чудом. Но, похоже, отморозил пальцы. Позлорадствовал, стиснув зубы: «Нет, до такой стены даже Стивен Кинг не додумался. Куда ему! Не был он у нас в России, не был. И делать ему тут нечего!» Сквозь мерзлое стекло было плохо видно. Угадывался бабушкин силуэт. Постучал. Бабушка подняла голову, взглянула на него, открыла рот. Снова постучал. Бабулин крик был слышен даже на улице. Прибежали ребята. Бабушка тыкала пальцем в направлении окна и орала. Все тоже заорали, забегали, по телефону стали звонить. Хоть бы кто к окну подошел. Стал бить по стеклу кулаком. На кухне затихли. Наконец-то кинулись к окну. Возились с ним битый час. Чуть-чуть бы еще, и выдавил стекло. Перевалился через подоконник. Заорал:
– Ну, чем я не Долохов?
– Какой Долохов? – заорали все. – Слабо Долохову!
Бабуля поцеловала в лоб и дала подзатыльник. Ах, какая же она была славная!
До последнего дня она работала над монографией о становлении отечественного коневодства. Накрапала тридцать пять авторских листов! Академик ВАСХНИЛ Харитонов тут же распорядился издать ее. За год с небольшим монография была подготовлена к изданию, и бабуля успела прочитать оттиски.
– Это, Сереженька, дело всей моей жизни, – сказала она ему тогда. – Не думай, что жизнь долгая. Спеши сделать главное, пока молодой.
Когда бабуля тихо-тихо покинула этот свет, он не услышал из ее уст ни одного стона, может быть, потому, что у него в тот момент стонала и ревела собственная душа. И ее жалко было, и себя, и, как ни странно, все человечество. С нею, казалось, уходила навеки стихия беззаветного служения людям.
7. В «Трех товарищах»
Евгений встретился с Алексеем и они, не сговариваясь, подались к Дерюгину в гараж. Подходя к гаражам, взглянули друг на друга и пожали руки. Похоже, мужские треугольники надежнее смешанных. Как в былинах да сказках.
На гараже болтами была привинчена вывеска «Три товарища». Ниже разными почерками мелком было приписано: «Три толстяка. Три мушкетера. Три поросенка. Трое. Трехчлен. Три пескаря. Три сестры. Три года». «Трехчлен» был зачеркнут.
– Бог троицу любит, – сказал Гурьянов и приписал «Трибрахий».
Заглянув в гараж, они услышали голос друга. В гараже было пусто. Голос и свет шли из недр земли.
– Я тебе… – говорил голос. – Я тебе сейчас так пойду, что тебя ни один стационар не примет! Коником по фейсу! Вот сюда! На жэ!
– Ой-е-ей! Напугал! Напугал бабку отверткой! – ответил первому голосу второй, принадлежащий, впрочем, тоже Дерюгину. Послышалось короткое, но выразительное слово из ненормативной лексики, бульканье, стук, кряканье, звук «а-а-а!..» – выражавший высшую степень удовлетворения.
– Пьешь? – спросил первый голос. – Пьешь, значит? А мы, что же, лысые? А мы лы-ысые?.. Лысые-лысые! О так-от! Получил? Е-два получил? Это тебе не г-пять!
Послышалась причудливая вязь из слов нормативной и ненормативной лексики, бульканье, стук, кряканье, звук «а-а-а!..» После чего, как после всякого удовлетворения, наступила некоторая пауза.
Гурьянов подошел к яме:
– Ты чего там, Толя?
– Не мешай! – послышалось из ямы. – Посиди. Гамбит добиваю…
– Добиваешь или допиваешь?
– Что он там? – спросил Суэтин, не заходя в гараж. Он невольно залюбовался видом рощицы на другой стороне балки.
– Партию исполняет. Гамбит на табурете. На прочее, увы, опоздали.
– Ты посмотри, какая красота, – указал Суэтин на рощицу. – Зачем он в яме-то сидит?
Агония гамбита длилась пять минут. После грохота сметенных с доски фигур вылез недовольный Дерюгин.
– Зинаида достала, – были первые слова Дерюгина. – Заначку, – он похлопал по пистончику брюк, – вчера постирала вместе с брюками! Это бы ладно. Гладить стала, нашла, прогладила ее и, проглаженную, изъяла в доход государства. Да еще пристала: откуда? На свою голову сказал, что профвзносы. Так много, удивилась она. Хорошо, мысль пришла, что это за полгода. С зарплаты отдашь, сказала и изъяла. Пришлось «закладку» вскрывать.
«Закладки» были разбросаны по гаражу во множестве. Это, разумеется, были не те закладки в томиках поэзии или артистических мемуаров, которые любят делать рафинированные дамочки, находящие вкус в «высокой» литературе. Дерюгинские закладки были в щелях между кирпичами. Все их Дерюгин, естественно, не помнил, так как «закладывал» большей частью в беспамятстве, после того, как уже заложил за воротник.
– Зинаида с табульками не ловила? – поинтересовался Суэтин.
– Тьфу-тьфу! Бог миловал. У меня они и по форме, и по содержанию, как надо. Тик в тик. Не подкопаешься.
Дерюгин бухгалтерские квитки о начислении зарплаты печатал сам на машинке «Ивица» и относил «для отчета» жене. Та ни разу не усомнилась в их подлинности, так как даже не подозревала о мошеннических талантах супруга, поскольку считала его круглой бестолочью. Каждый раз она сетовала:
– Ну, что это за получка? Раз от раза все меньше. У вас что, совсем нет премий?
– Нет, – вздыхал Дерюгин. – План не даем уже несколько месяцев.
– Лет, – поправляла его Зинаида и шла жаловаться на мужа соседке. У той муж получал и того меньше, и это хоть как-то успокаивало Зинаиду.
– Это еще не все, – продолжал досадовать Дерюгин. – Потом сюда приперлась. Картинки сорвала. «Трехчлен» зачеркнула. Вон они, – он указал на обрывки бумаги в углу. – Пришла, увидела, разодрала.
– Что за картинки? – спросил Суэтин.
Дерюгин поднял обрывок, разгладил на колене, ласково провел ладонью по наливному бедру разорванной на части красавицы.
– Е-мое! Такую красоту! – сокрушенно сказал он.
– Что бабы понимают в красоте? Особенно женской. Завистницы! – подхватил тему Гурьянов. – Мы тут к тебе, Толя, не совсем пустые…
– Вижу-вижу, – повеселел Дерюгин. – Закусончик есть. Е-пэ-рэ-сэ-тэ!.. – он извлек из сумки хлеб, колбасный сыр, кильку в томате, головку чеснока. – Мне житья от нее, братцы, нет, а сама гуляет, как хочет. Как выходные, так калым. Деньгу зашибает, а где она, деньга, не видать!
– Тут вы квиты, – сказал Гурьянов.
– Ей бы только песни попеть. Она и калымит для этого. Верите ли, в выходные один дома, как сыч. Туда, сюда сунешься – пусто! В гараж подамся, так хоть партийку-другую сам с собой сгоняю, пивка хлебну – на душе светлеет.
Друзья сочувствовали Дерюгину, но, увы, ничем не могли помочь. Да, собственно, кто ее, помощь эту, ожидает по гаражам да по кухням. Поплакался, поругался, и полегчало на душе. Так и идет круговой плач и круговая ругань. Как в цирке.
***
Зинаида лет десять работала маляром, а потом по просьбе Дерюгина Николай Федорович Гурьянов устроил ее в Дом офицеров художником. Рисовала плакаты, оформляла стенды. Удачно написала несколько картин из солдатских будней – «Читающий старшина», «На балете» и тому подобное. По выходным подрабатывала побелкой и покраской квартир военнослужащих. Квартиры были двухкомнатные, редко – трех. Приходила с кистью на длинной ручке. Краску, известку, ацетон предоставляли хозяева. В завтраке не нуждалась. Для настроя выпивала (не закусывая) сто граммов водки и до обеда красила первую комнату. Обедала в пять вечера. Комната сияет, пахнет свежестью или краской, на столе красный с косточкой борщ, селедочка с лучком, холодец с хренком, две котлеты с картофельным пюре, политым растопленным маслом. Зинаидины вкусы знает вся дивизия. Бутылка допита, обход позиций сделан, в рот сигарета, в руки гитара, проигрыш, перекур, и звучит русская раздольная песня. Часов до одиннадцати. А назавтра в восемь утра Зинаида, как штык, на боевом посту, опрокидывает (без закуски) сто граммов, и вторая комната – держись! В семнадцать ноль-ноль обед, а потом песни до двадцати трех. В двадцать три ноль-ноль расчет наличными. С военных скидка пятьдесят процентов. В двадцать три тридцать возвращение домой и разнос Дерюгину за небрежно прибранную квартиру.
***
– И вот так, ребята, я живу всю свою сознательную жизнь!
Гурьянов утешал Дерюгина:
– Не переживай, Толя! Она – во имя творчества! Творческие натуры не переделать! По себе и по отцу знаю! Нас не переделаешь, к нам приноравливаться надо! Не переживай! Переживания сокращают век. А зачем, если он и так короткий? Ну, за любовь!
– Ты что, серьезно? – Дерюгин даже встал. – Не, я за это не пью! Нашел, за что пить! Стареешь, знать.
– Любовь, – протянул Гурьянов. – Любовь, брат, такой особенный, такой таинственный предмет… Ее Бог отпускает одну на троих…
– Как водку, что ли? – спросил Дерюгин.
– Бог отпускает одну любовь на троих, а весь мир состоит только из третьих лишних.
– А что же тогда достается тем двум?
– Дело в том, что их нет. Одни только третьи лишние. Поэтому любовь сама по себе, а мир сам по себе. Не пересекаются.
– Врешь! – воскликнул Дерюгин. – Быть такого не может!
– Не может, но есть. Вот за это я и хотел бы выпить.
– А поехали завтра семьями на остров, со скалы попрыгаем, – вдруг предложил Дерюгин. – Ты, Алексей, возьми кого понадежней. Чтоб наших дам не расстраивать.
– А как же Зинаида, у нее ж в субботу калым?
– Тут полный порядок! Она руку сломала, – улыбнулся Дерюгин.
– А что, это мысль, – согласились Суэтин и Гурьянов. – Пикник это эх! А как же она со сломанной рукой стирала? Ногами, что ли?
– Ну, ребята, вы даете! Я ж забыл сказать вам – стиральную машину купил. Вот когда затаскивали ее, и сломала. Ну, не сломала, а зашибла. Но сильно. Жить будет, а вот красить недельку, врач сказал, надо погодить.
– Что ж молчал? За стиральную машину!
8. Полет Дерюгина
Пошел дождь, и все побежали.
Суэтин любил смотреть на женщин под дождем. Они ведут себя совсем не так, как мужчины. Очень привлекательно выглядят бегущие девушки в джинсах и майках без лифчиков. Груди их свободно и упруго прыгают из стороны в сторону. Жаль, майки не пускают их на волю. А девчушка бежать не хочет. Смешно расставила ноги и хнычет, что описалась. Мать тянет ее за руку и, беспомощно оглядываясь по сторонам, что-то говорит ей коротко и зло.
Дождь, как большой начальник: едва начинает идти, как все тут же начинают бегать.
А потом дождь перестал, и все успокоились. Выглянуло солнце.
В небе молча пролетел Дерюгин. Голый, как Маргарита, но без метлы. Пролетел с десятиметровой скалы до воды, булькнул и исчез. А вынырнул далеко в стороне, как не имеющий к полету никакого отношения. Поверхность, которую он пронзил своим полетом, разгладилась и вновь отразила небо.
– Утоп, дурень! – безжалостно произнес бас и бухнулся в воду.
– Утонул! – завопила истеричная личность и поджала под себя ноги. Ее разбирал интерес.
Остальные чего-то ждали.
Бас понырял, понырял, дурня не нашел, вылез на берег и стал греться на камнях. Истеричная личность выпрямила ноги и легла на спину, устремив взор в синюю вечность. Остальные занялись прежним делом: то есть ничем или сами собой.
Дерюгин еще раз забрался на скалу и пролетел в небе в другой раз. На этот раз с криком «Е-пэ-рэ-сэ-тэ!». Публика на утопленников больше не реагировала. Бас только бухнул:
– Високо литав, а низько сив!
А истеричная личность стала бросать в то место, куда упал Дерюгин, камни, стараясь попасть в центр расходящегося круга.
– Вон он, – сказал он басу, когда Дерюгин вынырнул в стороне. Бас не удосужился посмотреть в ту сторону.
– Хай прыгае, як лягушка. Тоже дило, – сказал он на смеси языков. – Дурням закон не писан.
– Эк сигает Дерюгин, – сказал Суэтин.
– Почему он голый? – спросила Настя. – И почему Гурьянов не прыгает? Поэт и не прыгает.
– Ты предвзята к нему.
– Я предвзята? Меня удивляет, как можно быть таким… – она не сказала, каким, – и сочинять стихи?
– А что тут удивительного? Какое отношение имеет Гурьянов к своим стихам?
– Как какое?
– Да, какое? Никакого. Поэты – дети, что собирают камешки. Чтобы писать стихи, надо остаться ребенком и собирать камешки.
– Не знаю, – с легким раздражением сказала Настя. – Он ведет себя, как половозрелый мальчик.
Подошел Дерюгин.
– В трусах, – сказал Суэтин. – А Настя сказала: голый.
– Ей виднее.
– Ой, было бы на что смотреть! – хмыкнула Настя. – Ты почему без трусов распрыгался?
– Что же я потом, в мокрых сидеть буду? Ты, значит, в сухих, а я в мокрых?
– Дачу-то продал? – спросил Суэтин.
– Продал. Третью начал строить.
– Зинаида подвигла?
– А кто ж еще?
– Это ты два полета проданным дачам посвятил? – спросила Настя.
– Очко воздвиг! В нем надежней, чем в танке! За баню думаю взяться…
– Лучше бы на море съездил, – посоветовал Суэтин. – Сколько лет не был на море?
– Да все пятьдесят.
– Вот видишь. Но ничего. Отстроишь, Толя, новую дачу, взберешься на конек крыши и увидишь оттуда Гибралтар, чаек и паруса.
– Забраться-то можно, – усмехнулся Дерюгин, – вот только дача моя на двадцать пять метров ниже уровня моря.







