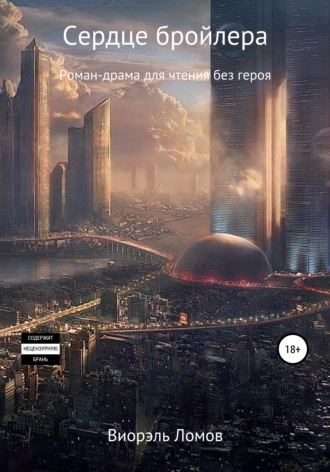
Виорэль Михайлович Ломов
Сердце бройлера
3. Папа, между прочим
Гурьяновские стихи нравились женщинам, поскольку мужчины стихов не читают вовсе. Трудно найти мужика, который между пивом и луной выберет луну, а между бабой и девой – деву.
Став «читаемым», Гурьянов начал свои похождения по красным уголкам женских общежитий. Он там, блестя глазами, подробно отвечал на вопросы и охотно читал «свежее». Некоторые слушательницы, не чуждые поэтических порывов, просили его поделиться с ними приемами профмастерства. Он охотно делился ими. Всюду, где придется. Особенно, в общежитиях – студенческих, аспирантских, рабочей молодежи и, особенно, женских.
И вдруг, спустя много лет, Гурьянов узнает о существовании сына, о котором и не подозревал никогда! И от кого? От сына лучшего друга, Сережки Суэтина! Оказывается, они знакомы с ним и даже чего-то там «челночат» или собираются «челночить».
Будь Гурьянов королем, его сын стал бы бастардом. Хотя сын, став «челноком», и лишил его королевских почестей и чувства законной гордости за сына-молодца, увидеть его все равно хотелось. И даже очень сильно. Ну и что – «челнок»? «Челленджер»! Подучим, ноу проблем! Юрий. Прекрасное имя! Юрий Гурьянов. Юрий Алексеевич Гурьянов. Замечательно! Почти Гагарин. Аусгецейхнет, любил повторять отец. Услышал, наверное, от кого-нибудь.
Гурьянова не на шутку обуяли отцовские чувства. Он, правда, не учел, что безотцовщина скорее алебастр, чем пластилин или глина, и в заботливых отцовских руках мягче не станет. Он был уверен, что его поэтическая душа обязательно найдет приют в склонной к поэзии (он был уверен в этом!) душе сына. Ведь и сам он перенял некоторые, не самые худшие, качества своего отца. Лишь бы она, его мать (интересно, кто это?), не ставила палки в колеса, не давая сблизиться отцу и сыну. О, эта горькая судьба отца и сына! Лишь бы ее не обуревала гордыня. Гурьянов от истины был не далек, но и не близок к ней, так как слов «обуревать» и «гордыня» в лексиконе работницы табачной фабрики, ставшей с годами похожей на отечественную сигарету, не было. Не было, потому что и не было никогда. Ну, да поэтические краски многое высвечивают в другом, выгодном для поэта, цвете.
Гурьянов, узнав от Сергея новость о сыне Юрии, переполошился и удивился сам себе, чем удивил и Сергея. «Старик Гурьянов, старик», – подумал тот, подметив дрожание пальцев и легкую слезливость.
– Ты только того, нас одних оставь, ладно? – попросил Алексей Николаевич Сергея.
– Пивка выпью и оставлю, – пообещал тот.
– Фамилия-то его как будет, Юрия?
– Фамилия? Забыл спросить.
***
Когда Гурьянов вошел в пивбар с «Дербентом» и «Цинандали», Юрий допивал третью кружку пива. Он молча уставился на «папеньку». Сергей представил их друг другу.
– Гурьянов Алексей Николаевич. Юрий, – сказал он, указывая на Семена. Тот удивленно взглянул на Сергея, но поправлять не стал. «Был Григорием, побуду-ка Юрием», – подумал он.
– Ну, как ты… сынок… Юрий? Фамилия-то как?.. Как будет твоя?
– Неважно…
– Что? А, ну, да-да… А я Алексей Николаевич. Гурьянов. Поэт есть такой – слышал? Член Союза писателей. И, между прочим, твой отец, – Гурьянову удалось подавить волнение, и фраза закруглилась достаточно гладко.
– Борисов фамилия моя. Сын Кармен.
– Да? Кармен? А-а, – Гурьянов вспомнил Кармен. Была, была такая. Где вот только? В Коктебеле или в Пицунде?
– Значит, я ваш сын?
Молчание. Потом Гурьянову послышалось или на самом деле прозвучало: «Между прочим».
– Ну что, Юра, это дело надо отметить, – и на этот раз прекрасно расслышал дополнение: «Между прочим», но сделал вид, что не услышал.
– Так я пойду? Всего вам, – попрощался Сергей.
– Да, между прочим, не каждый день… – подал голос сын.
– Да-да!..
– … приходится пить «Дербент» с «Цинандали». Все больше беленькую. Мы его, как… из горла?
– Пойдем куда-нибудь в другое место, посидим, поговорим… Тут грязно как-то.
– Грязно? – удивился сын. – Давно, между прочим, не говорили… Алексей Николаевич.
Гурьянов строго, но и мягко, взглянул на сына:
– Я, между прочим, не Алексей Николаевич, то есть, я хочу сказать, я Алексей Николаевич, но не только и не столько, я еще и твой отец. Папа, между прочим.
– Между прочим, папа.
– Ты это с иронией?
– Вы о чем?..
– Да нет, так просто. Ну, пошли?
– А можно, я поведу в одно место? Классное! – оживился сын.
И Гурьянов мог побожиться, что опять услышал, будто кто-то говорит у него в самом центре души: «Между прочим». Он быстро взглянул на сына, но тот без улыбки шагал рядом с ним, чуть впереди, и рот у него был замкнут. Чревовещание судьбы, подумал Гурьянов. Тогда чревовещает нам судьба, когда решается она.
– Кончается…
– Что? – взвизгнул Гурьянов.
Сын удивленно взглянул на него:
– Деньга кончается у меня. Через месяц поедем с Сергеем зашибать. А сейчас вот напряг с деньгой.
– Не сочти за… за… вот, возьми… – Гурьянов вытащил из кармана, не глядя, припасенные заранее деньги. Сын ловко перехватил их.
Он привел отца в буфет бывшего женского, а сейчас семейного, общежития, где некогда поэт Гурьянов охмурил набивальщицу Борисову, пленив ее строками: «О, столько смен, прождал тебя, Кармен, я у ворот, не рая – ада. Наверно, Богу было надо, чтоб столько смен я ждал тебя у врат, Кармен!» Мать часто цитировала эти строки сыну. И показывала столик, за которым они сидели в тот вечер… и ели сосиски. Знай она импрессионистов, узнала бы в некоторых их картинах именно этот столик, а может даже, и себя.
В детстве сыну нравились отцовы стишки, как все, что нравилось матери, но детские годы шли, у матери все хуже и хуже становилось с легкими, батяня так и не появился ни разу на горизонте его счастливого детства, и ниоткуда не прислал почтовый перевод, чтоб мать съездила хоть разок в санаторий. Хорошо, что профком отправил бедняжку в Крым. А маманя меня к дядьям-алкоголикам. «Матери год-два жить осталось. Румянец какой! А этот – румяная сволочь!»
– Вот и пришли, – Семен указал на столик в углу буфета. («Бедная мать! – подумал он, но не пожалел ее, как раньше, а просто стал еще сильнее презирать за бедность. – Продаться за сосиски! Сама виновата!»). Смена еще не кончилась, и народу в буфете не было. – Между прочим, очень уютно.
Он четко произнес «между прочим», но видно было, что не вложил в них никакого другого смысла, кроме того, который вложил. Между прочим. Так начинаются глюки, подумал Гурьянов, пора и выпить.
– Это студенческое общежитие?
– Ага, общага… табачной фабрики.
– Ты тут… маму встречаешь после смены?
– Ага. Еще баб снимаю. Пену взбить любви телесной.
– Что? – хрипло спросил Гурьянов.
– Пену, говорю, взбить. Любви телесной. Любви страстной. Безудержной… Это из любовной лирики. Наверно, богу было надо, чтоб столько смен я ждал тебя у врат, Кармен…
– Ты знаешь мои стихи?
– Стихи? Да, с детства помню.
– Ну, что ж, приступим? – Гурьянов поставил на стол бутылки. – Как тут сейчас – обслуживают?
Борисов лег на стойку, перегнулся к буфетчице и, положив ей руку на зад, шепнул что-то на ушко, та хихикнула и дала ему нож, штопор, два стакана и даже две салфетки. Губы и глаза ее были как губка, да и вся она была, как губка. Гурьянова от этой мысли передернуло. Слышно было, как она уважительно сказала «Дары!» Несколько неожиданно и странно было услышать это слово в этом месте. Гурьянов как-то забыл, что и сам двадцать лет назад произносил здесь не менее высокие слова, которые вот только, увы, очень сильно сгладило время. И уж совсем удивился Гурьянов, когда услышал: «Не верьте данайцам, дары приносящим». Но нет, это не Юрий. Это что-то внутри него трагически произнесло.
– Ты тут как свой.
– Даже без «как», я тут свой. Как и вы… Алексей Николаевич. Вон то – тоже ваша дочь. Вон, шлюшка та. Кать! Радетель зовет!
– Что? Катя? Какая Катя?
– Хорошая Катя. Ночь как минута пролетает…
– Что ты говоришь?
– Здравствуйте.
Гурьянов встал. Девица была откровенно яркая до вульгарности, но и неуловимо волнующая до поэтического экстаза. Она невинно смотрела Гурьянову в глаза. Поскольку невинность дается женщине один раз в жизни, она невинна всю жизнь. Нет, губка, губка! «Какие руки, какие губки, какие бедра у голубки!» – привычно полезли в голову рифмы. Гурьянов поморщился от них, как от неприятного запаха.
– Борисов сказал, что вы Гурьянов. А я Бельская. Дочь Сони Бельской, бывшей буфетчицы. Помните ее?.. Семейная династия. Мать часто говорила про вас. Что вы, мол, отец мой. Думала: врет. Думала: фи, поэт Гурьянов и какая-то буфетчица?
– Она твоя мама, Соня… – сказал Гурьянов. В горле его пересохло. Он глотнул коньяк и не почувствовал, что это коньяк.
– Соня она, а я Катя. Я-то знаю, кто она мне. Про вас сомневалась. Мать-то я хорошо знаю. Надо же, отца вижу! Скажи вчера кто, послала бы! У нее-то кого только не было – и маляры, и ментура, и шофера, главбух какой-то задрипанный был, с порфелем! Милый мой бухгалтер! Козлы вонючие! А мать: нет, не они твои отцы, твой отец поэт Гурьянов! Как будто я претендовала сразу на несколько отцов! Ей, конечно, виднее было.
– А ведь я, Катя, – поздравь меня – тоже его сын. О! И твой брат заодно!
– Иди ты! Ой, плохо будет! А если ты заделал мне кого?
– Юрий! – воскликнул отец.
– Юрий? – удивилась девица. – Юрий! Ой, уморил, – она расхохоталась. – Семен он, а никакой не Юрий! Папенька!
– Что мне все это напоминает?.. – посмотрел Гурьянов на своих деток. – В Петергофе фонтан есть. Из Бельгии привезли. Называется «Самсон, разрывающий пасть писающему мальчику». Очень напоминает…
Два часа общения Гурьянова с сыном существенно не сблизили, что было и неудивительно. Семен был абсолютно чужой и не желающий пойти ему навстречу человек. Поговорили о том, о сем, как два попутчика, пока Катя не сказала им:
– Все, родственники, лавочка закрывается! Выметайтесь.
Гурьянов со вздохом поднялся, простился с Катей. Та, как Леонид Якубович, поморгала ему глазами.
– Сестренка, покеда!
Семен, пиная пластиковую бутылку, проводил отца до трамвая. Возле телефонной будки маленький черный пудель пытался взгромоздиться на крупную податливую овчарку.
– Такой маленький и уже кобель! – воскликнул Семен, ловко поддел бутылку и угодил ею в дрыгающийся песий зад. И расхохотался.
«Как ни странно, – подумал Гурьянов, – осознание своего ничтожества возвышает. Вернее, очищает».
4. О плановой трансформации административно-хозяйственных отношений в рыночные
Всю нескончаемую майскую ночь дул сильный ветер. Нудно гудело за окном. К утру стало холоднее. Низкие серые тучи, как тревожные мысли, нескончаемо ползли и ползли с запада на восток. Сквозь порывы ветра каким-то пунктиром доносились звуки города. Дома стояли съежившись, согнувшись, заострившись. Яблоневый цвет опал. Он лежал на влажной от ночного дождя земле, как рыбья чешуя. И была в этом завершении красоты, как и во всяком завершении, какая-то несправедливость и грубость. И вместе с тем, уверенность в своей правоте. Грубость часто бывает права, права, потому что завершает даже красоту.
Суэтин задумчиво брел к дому.
Как представишь, сколько в этот момент тел сливаются в судороге и сколько душ витают в неприкаянном волчьем одиночестве, жалко становится человека, жалко, что он не может найти себе душу, которая давно ищет его самого.
Встречный глянул на него резко, зло, точно это Суэтин накликал промозглую погоду.
Как бы пристально и магнетически, как бы тяжело и зло ты ни взглянул на другого человека, всегда найдется такой, чей взгляд будет пристальнее и пронзительнее, тяжелее и злее, чем твой. Но если ты взглянешь на человека по-доброму и открыто, вряд ли кто будет тебя сильней. Ибо злой взгляд от дьявола, и сильнее его ты не будешь, а добрый – от Бога, и он открывается сразу же и весь.
***
Настя давно уже привыкла к причудам Евгения. Он дня не мог прожить без какой-либо увлеченности. Не женщиной, нет, ими он интересовался мало, а идеей, фантазией. Увлечется, вспыхнет, положит на нее ум, энергию, время и вдохновение, а через год-другой с такой же легкостью сменит ее на новую.
Сначала он увлекался собиранием книг, потом вдруг стал собирать коренья и травы, а заодно выжиганием по дереву, потом стал делать всякие настойки и наливки, перещеголяв в них мать, чуть не спился, потом резко сменил курс и перестал совершенно пить и есть не только мясо, но и рыбу, яйца, сыр, майонез, грибы… А что же он ел тогда вообще? Настя в те дни перестала готовить еду и чувствовала себя обманутой и преданной. У нее тогда впервые заболело сердце, как от любого непоправимого несчастья.
И вот, в конце концов, здрасьте, ушел с головой в эзотерические учения: во всякие там йоги, арканы, эгрегоры, чакры, кундалини и прочую канитель. Накупил три полки Кастанеды, Подводного, Малахова, кучу малоизвестных авторов, тем не менее ужасно просветленных и продвинутых, и ушел в нирвану.
Иногда на него накатывала хандра, и он впадал в «депресняк», закрывался в комнате и то ли возился со своей формулой, то ли просто, как мазохист, упивался одиночеством. На него было страшно глядеть в эти дни: осунется, не брит, хмур, молчалив. Не дай бог сказать что-нибудь поперек. Нет, не взорвется, но так уйдет в себя, с такой силой, что вслед за ним, кажется, уходит и вся твоя жизнь. Уходит, и нет ее тут, с тобой, и там она ему совсем не нужна.
Настя чувствовала, что это в нем от отчаяния, но не могла понять, вернее, не могла себе представить, отчего это. Как женщина, она первым делом думала, что тут все дело в его неудовлетворенности ею как женщиной, и от этой мысли ожесточалась и наговаривала себе и подруге Веронике много чего лишнего на Евгения, о чем потом жалела. Евгений становился в эти дни не только замкнут, но и жесток. Черствость его иногда изумляла. Он оставался совершенно равнодушен к чужим страданиям и болям, в том числе и ее, и Сережиным. Их для него просто не было. Для него существовали лишь его боль и проблемы, и он яростно бился с ними в душе своей, один на один, не прекращая свой беспощадный рыцарский поединок с самим собой, победителем в котором, Настя знала это, будет только смерть.
Она видела это, но ее мало утешало увиденное. Ей, разумеется, хотелось лишний раз выйти в театр, в ресторан, пойти в гости, просто погулять, наконец. Но она уже стала бояться предложить ему это. Когда же Евгений года два назад стал (уже в который раз) исписывать сотни листов в поисках какой-то формулы, она не выдержала и спросила у него: «Тебе, Женя, не надоело?» Он не услышал ее, хотя и промычал что-то в ответ.
Она решила больше не обращаться к нему ни с чем, пусть жизнь идет, как идет, себе дороже будет. Иногда он с лихорадочно блестящими глазами и весь в нервном возбуждении, дрожа, спускался до нее и рассказывал о своих успехах, в которых, признаться, она мало что понимала, но в эти минуты она еще сохранила способность искренне радоваться за него. Не все умерло в ней в результате нескончаемых многолетних экспериментов Евгения. Он мог сутки, двое не спать, не есть, не пить, не ходить даже в туалет, а на любое обращение к нему лишь рычал и раздраженно махал рукой, чтобы она закрыла дверь и не лезла к нему.
Однажды к ним пришли гости, но он даже не вышел и бросил ей, не поворачивая головы, мол, займись ими сама, я занят, болен, умер, скажи, что хочешь, лишь бы не лезли ко мне, и пусть не вздумает кто-нибудь сунуться ко мне в комнату. Она понимала, что он не шутит. Однажды он очень грубо выгнал соседа, зашедшего к нему за каким-то советом. После этого он, как ни в чем не бывало, мило раскланивался с ним и недоумевал, почему тот косо смотрит на него. Насте пришлось что-то придумывать и невразумительно донести до соседа, чтобы хоть как-то сгладить неловкость. Соседи все-таки, вместе жить и жить. Евгения же это совершенно не беспокоило, так как он, похоже, ни с кем в этой жизни не собирался не только общаться, но даже перебрасываться незначительными словами.
Все мужики придурки, говорила Вероника, но это была точка зрения частного, или физического, лица, которое эти мужики обманывали раз двадцать, не меньше, не только как физическое тело, но и как страдающую физически душу, чего, собственно, она ожидала другого? После третьего мужика в сети идут только придурки. Таков закон распределения рыбной ловли, если угодно, и с ним надо считаться, а не игнорировать его.
– Да заведи кого-нибудь, плюнь на Женьку. Раз ему все равно, чего ты-то переживаешь? О, господи, мужиков – вон сколько. Хошь так бери, хошь в обертку завернутых.
Вероника искренне недоумевала.
Настя была мрачнее тучи.
– Не успел домой вернуться, тут же из дому бежит! Не мог день обождать. Никуда твои дружки не делись бы. Все душу друг другу излить не можете. Погляжу я на вас, не изливаемые у вас души у всех!
– Что ты злишься? – спросил Суэтин. – Раз пошел, значит, надо было. Я же не спрашиваю тебя, когда ты на кафедру идешь или в деканат, зачем тебе это надо…
– На кафедру и в деканат я хожу на работу! – отрезала Настя. – Там у меня других интересов нет и быть не может!
– Логично, – согласился Суэтин, поняв, что спорить бесполезно. – Логично, железно и бесповоротно. Завидую, уважаю, ценю! Па-азвольте отойти ко сну? Что-то спать захотелось.
– Алкоголик несчастный!
– Счастливый, Настя, счастливый! Позвольте поцеловать вам ручку, мадам. Весьма тронут.
– А иди ты!
И он пошел ко сну, в который тут же и провалился, как в глубокую черную яму. Когда утром он выбрался из нее, ему показалось, что он провел не ночь, а всю свою жизнь в угольной шахте. Видно, мало вчера выпил, раз такой крепкий был сон, подумал он. Или, наоборот, чересчур много?..
5. Народный хор
На сцене с трудом вдоль стены разместился народный хор. Хор был смешанный: наполовину состоял из хористов, а на другую – из хористок. Мужчины все были солидные, многие с бородками, а женщины – всё больше молоденькие, гладенькие. Симфонический оркестр филармонии плотнее, чем обычно, расположился на сцене. Впервые исполнялась третья кантата нежинского композитора Серикова (сына известного в прошлом хормейстера). Дирижировал сам Сериков. Он пожал руку первой скрипке, строго взглянул разом на всех музыкантов и певцов и взмахнул руками. Разом взревело все. Приёмистость оркестра и хора составила сотые доли секунды. Так срывается в бездну водопад или сразу со всех летательных аппаратов по команде десантный полк. Зал вдавился в кресла. Сердце подступало к горлу, перехватывало дух и свистело в ушах. Сериков властвовал над стихией звуков. Многим дамам в зале нравилась его стройная фигура, при удивительно больших и пластичных кистях рук, и видимая залу четверть лица, то справа, то слева, на которое ниспадали черные с проседью волосы; а мужчинам нравились его жесткие руководящие жесты хору и властный в кудрях затылок (может, конечно, они и лукавили). Много бабочек с синими папочками и много папочек с белыми бабочками пели так дружно, что не было понятно ни одного слова. То и дело дрожали не рассчитанные на кантату висюльки в люстре под сводами зала, а в краткой паузе между второй и третьей частями по залу крадучись прошел прямо-таки священный ужас. Женские голоса били вверх, как гаубицы или зенитки, а мужские мощно в упор настильным огнем покрывали всю площадь зала. Продавец бижутерии в киоске холла пару раз озадаченно смотрел в сторону зала. Когда по замыслу автора хор без всяких классических подходов, новаторски резко, как жизнь, оборвал кантату, в зале с минуту стояла гробовая тишина. Слушатели приходили в себя. От шквала аплодисментов опять задрожали висюльки в люстре, а в зал вновь заглянул священный ужас. Продавец бижутерии в киоске холла подскочил на стуле. Сериков платочком промокнул пот и с поклонами принял от служительницы филармонии гвоздики, а от нескольких свободных дам исключительно розы, сопровождаемые порханием изогнутых ресниц. Операторы с телестудии спешили запечатлеть момент. Они кричали что-то друг другу, но, похоже, ничего не слышали. Момент явно не вмещался в рамки заурядного кадра. Он замахивался на эпохальность. Буквально на глазах благодарных слушателей гражданские лица превращались в исторические. Без всяких метафор, весьма натурально. Критикесса Свиридова уже строчила в свою книжицу вдохновенные строки «… блестяще… артистическое очарование… мощь и экспрессия… «Гибель богов»… поздний Шостакович… Нежинск обрел… олимпийцы… возрождение… храм… канун третьего тысячелетия…»
***
Суэтин ждал Настю на ступенях парадного входа. Он курил и думал о том, что музыка оказывает такое же влияние на людей далеких от музыки, какое оказывает табачный дым на некурящих: кружит голову и отравляет. Хотя пассивные меломаны страдают сильнее пассивных курильщиков. А активно – Суэтин посмотрел на сигарету – кружишь голову и отравляешь сам себя. Так что все хороши.
– Зря не пришел, – сказала ему Настя.
– Пришел не зря. Я и тут прекрасно все слышал.
– Здесь не то.
– То не здесь. Здесь самое то. Да я был, был. В проходе, на приставном стульчике. Правая перепонка стала жужжать. Видно, в резонанс вошла. Знаешь, в ухо иногда оса залетит и жужжит, жужжит. Мочи нет, как зудит. Вот я и не вытерпел: покинул зал. Неудобно же там из уха ее вытряхивать.
– Рассказывай! – рассмеялась Настя. – Ну, а я как пела?
Суэтин выпятил нижнюю губу и поджал ею верхнюю, изобразив высшую степень одобрения.
– О! – сказал он.
– Мощный наш хор?
Суэтин развел руками:
– Я опухаю! Видишь? – он надул щеки и выпятил живот. – Пошли к реке. Скажи-ка, Настя, давно хочу спросить тебя, уж лет двадцать, – засмеялся он, – почему ты поешь в хоре?
– Если бы я знала, почему? Хотя: если бы знала – не пела бы.
– А я все думаю: смог бы я работать, повернувшись к людям задом, как дирижер? И вот сегодня я нашел аналог работе дирижера. Помнишь Гулливера, как он тащит за ниточки канатов корабли к поджидающим его на берегу лилипутам? Вот так и дирижер тащит за ниточки звуков весь оркестр.
– К лилипутам?
– Это не я сказал. Как тебе: «Щупленький дирижер из глыбы воздуха высек Вагнера в полный рост»?
– Ну и что?
– Ничего. Леша написал. Он, похоже, нащупал верный путь. Удивительно, мы с ним иногда понимаем друг друга без слов. Или с нескольких, что еще труднее.
Они стояли на пустынной набережной. Настя смотрела, как в воде отражаются огни фонарей: казалось, в воду уходит огромный черный храм с белыми колоннами.
– А я было подумал: у тебя стадный инстинкт, – Евгений вернулся к прежней теме.
– Пошли домой.
– Насть, извини, – он обнял ее за плечи. Настя толкнула Евгения, и тот, нелепо взмахнув руками, свалился в воду. Несколько колонн разрушилось, но храм уцелел. «Это хорошо», – подумала Настя и расхохоталась:
– Давай руку! Извиняю!
Суэтин был как мокрая курица.
– Ну, мать! Это почище твоего хора будет!
– Пойдем домой, тачку лови.
– Да какая тачка? С меня течет, как из трубы… Настя, давно хотел спросить: как у тебя с Гремибасовым дела?
– Прекрасно. Можно сказать, любимая хористка. Только он помер десять лет назад. Забыл, что ли? Кстати, незадолго до кончины посетовал, что у меня с Горой тогда ничего не получилось. Я ему: не я первая, не я последняя. А он мне…
– Что?
– Ты, мол, Настя была не первая, но стала последняя.
– Как это? – Суэтин остановился.
– Я тоже спросила. «Так, – отвечает. – Он теперь зарок дал: на женщин не смотреть, с женщинами не связываться, о женщинах даже не думать. Жаль, – говорит. А потом подумал и добавил: – А может, и правильно сделал. С вами, бабами, только свяжись, ничего в жизни не добьешься». Я засмеялась – добьешься зато баб. «Ну, разве что…» – ответил он. И больше со мной на эту тему не заговаривал. Помер.
– Ивана не видела? – Суэтина подмывало добить тему до конца.
Настя взглянула на него, взяла под руку.
– Нет, с самой свадьбы. И в Лазурный больше выступать не ездили, – ответила она на незаданный вопрос. – А ты не слышал разве, его же посадили за «злоупотребления». Прямо отправлял рефрижераторы с бройлерами, а налево эшелоны. Писали в газетах.
Потом засмеялась:
– Я уж думала, тебе давно безразлично всё!







