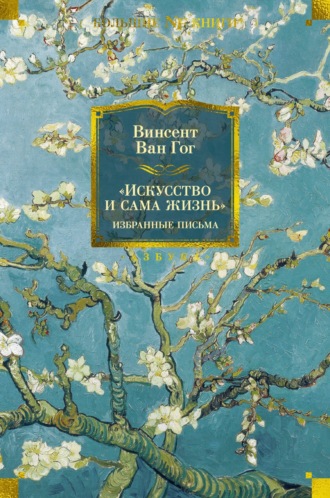
Винсент Ван Гог
«Искусство и сама жизнь»: Избранные письма
Итак, мы можем прийти к удивительным выводам или «последствиям» этой аксиомы. В том числе:
Человек, который отказывается любить то, что он любит, сам загоняет себя в землю.
У него должна быть очень большая степень у/настойчивости (кстати, «у» и «на» – оба [варианта] одинаково применимы. Дьявол!), чтобы уметь выдерживать это в течение продолжительного времени.
Если когда-нибудь ему суждено измениться, его преображение не будет значительным.
Скажу ли я сейчас об этом напрямую или нет, Вы, думаю, в любом случае поймете, на что я в некотором смысле намекаю: Раппард, приверженностью к академии Вы связываете свои руки путами, на которых иные «повесились», потому что не смогли освободиться от них, когда решили выбрать море!
Ваши мышцы еще крепки, и потому в случае необходимости Вы сможете разорвать эти путы. Но другие! Поверьте мне, есть те, кто на них повесился!
Есть ли иные «путы», помимо «академических»? С Вашего позволения, существует столько же видов пут, как бревен в глазу (см. часть про «бревна в глазу» в предыдущем письме).
Сколько? – «Легионы, – говорю я. – Легионы!»
«Повеситься» на путах, намотанных на руку, – более долгая и страшная смерть, чем посредством простой удавки вокруг шеи.
Есть и моральные путы, связывающие нас.
И разве они лучше моральных бревен в глазу? Однако мы с Вами от этого не страдали, не страдаем и страдать не будем.
Хотя, пожалуй, в этом я еще не до конца уверен, и, если бы я, вместо того чтобы говорить о нас с Вами, говорил только за себя, то я страдал, страдаю и буду страдать от моральных бревен в глазу и моральных пут на своих руках, но это не изменило, не изменяет и не изменит того, что я извлекал, извлекаю и буду извлекать моральные бревна из своих глаз и того, что я разрывал, разрываю и буду разрывать моральные путы на своих руках.
До тех пор, пока мой глаз не будет чистым, а руки не станут свободными. Когда?
Если я буду бороться до конца – то в самом конце.
Сейчас Вы понимаете, что мы оба выиграем, сохранив нашу переписку, что наши письма постепенно станут более серьезными.
Потому что, несмотря на мою уже упомянутую необузданную фантазию, я действительно пишу Вам со всей серьезностью. И я далек от того, чтобы писать только ради спора: я лишь желаю «разбудить Раппарда» и сомневаюсь, что во время этого сам засну. Боже упаси! Наоборот, я очень далек от этого.
В прошлый раз я сказал Вам, что [при общении] с людьми, и в частности с художниками, я оцениваю как самого творца, так и его творение. Если творца нет рядом, мне приходится делать выводы на основании лишь его работ (мы не можем знать лично всех художников), если же произведения отсутствуют, мне приходится судить о творчестве лишь по человеку. Что касается некоего господина Раппарда, то я, во-первых, в некоторой степени знаком с его работами, во-вторых, некоторым образом знаком с ним самим.
Его работы никогда не оставляют меня равнодушными, и на этом я не остановлюсь.
Его личность тоже вызывает отклик в моей душе.
А дальше будет еще лучше.
Считаете ли Вы мой отзыв беспощадным? (Перескакивая на другую тему), что касается моей «bête noire»[83], то сегодня у меня почти не было возможности заняться ею серьезно; и все же я не смог удержаться от того, чтобы хотя бы на короткое время не подступиться к ней. Но мы еще обсудим это подробно. Я нахожусь в таком положении, когда мне надо быть более или менее осторожным, один отказ следует за другим, и я даже подумывал сдаться, но, понимаете ли, я еще не готов принять поражение. Как бы то ни было, может быть, я однажды поведаю Вам об этой «bête noire». Sacré bête noire! Ça me fait du bon sang tout de même[84].
А пока что верьте мне, жму руку,
Ваш Винсент
Сейчас я пишу Вам чаще обычного, потому что вскоре мне придет много другой корреспонденции.
192 (163). Тео Ван Гогу. Гаага, воскресенье, 18 декабря 1881, или около этой даты
Дорогой Тео,
возможно, ты уже заждался весточки от меня и хочешь узнать, чем я в последнее время занимаюсь. А я, со своей стороны, жду не дождусь письма от тебя.
Я все еще провожу каждый день у Мауве – днем пишу красками, вечером делаю рисунки. Написал пять этюдов и две акварели и, разумеется, сделал несколько набросков.
Я не могу передать, как были добры и радушны Мауве и Йет в эти дни. И Мауве показал и объяснил мне то, что я не смогу использовать сразу, но постепенно начну применять на практике. А пока я продолжу усердно работать, и когда вновь окажусь в Эттене, кое-что потребуется изменить: среди прочего мне нужно будет снять большую комнату, где я смогу увеличить расстояние между мной и моделью, иначе невозможно рисовать фигуры, разве что эскизы каких-нибудь фрагментов.
Короче говоря, я обсужу эту тему с М.[85] и вскоре напишу тебе снова.
Этюды маслом – это натюрморты, а акварели написаны с натуры: мне позировала жительница Схевенингена. Возможно, М. сам напишет тебе на днях.
Все же, Тео, уже прошел почти месяц с моего отъезда, и ты понимаешь, что у меня было много расходов. Хоть М. и предоставил мне различные вещи, краски и т. п., мне пришлось кое-что докупить, кроме того, я заплатил натурщице за несколько дней. Еще мне нужна была обувь, и вообще, я не всегда высчитывал каждый цент. И я немного превысил лимит в 100 франков, потому что только само путешествие обошлось мне в 90 гульденов. А теперь мне кажется, что у папы туго с деньгами, и я не знаю, что мне делать.

Что касается меня, то я с удовольствием остался бы здесь подольше: снял бы комнату на пару месяцев, например в Схевенингене, или даже на более длительный срок, чем пара месяцев. Но в нынешних обстоятельствах мне, вероятно, лучше вернуться в Эттен. Схевенинген чрезвычайно красив, так же как местные типажи и образы. Но натурщики берут здесь 1,5–2 гульдена в день, а некоторые еще больше.
Зато здесь есть возможность пообщаться с художниками и т. д. Когда я на этой неделе написал папе и попросил денег, он ответил, что уже потраченные мной 90 гульденов – это ужасно много.
Однако, думается, ты поймешь, что это произошло не без причины, ибо все стоит дорого. Но я, черт возьми, терпеть не могу отчитываться перед папой за каждый цент, тем более что они потом рассказывают об этом всем на свете, добавляя кое-что от себя и преувеличивая.
К тому же папа потратился, купив мне пальто: когда я его надел, оно оказалось таким длинным, что волочилось по земле, и к тому же это безвкусный, крикливый стиль. Возможно, папа поступил так из лучших побуждений, но все же сейчас, когда у нас и так много расходов, время для этого не самое подходящее, и затем, неправильно покупать одежду, не посоветовавшись с человеком, без примерок и замеров. Поэтому вынужден сообщить тебе, Тео, что мое положение становится немного затруднительным.
Я пишу тебе, чтобы сказать вот что. У меня не осталось денег на дальнейшее пребывание здесь, у меня не осталось денег на обратную дорогу. Сейчас я в любом случае выжду пару дней. И сделаю то, что ты захочешь.
Если ты решишь, что мне лучше остаться здесь еще на некоторое время, я с удовольствием это сделаю и не вернусь, пока не достигну определенных результатов.
Если ты прикажешь мне немедленно возвращаться, меня это тоже устроит. Если бы мне только удалось найти подходящую комнату, чуть побольше домашней мастерской, я бы смог повозиться некоторое время самостоятельно, а позднее вновь отправился бы в Гаагу. В любом случае, Тео, Мауве посвятил меня в премудрости палитры и рисования акварелей. И это компенсирует те 90 гульденов, что я потратил на дорогу. М. говорит, что солнце еще взойдет для меня, а пока оно скрыто за туманом. Я был бы не против. Я еще расскажу тебе о доброте и радушии М.
Сейчас я некоторое время подожду твоего ответа здесь. Но если его не последует в ближайшие три-четыре дня, я попрошу денег у папы, чтобы тотчас отправиться назад.
Мне есть что тебе поведать, то, что, возможно, вызовет твой интерес: речь идет о работе с натурой в Эттене, но, как я уже написал, я расскажу об этом позднее – спустя некоторое время. Прилагаю к письму наброски двух акварелей. Я не оставляю надежду в относительно скором будущем нарисовать то, что можно будет продать, да, я полагаю, что эти две уже можно будет выставить на продажу. В особенности ту, к которой приложил руку М. Но я бы оставил их пока себе, чтобы не забыть приемы, которые я использовал при их создании.
Акварель – прекрасная вещь, передающая пространство и воздушность, позволяющая фигуре человека стать частью окружающего мира и ожить.
Ты просишь нарисовать для тебя несколько акварелей, но пребывание здесь, натурщики, краски, бумага и т. д. и т. п. – за все нужно платить, а мне нечем.
Так что пришли мне весточку с обратной почтой и по возможности немного денег, если хочешь, чтобы я тут остался.
Я действительно думаю, что теперь, получив кое-какие практические знания о цвете и обращении с кистью, я добьюсь серьезных результатов. А ты понимаешь, как важно для меня, чтобы М. не пожалел, что был так добр ко мне.
Мы попробуем добиться успеха и приложим все усилия.
А теперь прощай, я в любом случае рассчитываю получить от тебя весточку с обратной почтой, адрес: А. Мауве, Эйленбоомен 198. Верь мне, мысленно жму руку,
твой Винсент
У меня на удивление плохие чернила, в них есть какой-то красный оттенок, который проявился и в рисунках.
Вот сюжеты двух этюдов маслом. Первый: терракотовая головка ребенка в меховой шапке; второй: кочан капусты и картофелины.
193 (164). Тео Ван Гогу. Эттен, пятница, 23 декабря 1881, или около этой даты
Боюсь, порой ты можешь отбросить книгу, потому что она слишком реалистична. Имей сочувствие и терпение к этому письму и в любом случае прочитай его до конца, даже если оно резкое.
Дорогой Тео,
как я ранее писал тебе из Гааги, я хотел бы кое-что обсудить с тобой, [что и собираюсь сделать] сейчас, когда я вернулся. Не без волнения я вспоминаю поездку в Гаагу. Когда я отправился к М., мое сердце трепетало, потому что я спрашивал себя: попытается ли он тоже отделаться пустыми обещаниями, или меня ждет там нечто иное? А он дал мне всевозможные практические советы и сердечно воодушевил меня. Он не стал просто постоянно нахваливать все, что я делаю или говорю, – наоборот. Когда он говорил, что у меня что-то не получилось, то одновременно объяснял: «Попробуйте вот так и вот так», и это совсем иное дело, чем критика ради критики. Когда тебе говорят: «Вы больны тем-то и тем-то», это не сильно помогает, но если тебе скажут: «Сделайте это и то, и вы исцелитесь», эти советы не будут надувательством, они настоящие и именно поэтому помогают. Работая с ним, я создал несколько работ маслом и пару акварелей. Разумеется, это не шедевры, но все же я верю, что в них есть нечто солидное и настоящее, во всяком случае больше, чем в моих предыдущих работах. Поэтому я полагаю, что стою на пороге создания чего-то серьезного. И так как мой инструментарий немного расширился – сейчас я работаю красками и кистью, – то нынче я как бы творю все новое.
А теперь мы должны применить все это на практике. И перво-наперво я должен найти помещение, которое будет достаточно большим, учитывая, что мне нужно думать о приличной дистанции между мной и объектами. Мауве так и сказал, увидев мои этюды: «Вы сидите слишком близко к модели».
Из-за этого мне почти никогда не удается правильно определить необходимые пропорции, так что это одна из первейших вещей, на которые следует обратить внимание. Мне нужно будет снять где-нибудь большое помещение, комнату или склад. И оно не должно быть очень дорогим. Дома, в которых живут рабочие, стоят здесь 30 гульденов в год, так что, мне думается, помещение вдвое больше будет стоить около 60 гульденов.
И это не проблема. Я уже осмотрел один склад, правда у него слишком много неудобств, особенно для работы в зимнее время. Однако, если погода будет немного мягче, я смогу там работать. И, кроме того, здесь, в Брабанте, можно найти моделей, и не только в Эттене, если с этим будут сложности, но и в других деревнях.
Однако, хотя я очень люблю Брабант, помимо брабантских крестьян, мне нравятся и другие образы. Например, я нахожу невыразимо прекрасным Схевенинген. Но пока что я здесь, и это обходится гораздо дешевле. Правда, я пообещал Мауве сделать все от меня зависящее, чтобы найти подходящую мастерскую, и, кроме того, я должен использовать бумагу и краски более высокого качества.
Как бы то ни было, бумага энгр отлично подходит для эскизов и набросков. Кроме того, дешевле самому компоновать альбомы для набросков в различных форматах, чем покупать их готовыми. У меня еще осталось немного бумаги энгр, и ты сделаешь мне большое одолжение, если сможешь послать еще, когда отправишь мне назад упомянутые эскизы. Только, пожалуйста, не белоснежную, а цвета небеленого льна – никаких холодных оттенков.
Тео, как же важны тон и цвет! И тот, кто не сумел их почувствовать, как же далек он от жизни! М. научил меня видеть много того, чего я раньше не замечал, и то, чему он меня научил, я при возможности попробую передать тебе, потому что, наверное, есть пара вещей, о которых ты и не подозреваешь. В любом случае я надеюсь, что мы еще поговорим об искусстве.
Ты не можешь представить себе, с каким облегчением я думаю о том, что М. сказал мне относительно заработка. Подумай: я год за годом еле сводил концы с концами, всегда был в каком-то отчаянном положении. А теперь на горизонте забрезжил свет.
Мне бы хотелось, чтобы ты увидел две акварели, которые я привез с собой, – тогда ты понял бы, что они такие же, как и любые другие. У них могут быть недостатки, пусть так, я первым готов выразить свое недовольство ими, но все же это отличается от моих прежних работ, они более живые и зрелые. Это не означает, что они не должны стать еще более живыми и зрелыми, но невозможно получить желаемое в одночасье. Все происходит постепенно. Однако эти несколько рисунков сейчас нужны мне самому, потому что я собираюсь сравнивать с ними те, что нарисую здесь, ибо они должны получиться по меньшей мере не хуже тех, что я создал у М. И хотя М. уверяет меня, что, проведя несколько месяцев здесь, а потом приехав, например в марте, к нему, я начну регулярно рисовать то, что можно будет продать, сейчас я переживаю довольно трудное время. Расходы на натурщиков, мастерскую и принадлежности для рисования увеличиваются, а доходов все еще нет.
Надо признать, папа заверил меня, что я не должен волноваться о неизбежных расходах, и ему тоже понравились слова М., а также те этюды и рисунки, которые я привез с собой. Но я считаю невероятно скверным то, что папа из-за этого терпит убытки. Мы, разумеется, надеемся, что в будущем все наладится, но тем не менее от этого на сердце у меня тяжело. Ибо с тех пор, как я здесь, отец фактически ничего не заработал на мне и не единожды совершал покупки, например куртку или брюки, которые мне были чрезвычайно необходимы, но которые я бы предпочел не иметь, потому что папа не должен из-за этого терпеть убытки. Тем более когда упомянутая куртка или брюки не подходят по размеру и почти полностью бесполезны. Короче говоря, опять маленькие горести человеческой жизни. К тому же, как я тебе уже говорил, мне ужасно досадно, что, по сути, я не свободен: хотя папа не просит меня отчитываться за каждый цент, он всегда точно знает, на что и сколько денег я потратил. И пусть мне почти нечего скрывать, все же неприятно, когда кто-то подглядывает в мои карты. Ведь у меня нет и не будет тайн от тех людей, к которым я испытываю симпатию.
Тем не менее папа не является человеком, который вызывает у меня такие же эмоции, как, скажем, ты или Мауве. Я, разумеется, люблю папу и маму, но это чувство иного рода, чем то, что я испытываю по отношению к тебе или М. Папа не в состоянии мне сочувствовать или сопереживать, а я не могу заставить себя подстроиться под жизненный уклад наших родителей – мне там тесно, я боюсь там задохнуться.
Когда я рассказываю что-то папе, то для него это будто пустой звук, и для мамы наверняка тоже, и, кроме того, я нахожу их назидания и представления о Боге, человеке, морали, добродетели полнейшей нелепицей. Время от времени я читаю Библию, так же как Мишле, или Бальзака, или Элиот, но в Библии я вижу совершенно иные вещи, чем папа, а того, что он оттуда извлекает в соответствии со своим схоластическим образом мыслей, я совершенно не могу там найти. Когда преподобный Тен Кате перевел «Фауста» Гёте, папа и мама прочли его: раз эту книгу перевел священник, она больше не является столь аморальной (??? qu’est ce que c’est que ça?)[86]. И все же они не увидели в ней ничего, кроме роковых последствий нецеломудренной любви.
И в Библии они разбираются так же плохо. Возьмем Мауве, например: когда он читает что-нибудь очень серьезное, то говорит сразу: «Автор подразумевал то-то и то-то». Ибо поэзия так глубока и нематериальна, что невозможно дать ей систематическое определение, но Мауве все тонко чувствует, и, видишь ли, его ощущения важнее, чем способность дать определение чему-то или раскритиковать что-нибудь. И, ах, когда я читаю – а читаю я не очень много, книги разве что полутора писателей – случайно встретившихся мне авторов, то потому, что у них более широкий и снисходительный взгляд на вещи, они относятся ко всему с гораздо большей любовью, чем я, и лучше знают действительность; кроме того, мне хочется научиться чему-нибудь у них. А весь этот бред о добре и зле, о нравственности и безнравственности – он мне малоинтересен. Ибо, по правде говоря, я не всегда могу точно знать, что зло, а что добро, что нравственно, а что безнравственно.
Вопросы морали и безнравственности невольно возвращают меня к К. Ф.[87] Ах! Я уже писал тебе ранее, что это все меньше напоминает весеннюю клубнику. И это оказалось правдой. Если я повторяюсь, прости меня, я не помню, описал ли я тебе в подробностях то, с чем я столкнулся в Амстердаме. Я отправился туда, думая: кто знает, не растаяло ли «нет, ни за что и никогда», ведь стояла такая теплая погода. Одним вечером я бродил по каналу Кейзерсграхт в поисках ее дома и таки нашел его. Я позвонил в дверь. Сначала мне сказали, что семья еще ужинает, но потом меня все же пригласили войти. И там были все, включая Яна, того самого весьма образованного профессора, кроме Кее. И перед каждым из них все еще стояла тарелка, и не было ни одной лишней. Эта маленькая деталь бросилась мне в глаза. Они пытались сделать вид, что Кее там нет, и потому убрали ее тарелку, но я-то знал, что она там, и воспринял все это как спектакль или игру.
Через некоторое время (после обычных фраз и приветствий) я спросил: «А где Кее?» И тогда Й. П. С. повторил мой вопрос, задав его своей жене: «Матушка, а где Кее?» И она ответила: «Кее нет дома». После этого я оставил ненадолго расспросы и продолжил беседовать с профессором о выставке в Арти[88], которую он недавно посетил. Потом профессор ушел, и маленький Ян Фос тоже, а Й. П. С. с супругой и твой покорный слуга остались наедине и заняли соответствующие случаю позы. Й. П. С., как пастор и отец, взял слово и сказал, что он как раз собирался отправить письмо твоему покорному слуге и что он прочтет это письмо вслух. Все же я спросил опять, перебив Его Сиятельство или Преподобие: «Где Кее?» (Ибо я знал, что она в городе.) Тогда Й. П. С. ответил, что она покинула дом, услышав, что я пришел. Сейчас я уже кое-что знаю о ней и должен тебе признаться, что ни тогда, ни сейчас я не знаю в точности, является ли ее холодность и грубость хорошим или плохим знаком. Насколько помню, я никогда не видел, чтобы она обходилась с такой кажущейся или истинной холодностью, суровостью и резкостью с кем-либо, кроме меня. Так что я ничего не ответил, сохранив полнейшее спокойствие. Я сказал, что они могут прочитать мне это письмо или нет – мне все равно. Тогда настала очередь послания. Письмо было почтительным и мудреным, но, в сущности, не содержало ничего, кроме просьбы прекратить писать им и совета направить мою энергию на работу, что помогло бы мне выкинуть это дело из головы. Наконец чтение закончилось, у меня было такое ощущение, будто пастор в церкви сказал «аминь» после своей речи, во время которой он то повышал, то понижал голос, – это все оставило меня таким же равнодушным, как и любая другая проповедь. И тогда слово взял я и сказал так спокойно и уважительно, как только мог, что да, я уже слышал подобные рассуждения, а дальше что? Что потом? И тут Й. П. С. поднял взгляд… Да, казалось, он в некотором роде потрясен моим отсутствием уверенности в том, что мы достигли границ человеческого разума и чувства. По его мнению, никакого «et après ça»[89] больше быть не могло. Мы продолжали в том же духе, тетя М. время от времени вставляла свои иезуитские комментарии, а я немного распалился и потерял самообладание. И Й. П. С. тоже, настолько, насколько священник может потерять самообладание. И хотя он открыто не сказал: «Да будь ты проклят», но другой, кто не является священником, в его состоянии выразился бы именно так. Но ты знаешь: несмотря на то, что мне крайне отвратительны их принципы, я по-своему люблю и папу, и Й. П. С., поэтому я начал потихоньку лавировать и где-то уступать и с чем-то соглашаться, так что в конце вечера они предложили мне переночевать у них. Тогда я поблагодарил их и сказал, что если Кее покидает дом при моем появлении, то это не лучшее время, чтобы остаться здесь, и что я отправлюсь в гостиницу. И тогда они спросили: «Где ты остановился?» Я ответил, что еще не знаю. Тогда дядя и тетя настояли на том, чтобы самолично препроводить меня в хорошую и недорогую гостиницу. И о Боже! Эти два старичка отправились со мной по холодным, туманным, грязным улочкам и действительно показали мне очень хорошую гостиницу, к тому же очень недорогую. Я был решительно против того, чтобы они шли со мной, а они определенно хотели меня проводить. И видишь ли, я считаю это довольно гуманным с их стороны, и меня это несколько успокоило. Я пробыл в Амстердаме еще два дня и продолжал беседовать с Й. П. С., но Кее, которая всегда где-то пропадала, так и не увидел. И я сказал им, что они должны понимать: даже если они хотят, чтобы я считал это дело оконченным и решенным, я не могу заставить себя сделать это. А они продолжали категорично отвечать: «Со временем ты все поймешь». Я еще несколько раз видел профессора и должен признать, что он превзошел мои ожидания, но, но, но – что еще я могу сказать про этого господина? Я пожелал ему, чтобы он однажды влюбился. Вуаля! Могут ли профессора влюбляться? Знают ли священники, что такое любовь?
На днях я читал Мишле «La femme, la religion et le prêtre»[90]. Такие книги, как эта, наполнены реальностью, а что более реально, чем сама реальность, и в чем больше жизни, чем в самой жизни? И почему мы, делающие все, чтобы жить, не живем еще дольше?!
Я три дня бесцельно бродил по Амстердаму, я чувствовал себя чертовски скверно, и эта полудружелюбность дяди и тети, и все эти доводы – все это очень меня угнетало. До тех пор, пока я не почувствовал, что мне стало совсем тяжко, и тогда я спросил себя: «Ты что, хочешь опять впасть в меланхолию?» И сказал себе: «Не дай себя пересилить». Так что воскресным утром я в последний раз отправился к Й. П. С. и сказал ему: «Послушайте, уважаемый дядюшка, если бы Кее Фос была ангелом, то для меня она была бы недосягаема, и я не думаю, что я продолжал бы любить ангела. Была бы она дьяволом, то я не захотел бы с ней иметь дела. В данном случае я вижу в ней настоящую женщину, с женскими страстями и причудами, я очень ее люблю, и с этим ничего не поделать, и я рад этому. До тех пор пока она не станет ангелом или дьяволом, дело не закончено». Й. П. С. было нечего на это возразить, и он заговорил о женских страстях – я не совсем понял, что он имел в виду, – а затем отправился в церковь. Неудивительно, что люди там становятся косными и бесчувственными, я знаю по своему опыту. Что до твоего упоминаемого брата, то он не захотел подчиниться. Но это не отменяет того, что его посетило чувство поражения, такое, будто он слишком долго стоял, прислонившись к беленой стене церкви, холодной и твердой. Рассказывать ли тебе об остальном, старина? Это был смелый поступок – оставаться реалистом, но, Тео, Тео, ты же сам реалист, так прими и мой реализм! Я уже писал, что готов к тому, чтобы даже мои тайны перестали быть таковыми, и не возьму назад своих слов. Думай обо мне что хочешь, и не важно, одобряешь ли ты мои поступки или нет.
Я продолжаю: из Амстердама я отправился в Харлем и чудесно провел время у нашей милой сестренки Виллемины, мы прогулялись с ней, а вечером я поехал в Гаагу и часов в семь был у Мауве.
Я сказал ему: «Послушайте, М., вы должны были приехать в Эттен и попытаться обучить меня тайнам палитры. Но я подумал, что за пару дней это сделать невозможно, поэтому приехал к вам и, если вы не против, останусь недели на четыре или на шесть или так долго или так недолго, как вы захотите, и тогда мы посмотрим, чего мы сможем достичь. С моей стороны очень бестактно требовать от вас так много, но j’ai l’épée dans les reins»[91]. И тогда М. спросил: «Вы привезли с собой что-нибудь?» – «Да, вот несколько этюдов». М. сказал о них много хорошего (слишком много), но при этом сделал и несколько замечаний (чересчур мало). А на следующий день мы начали с натюрморта, и он принялся меня учить: «Палитру нужно держать вот так». И с тех пор я написал несколько этюдов и еще две акварели.
Это краткое резюме моих трудов, но работа руками и головой – еще не вся жизнь.
Меня пронизывал холод, до мозга костей, до глубины души, когда я думал о той воображаемой или реальной церковной стене. И я сказал себе, что не стану поддаваться тому роковому чувству. Тогда мне подумалось, что я хотел бы быть с женщиной, что я не могу жить без любви, без женщины. Я бы и гроша ломаного не дал за жизнь, в которой нет чего-то бесконечного, чего-то глубокого, чего-то настоящего. «Однако, – ответил я себе, – ты говоришь: „Только она, и никакая иная“, а сам хочешь идти к другой? Это же безрассудно, это против всякой логики». И мой ответ на это был: «Кто здесь хозяин – я или логика? Логика существует для меня или я для логики? И разве нет доли благоразумия и здравомыслия в моем неблагоразумии или в моем безрассудстве?» Правильно я поступаю или нет, я не могу иначе, эта проклятая стена слишком холодна для меня, мне нужна женщина, я не могу, не желаю и не буду жить без любви. Я всего лишь человек, и человек со страстями, я должен найти женщину, или я замерзну, окаменею и буду сломлен. Я много боролся сам с собой, и в этой битве перевес оказался на стороне некоторых вещей, относящихся к физиологии и здоровью, в которые я верю и о которых кое-что знаю благодаря собственному горькому опыту. Долгая жизнь без женщины не может пройти без последствий. И я не думаю, что тот, кого одни называют Богом, а другие – высшим существом или природой, безрассуден и безжалостен, и, одним словом, я пришел к выводу: надо попробовать, не смогу ли я познакомиться с женщиной. И, о Боже, мне не пришлось очень долго искать. Я нашел женщину, далеко не молодую, далеко не красавицу, если позволишь, ничем не примечательную. Однако тебе, возможно, будет любопытно. Она была довольно высокого роста и крепкого телосложения, у нее были не дамские ручки, как у К. Ф., а руки женщины, которая много трудится. Однако она не была грубой или вульгарной, в ней таилось что-то очень женственное. В ней было что-то от забавного образа с картин Шардена, Фрера или, быть может, Яна Стена. В общем, та, кого французы называют «une ouvrière»[92]. По ней было видно, что она многое пережила и что жизнь оставила на ней свой след. О нет, в ней не было ничего примечательного, ничего особенного, ничего необычного.
«Toute, à tout âge, si elle aime et si elle est bonne, peut donner à l’homme non l’infini du moment mais le moment de l’infini»[93].
Тео, я нахожу безгранично очаровательным нечто увядающее, на чем жизнь оставила свой отпечаток. Ах! Я нахожу ее очаровательной, я увидел в ней нечто от Фейен-Перрена, от Перуджино. Видишь, я не так уж невинен, как желторотый юнец или, точнее сказать, как малыш в колыбели. Со мной такое не впервые: я не могу сопротивляться чувству симпатии, именно симпатии и любви к женщинам, которых пасторы так презирают, проклинают и осуждают с высоты своей кафедры. Я их не проклинаю, я их не осуждаю, я их не презираю. Видишь ли, мне почти тридцать лет, и ты думаешь, что я никогда не испытывал потребности в любви?
К. Ф. старше меня, у нее в прошлом тоже была любовь, но именно поэтому она так мила мне. Она не невинна, но и я тоже. Раз она хочет жить прошлой любовью и ничего не хочет знать о новой – это ее дело, и пока она держится за это и избегает меня, я не могу в угоду ей задушить свою жизненную энергию и душевные силы. Нет, я этого не хочу, я люблю ее, но не хочу окоченеть и онеметь душой ей в угоду. А побуждающее воздействие, искрящийся огонь, в котором мы нуждаемся, – это любовь, и не обязательно духовная любовь.
Эта женщина меня не обманула – о, тот, кто считает всех этих девушек мошенницами, очень ошибается и мало что понимает.
Она была добра ко мне, очень добра, ужасно хороша, очень ласкова. В чем это выражалось, я не поведаю даже своему брату Тео, потому что подозреваю, что мой брат Тео и сам испытывал нечто подобное. Tant mieux pour lui[94].
Много ли мы с ней потратили? Нет, потому что у меня не было много [денег], и я сказал ей: «Послушай, мы с тобой не должны напиваться, чтобы чувствовать друг друга, положи в свой карман то, без чего я смогу обойтись». И мне хотелось бы, чтобы я мог обойтись без еще большей суммы, ибо это того стоило.
И мы говорили обо всем: о ее жизни, ее заботах, ее невзгодах, ее здоровье, и у меня с ней получился более содержательный разговор, чем, например, с моим двоюродным братом Яном Стрикером – ученым профессором.
Я рассказываю все это тебе в надежде на то, что ты поймешь: я не собираюсь быть бессмысленно-сентиментальным, несмотря на испытываемые мной чувства. Я в любом случае желаю сберечь немного жизненного тепла и сохранить свой дух ясным, а тело – здоровым ради работы. И мое понимание любви к К. Ф. сводится к тому, что я не собираюсь даже из-за нее приступать к работе в состоянии меланхолии или терять душевное равновесие.
Ты должен это понять, ты, который в своем письме затронул тему здоровья. Ты написал, что некоторое время назад был не вполне здоров: очень хорошо, что ты идешь на поправку.







