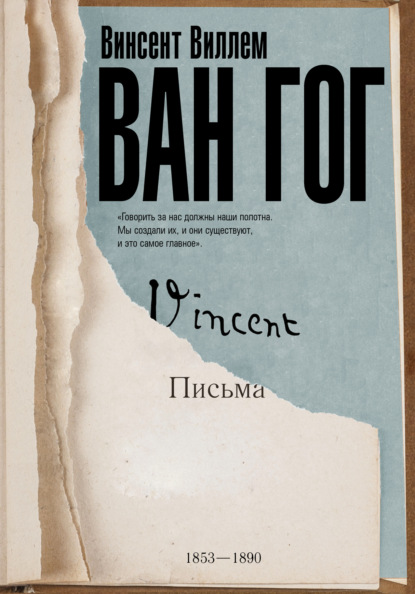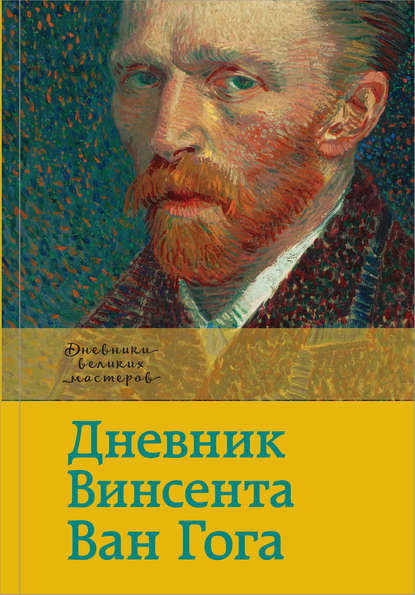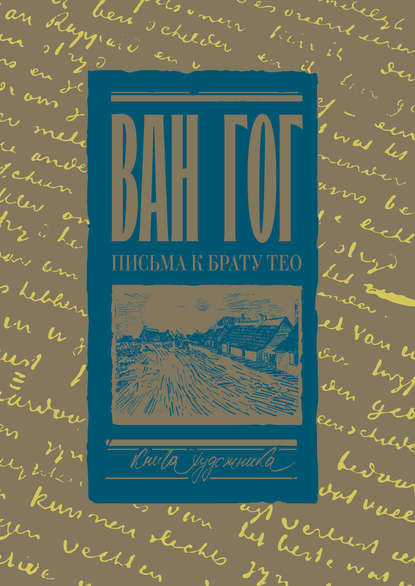Полная версия:
Винсент Виллем Ван Гог Письма к друзьям
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Винсент Ван Гог
Письма к друзьям
© Перевод. П. Мелкова, наследники, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *Ван Гог: литературный автопортрет
«Птица в клетке отлично понимает весной, что происходит нечто такое, для чего она нужна; она отлично чувствует, что надо что-то делать, но не может этого сделать и не представляет себе, что же именно надо делать. Сначала ей ничего не удается вспомнить, затем у нее рождаются какие-то смутные представления, она говорит себе: «Другие вьют гнезда, зачинают птенцов и высиживают яйца», и вот уже она бьется головой о прутья клетки. Но клетка не поддается, а птица сходит с ума от боли…»
«Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так».
Оба фрагмента взяты из писем Винсента Ван Гога. Их разделяет десятилетие, в течение которого неудавшийся торговец картинами, а затем несостоявшийся проповедник превратился в художника, имя которого впоследствии стало известно всему миру. Впрочем, художник в нем жил всегда; нужно было прожить десять лет так, как прожил он, чтобы природный дар нашел воплощение в сотнях холстов и рисунков. И каких! Даже человеку, хорошо знающему историю искусства, с трудом верится в возможность столь стремительного роста.
Как известно, Ван Гог много раз писал себя. Среди его живописных автопортретов есть подлинные шедевры, другие менее удачны. Образуя целую серию, эти холсты могут немало поведать об их авторе. Но вряд ли будет преувеличением утверждать, что лучшим автопортретом Ван Гога служит гигантский свод его писем, многолетний эпистолярный диалог с братом Тео и другими адресатами.
Слово«диалог»представляется здесь ключевым. Сколь бы сильной индивидуальностью ни обладал Винсент, менее всего он был склонен культивировать творческий герметизм; напротив, его неудержимо тянуло к людям, общение было его родной стихией, и если он оставался одиноким, то не благодаря, а вопреки своему желанию. «А знаешь ли ты, – говорит он брату в уже цитированном раннем письме, – что может разрушить тюрьму? Любая глубокая и серьезная привязанность. Дружба, братство, любовь – вот верховная сила, вот могущественные чары, отворяющие дверь темницы. Тот, кто этого лишен, мертв. Там же, где есть привязанность, возрождается жизнь».
Безусловно правы, на мой взгляд, комментаторы, которые видят в переписке Ван Гога нечто большее, нежели документальный источник, объясняющий перипетии судьбы великого художника. Это памятник литературы, равноценный живописному наследию Ван Гога. Нужно быть слепым и глухим, чтобы не почувствовать его писательской одаренности (даже если иметь в виду переводы).
Ван Гог говорил и писал на разных языках, главным образом по-голландски и по-французски, очень много читал, и для него, конечно же,в начале было Слово– не только потому, что он постоянно обращался к Библии, но и в силу индивидуальной склонности к литературе. Распространенная точка зрения на последнюю как на что-то, якобы мешающее чистой выразительности линий и красок, могла бы привести его в недоумение. Больше того, Ван Гога следует признать именно «литературным» живописцем, поэтом живописи, если не подменять смысл глубинной связи изображения и слова ссылками на плохих иллюстраторов. Ведь грехи так называемой литературщины в живописи и описательности в литературе коренятся в одном и том же.
Разумеется, Ван Гогу не приходило в голову, что переписка станет всеобщим читательским достоянием. Большинство писем адресовано брату, и это в высшей степени существенно. Вряд ли можно вообразить более отзывчивого адресата. Но благодаря этому каждый читатель как бы оказывается на месте брата художника и на себе испытывает силу проступающего в строчках чувства, поразительной искренности, едва ли возможной, за редкими исключениями, в иных литературных жанрах и жизненных ситуациях. По праву старшего Винсент подчас берет учительский тон, однако, как правило, диалог ведется на равных.
Читателю необыкновенно повезло. Письма Ван Гога, изданные и множество раз переизданные на всевозможных языках, обрели огромную популярность. И вместе с тем образ автора подвергся неизбежной мифологизации. Правда, причиной тому послужили вторичные источники – романы, кинофильмы, журнальные статьи и т. п.
Так, укрепилось мнение, будто Ван Гог обошелся без образования. Конечно, здесь не место обсуждать, что такое образование и насколько таковое обеспечено получением того или иного диплома. Но достаточно прочесть письма художника, чтобы убедиться в нелепости упомянутого мнения. Начну с того, что с языками (как основой образования) у Ван Гога дело обстояло лучше, чем у многих его дипломированных коллег. Причем речь не только о новых, но и о древних языках. Вот свидетельство от первого лица: «Я изо дня в день делаю все, что в моих силах, чтобы втянуться в работу, особенно латынь и греческий, и уже выполнил кучу переводов…» Далее о книгах. Как сказано, он много читал. Вот некоторые имена: Гейне, Уланд, Лонгфелло, Диккенс, Шекспир, Гюго, Доде, Бальзак, Флобер, Гонкуры, Золя, Бодлер, Мопассан, Уитмен; он интересовался Тургеневым, Толстым, Достоевским. Не приходится уже говорить о литературе, посвященной изобразительному искусству. Он превосходно знал старых мастеров и современников, его учителями были Рембрандт, Халс, Милле, Домье, Хокусаи, Делакруа, Монтичелли… Пожалуй, комментарии излишни.
В таком же противоречии с фактами находится представление, будто особой экспрессивностью художественного языка Ван Гог обязан своей болезни. Очень просто: он писалтак, потому что был сумасшедшим. Однако Ван Гог ясно сознавал, на что направлены его поиски, и превосходно умел выразить это словами. Вот знаменитый фрагмент его переписки:
«Допустим, мне хочется написать портрет моего друга-художника, у которого большие замыслы и который работает так же естественно, как поет соловей, – такая уж у него натура. Этот человек светловолос. И я хотел бы вложить в картину все свое восхищение, всю свою любовь к нему.
Следовательно, для начала я пишу его со всей точностью, на какую способен. Но полотно после этого еще не закончено. Чтобы завершить его, я становлюсь необузданным колористом.
Я преувеличиваю светлые тона его белокурых волос, доходя до оранжевого, хрома, бледно-лимонного.
Позади его головы я пишу не банальную стену убогой комнатушки, а бесконечность – создаю простой, но максимально интенсивный и богатый синий фон, на какой я способен, и эта нехитрая комбинация светящихся белокурых волос и богатого синего фона дает тот же эффект таинственности, что звезда на темной лазури неба».
Натура человека не находит полного выражения во внешности, а буквальное воспроизведение не оставляет места для «всего восхищения», «всей любви», переполняющей художника. Тогда он идет на преувеличение живописной экспрессии. И так во всем. Если Ван Гог пишет море, то его мазку передается энергия волны и плоскость картины вскипает пеной; его солнце излучает как бы зернистый свет; его травы изгибаются, вьются, струятся зелеными потоками, а кусты и деревья подобны живым телам, устремленным к небу.
Болезнь Ван Гога не причина, а следствие. Почему считают естественной возможность надорваться физически, от работы, непосильной для тела, и почему не может надорваться душа, изнемогшая под тяжестью психического труда? Самодовлеющий рассудок не внемлет таким аргументам, для него границы реальности раз и навсегда определены, для него непостижимое равно несуществующему. Но именно подвижничество художника, его самозабвение и «безрассудство» раздвигают границы существования, и со временем «невозможная» реальность, преподнесенная в готовом, удобоваримом виде (например, альбом репродукций), становится потребной для того же рассудка.
С другой стороны, Ван Гога вряд ли прельстила бы роль, которую отвела ему эстетика ХХ века:роль предтечи экспрессионизма. Между ним и его последователями есть принципиальное различие.
«Когда пытаешься добросовестно следовать за великими мастерами, – писал Ван Гог, – видишь, что в определенные моменты все они глубоко погружались в действительность. Я хочу сказать, что так называемыетворения
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.