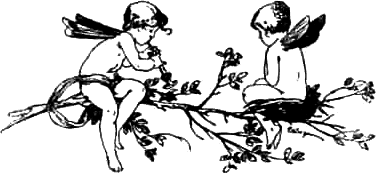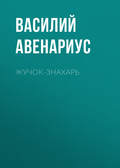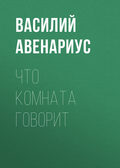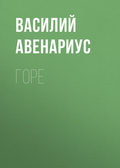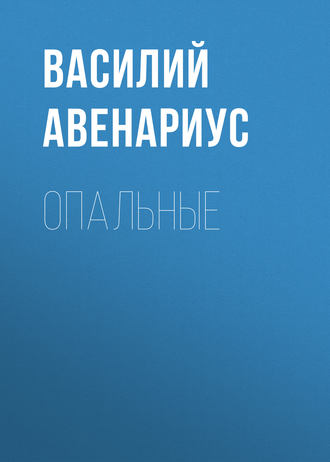
Василий Авенариус
Опальные
Глава первая
Новый Зигфрид
Десятый уже год опальный боярин Илья Юрьевич Талычев-Буйносов жил безвыездно в своей Талычевке. В Москве об нем, казалось, вовсе забыли, точно его и на свете уже не было. Между тем, благодаря лекарю-немцу Вассерману, здоровьем он почти совсем поправился, парализованные нога и рука опять его слушались, только ходить он не мог уже без палки, да, наделяя провинившегося холопа пощечиной, не сворачивал уже ему скулы. Духом Илья Юрьевич, напротив, нимало не воспрянул, а находился в состоянии постоянного мрачного раздумья и глухого раздражения. Да и не диво: кроме тяготевшей еще над ним немилости царя и вызванного этой немилостью отчуждения от него помещиков-соседей, его посетило еще тяжелое семейное горе – смерть второй жены. Радушный хозяин превратился в угрюмого нелюдима. Свою соколиную охоту, составлявшую прежде его радость и гордость, он уничтожил, дозволив своему старшему сокольнику Кондратычу оставить у себя одного только злополучного красавца-кречета Салтана. Своих карлика-шута и карлицу-шутиху он прогнал сперва со своих глаз, а потом променял на породистых быка и корову. Даже из трех детей своих он проявлял теперь видимое расположение только к старшему сыну, 16-летнему Юрию как к будущему представителю старинного рода Талычевых-Буйносовых; младшие дети, 14-летний Илюша и 12-летняя Зоенька, в кои веки удостаивались от него нежного взгляда, ласкового слова. Что касается остальных домочадцев, то из них Илья Юрьевич общался теперь обыкновенно только с двумя: со своим неизменным приятелем-советчиком Пыхачем да с лекарем Вассерманом. Последний играл с ним по вечерам в шахматы и давал ему отчет о научных успехах его сыновей, которых взялся обучать книжной премудрости.
Чему, однако, училась дворянская молодежь на Руси допетровских времен? Вообще говоря, очень немногому. Если сын боярский знал несколько молитв, умел с грехом пополам читать да писать, то и слава Богу. Если же он сверх того был умудрен в четырех правилах «богоотводной науки» – цифири: «аддиции», «субстракции», «мультипликации» и «дивизии», да еще свободно объяснялся на каком-нибудь иностранном языке, то мог рассчитывать на блестящую будущность.
Предоставив приходскому попу, отцу Елисею, наставлять двух боярчонков в Законе Божьем и в русской грамоте, Вассерман взял на себя уроки арифметики, географии, «мировой» истории, истории «натуральной», немецкого языка и «каллиграфии», а также и «свободных» искусств: верховой езды, стрельбы в цель и фехтования, в которых он сам, как былой «студиозус и бурш», был большой мастер. Таким образом, ученики его находились в исключительно благоприятных условиях. Впрочем, правду сказать, в «свободных» искусствах они преуспевали все-таки более, чем в науках, особенно Юрий: несмотря на разность лет, он учился тому же, что и младший брат, который был прилежнее, да, пожалуй, и способнее его к наукам. Однажды, в начале мая месяца, научный урок их пришел только что к концу. Чтобы усластить ученикам «горький корень» науки, Вассерман имел обыкновение преподносить им в виде десерта какой-нибудь любопытный исторический эпизод или старинное предание, разумеется, по-немецки, чтобы убить, как он выражался, «двух мух одной хлопушкой» (zwei Fliegen mit einer Klappe): «мировую» историю и немецкий язык. На этот раз выбор его пал на древнегерманское сказание о «Роговом Зигфриде». Дошел он в своем рассказе до того места, где Зигфрид, окунувшись в драконову кровь, покрылся весь непроницаемой роговой корой, – когда младший ученик, Илюша, прервал его:
– Да ведь и ты сам, Богдан Карлыч, никак тоже Зигфрид?
– При крещении мне, точно, дали два имени Siegfried-Gotthelf…
– Так почему же ты зовешься теперь только Богданом?
– Почему?.. Покойный батюшка мой, видишь ли, был врачом для бедных и в колыбели еще благословил меня идти по его стопам. Затем-то он и дал мне имя мифического победителя драконов, я должен был научным оружием – лекарственными снадобьями поражать злейших врагов человечества, всякие недуги и болезни.
– А второе имя – Gotthelf – дала тебе, верно, твоя матушка?
– Да… Оно должно было служить мне талисманом от людского коварства.
– Да на что тебе еще талисман, коли ты покрыт уже роговой корой? – рассмеялся мальчик.
– То-то, что и у меня, как у Рогового Зигфрида, прилип меж лопаток липовый листок…
– Липовый листок? Я тебя что-то не пойму.
– Листок, конечно, не настоящий, а фигуральный. Листок этот – безрассудные надежды и желания, которые, как лишний балласт, давно бы мне пора выбросить за борт.
И, глубоко вздохнув, новый Зигфрид прикрыл глаза рукой.
В это самое время чуть слышно скрипнула дверь, и в нее просунулась лохматая голова молоденького парня, кивнула нашим боярчонкам и тотчас опять скрылась.
Юрий тихохонько приподнялся и выскользнул за дверь. Илюша не замедлил последовать за ним, но второпях так шумно отодвинул стул, что обратил внимание учителя.
– Куда? Куда? – крикнул тот, но не получил уже ответа.
Кончался урок так не впервые. Искать шалунов, как показал опыт, было уже напрасно. Богдан Карлыч остался сидеть и погрузился в невеселую думу.
Да, этот проклятый липовый листок! С дипломом доктора философии и медицины Виттенбергского университета в кармане он, Зигфрид Вассерман, по завету покойною отца, стал было практиковать среди беднейшего населения родного городка своего Лобенштейна. Но враг силен! Однажды его позвали к заболевшему внезапно придворному истопнику владетельного князя Генриха X Лобенштейнского. Поставил он пациента на ноги так скоро и своей обходительностью расположил его так в свою пользу, что понемногу вся придворная челядь, а наконец и обер-камердинер его княжеской светлости охотнее обращались к молодому Зигфриду Вассерману, чем к брюзге лейб-медику и даже известнейшей в городе знахарке. Не прошло и года времени, как, благодаря протекции того же обер-камердинера, его назначили сверхштатным придворным медиком. Успех ударил ему вином в голову. Он стал пренебрегать своими бесплатными больными, грезил уже сделаться лейб-медиком, когда за такое высокомерие судьба его жестоко покарала. Придворный чин московского царя, боярин Стрешнев, проездом с баденских минеральных вод в свою Москву остановился ночевать в резиденции Лобенштейнского князя. Ночью схватил его опять отчаянный приступ застарелой ломоты, от которой он лечился в Бадене. Старика лейб-медика не велено было тревожить по ночам для кого бы то ни было, кроме самого владетельного князя. И так-то к одру проезжего москвича был призван Зигфрид Вассерман. К утру у боярина все боли как рукой сняло, и он, недолго думая, предложил молодому эскулапу сопровождать его до Москвы. Зигфрид Вассерман еще колебался, потому что о Москве, как большинство его соотечественников, имел самые смутные понятия. Но Стрешнев сумел убедить его, что одних немцев в резиденции московскою царя было больше, чем всех жителей в Лобенштейне, а перед великой Москвой крошечное Лобенштейнское княжество исчезало, как туманное пятнышко Млечного Пути на необъятном небосклоне.
– Но здесь я все ж таки придворный медик, хоть и сверхштатный, – возражал Зигфрид Вассерман.
– А там вас сразу сделают штатным, – отвечал искуситель-москвич.
– Придворным же?
– Придворным.
– Да кто мне за это отвечает?
– Я вам отвечаю моей собственной боярской честью. Искушение было слишком велико, Зигфрид не устоял.
Месяц спустя он был уже в Москве, а еще через месяц, действительно, был зачислен в штат придворных лекарей. Но на этом карьера его и запнулась.
Старшие придворные лекаря, из таких же иноземцев, оттирали юного, не в меру прыткого собрата. А тут скончался его единственный влиятельный покровитель боярин Стрешнев. Шел год за годом, прошло целых пять лет, а Вассермана за это время всего-то раза три-четыре призывали к особе его царского величества, да и то лишь в качестве младшего ассистента.
И вдруг новый нежданный громовой удар – повеление государя сопровождать опального боярина в деревенское захолустье и не отлучаться от него до его выздоровления. Правда, что теперь, к концу десятого года общей их опалы, здоровье боярина почти совершенно восстановилось, прежнего же Зигфрида не осталось уже и в помине. Из гордого победителя драконов он превратился в скромного домашнего учителя, из Зигфрида в Богдана Карлыча, и вместо того, чтобы совершенствоваться в своей любимой медицине, повторял со своими двумя питомцами школьные зады, переливал из пустого в порожнее, как настоящий Wassermann, календарный водолей.
– О, Siegfried, Siegfried! Wo bist du hin? (куда ты делся?) – простонал он, когда картины прошлого промелькнули теперь перед его духовным взором.
У стены стояли клавикорды… Как попал этот иностранный музыкальный инструмент в русскую глушь? Перекупил его когда-то в Москве Илья Юрьевич у одного заезжего музыканта, пленившего его своей потешной игрой. Но, доставленные в Талычевку, клавикорды под неумелыми пальцами боярина и его домочадцев издавали одни жалобные нескладные звуки. Крепко осерчал боярин на мошенника «музикуса», сбывшего ему за высокую цену негодную дрянь, и велел убрать «клевикорты» со своих глаз долой на чердак. Там впоследствии случайно углядел их Богдан Карлыч и получил разрешение поставить их к себе в горницу. Нот он также не знал, но во времена студенчества все же бренчал по слуху. Здесь, на чужбине, такое бренчание служило ему единственным спасением от находившей на него меланхолии.
Усевшись теперь за клавикорды, он заиграл сперва торжественный церковный хорал. Тот сменился грустным народным мотивом, а этот – игривой застольной песней. Мурлыкая ее про себя, Богдан Карлыч и не заметил, как в полуоткрытой двери появилась белокурая девочка с огромным букетом полевых цветов в руке. Прослушав два куплета, она на цыпочках подкралась сзади к музыканту и так внезапно сунула ему свой букет под самый нос, что он как кот, фыркнул и расчихался. Она залилась звонким смехом.

В полуоткрытой двери появилась белокурая девочка с огромным букетом полевых цветов в руке
– Ну, конечно, Зоенька! Guten Morgen, mein Herzenskind! (Здравствуй, мое серденько!) – сказал он, оборачиваясь к ней с ласковой улыбкой. – И опять цветы!
– Да, я набрала тебе свежих, эти вот у тебя со вчерашнего дня уже маленько повяли, – отвечала Зоенька, заменяя новым букетом вчерашний в стоявшей на клавикордах вазе. – А что это была за песня, Богдан Карлыч?
– Песня старая студенческая, ein altes Burschen-lied. Что она тебе понравилась?
– Та, что ты перед тем играл, мне больше по душе.
– Но та печальней.
– Вот потому-то мне и милей, покойная матушка баюкала меня всегда одной такой печальной песней. Ты, Богдан Карлыч, верно, ее слышал, про татарский полон.
– Может, и слышал, не знаю, право.
– Душевная песня! Особливо слова. Хочешь я тебе спою?
– Спой, дитя мое, спой.
И запела Зоенька стародавнюю колыбельную песенку о том, как татарове полон делили, как теща досталась зятю, а зять подарил ее своей молодой жене, русской же полонянке:
– Ты заставь ее три дела делать:
Что и первое – то дитя качать,
А другое – тонкий кужель[2] прясть,
Что и третие – то цыплят пасти.
Эту речь мужа-татарина Зоенька старалась передать грубым мужским голосом, а затем, как теща, укачивающая внучонка, понизила тон до нежного шепота:
Ты баю-баю, мое дитятко!
Ты по батюшке злой татарчонок,
А по матушке мил внучоночек,
Ведь твоя-то мать мне родная дочь,
Семи лет она во полон взята,
На правой руке нет мизинчика.
Ты баю-баю, мое дитятко!
И, вся просветлев, как дочь, узнавшая вдруг свою мать, девочка распростерла вперед руки, точно хотела броситься матери на шею, и закончила порывисто и звонко:
– Ах, родимая моя матушка!
Выбирай себе коня лучшего!
Мы бежим с тобой на святую Русь,
На святую Русь, нашу родину!
Голубые, как незабудки, глазки маленькой певицы блистали алмазами навернувшихся на них слез. И сентиментального немца-учителя стародавняя русская песня защемила, видно, за сердце.
– Славная песня! – сказал он. – Надо ее записать и перевести на немецкий язык.
– А потом и сам петь ее тоже будешь?
– И сам петь буду. А музыку сейчас подберем. Он стал подбирать.
– Постой, не так! – остановила его Зоенька и своими детскими пальчиками отыскала требуемые клавиши.
– Ага! Теперь знаю, – сказал Богдан Карлыч и уже полными аккордами передал основную тему песни.
– Голубчик, Богдан Карлыч! – воззвала тут к нему девочка. – Научи и меня это играть!
– А что батюшка твой скажет?
– Ничего не скажет, он и знать-то не будет.
– Nein, mein Kind, das geht nicht! Без его апробации никак невозможно.
– Ну, так попроси батюшку, когда засядешь с ним опять за эти ваши шахматы, тогда он всего сговорчивей, добрее.
– Хорошо, нынче же попрошу.
Но ни в этот день, ни в последующие отцу Зоеньки было не до Шахматов.
Глава вторая
Запретные плоды
Молодчик, таинственно вызвавший братьев Зоеньки из учительской, был всегдашний товарищ их игр и шалостей, внук старика-сокольника Кондратыча, Кирюшка. Лишившись обоих родителей еще в раннем детстве, он жил у деда на сокольничьем дворе. Там же, в особом чулане, холилась-лелеялась теперь, как уже сказано, единственная еще ловчая птица, несравненный кречет Салтан. Когда Кондратыч, бывало, выносил Салтана за речку в лес поохотиться на тетеревей, куропаток, диких уток, чтобы кречету не совсем отвыкнуть от своего «ремесла», – баловень-внук неизменно сопровождал старика. Точно так же бывал он с дедом и в так называемой «оружейной» палате боярина, помогая ему сметать пыль с хранившихся там, наравне со всякого рода оружием, разных принадлежностей соколиной охоты. Кроме них обоих да самого боярина, ни одна душа человеческая не имела туда доступа, даже боярчонки. Точно так же было заказано им присутствовать и при вылетах Салтана, чтобы не пристрастились тоже, не дай Бог, к соколиной охоте. Но запретный плод сладок. Еще с вечера узнали они от Кирюшки, что дедко его собирается опять с Салтаном на охоту. На утреннем уроке они ждали только условного знака Кирюшки. Тут он подал им этот знак – и след их простыл.
До того места речки, где стояла лодка, по проезжей дороге было версты полторы. Молодежь же предпочитала ближайший путь через сад, хотя при этом приходилось перелезать – при помощи, впрочем, приставленных досок – довольно высокий забор. Таким образом, когда Кондратыч со своим кречетом на руке более удобной окружной дорогой доплелся до лодки, то застал уже сидящими в ней всех трех мальчиков.
– Ну, так! – проворчал старик. – Опять ты, Кирюшка, упредил барчат?
– Полно тебе брюзжать, старина! – прервал его Юрий. – Мы и то сколько времени ждем тут тебя.
– Ох, времена, времена! – вздохнул старый сокольник, садясь к рулю, тогда как внук его взялся за весло и оттолкнулся от берега.
– Да чего ты охаешь? – продолжал Юрий. – Не другим, так нам хоть дашь полюбоваться на своего Салтана.
– Да я не об том! Нешто мне жалко? Я не об том!
– Так о чем же? Иль у тебя горе какое?
– Что наше холопское горе! Нам, талычевцам, на свою долю жаловаться – Бога гневить. Мы – люди серые, рабами родились, рабами и помрем. Об вас, касатики, сокрушаюсь…
– Об нас-то зачем?
– Затем, что без ножа вам голову сняли. Только слава одна, что боярские дети. Родитель опальный – и детки опальные. Не в деревне бы вам тут киснуть, небо коптить, а в Белокаменной состоять при государыне-царице, а потом в комнатных людях и при самом государе.
– В каких таких комнатных людях? – спросил Илюша.
– Неужели ты не слыхал про «комнатных», или «ближних», людей? – заметил брату Юрий. – Это – спальники и стольники: спальники раздевают, разувают государя в опочивальне, а стольники прислуживают ему за столом.
– Опосля же жалуются в рынды, в окольничие, в бояре! – досказал Кондратыч. – Да вот не задалось! Связала вам судьба-мачеха резвые крылышки…
– Ну, мы и сами себе их развяжем, взлетим не хуже твоего Салтана!
– И сокол выше солнца не летает. Аль не веришь? – отнесся старик-сокольник любовно к своему кречету, который, сидя у него на правой рукавице, в пунцовом бархатном «клобучке», в суконных «ногавках» (чулочках) и с серебряным колокольчиком в хвосте, гордо поводил кругом своими блестящими желтыми глазами. – Свет ты очей моих! Золотая головушка!
– Сам ведь точно понимает, что безмерно хорош! – восхитился и Юрий.
– Эх-ма! – вздохнул опять Кондратыч. – Кабы и тебя, соколик мой, еще разрядить в сокольничий убор да на руку дать тебе Салтана, за одно погляденье рубля бы не жаль!
– А что же, дедко, за чем дело стало? – вмешался в разговор Кирюшка. – У нас в оружейной палате есть совсем новенький сокольничий убор, и как раз, я чай, ему впору.
– Нишкни, баламут! Страху на тебя нет.
– И сами ужо добудем, – вполголоса заметил Кирюшка Юрию.
– Что? Что ты там опять намыслил, непутный? – вслушался дед. – Повтори-ка!
– Глухим двух обеден не служат.
– Ай, зубоскал! Смотри ты у меня: десятка два как засыплю…
Кирюшка в ответ только свистнул: давно уже перестал он верить угрозам добряка-деда.
Извилистая речка только что огибала выдающийся мысок. Тут из-за мыска раздалось отчаянное кряканье, и дикая утка с целым выводком утят шарахнулась с шумным плеском к берегу, заросшему осокой.
– Пусти Салтана, Кондратыч, пусти! – закричал Юрий.
Сам Салтан хищно встрепенулся и готов был сорваться со шнурка, на котором сдерживал его старый сокольник. Но последний неодобрительно покачал головой.
– Что ты, родной! Статочное ли дело – у малых деток убивать их мать-кормилицу! Вот постой, как попадется нам селезень али бодяга-цапля…
Точно по заказу, вспугнутая шумом весел и человеческими голосами, шагах в тридцати от лодки поднялась из прибрежных камышей цапля и с пронзительным криком понеслась низко над водой. Но спущенный сокольником со шнурка кречет, звеня своим серебряным колокольчиком, стрелой помчался уже за ней. Вот он ее нагоняет. Нанести длинноногой птице верный удар сзади, однако, нет возможности. И кречет прибегает к уловке: подбившись под цаплю, он заставляет ее волей-неволей взвиться выше. Она летит уже над лесом, а он обгоняет ее, взмывая вверх еще быстрее, и вдруг, свернувшись в комок, падает на нее стремглав, вцепляется в несчастную когтями и увлекает ее с собой вниз; оба скрываются за верхушками лесной чащи!
– Он ее растерзает! – завопил Илюша вне себя.
– На то он и ловчая птица, – отозвался Кондратыч. – А как он с ней расправится, сейчас увидим.
Говоря так, старик направил лодку к берегу, и все четверо поспешили к месту последней борьбы двух пернатых. Звяканье колокольчика и жалобные крики цапли безошибочно указывали им направление.
Среди кустарника в густой траве билась в предсмертных содроганиях цапля. На груди же ее сидел победоносно кречет и своим крючковатым клювом рвал ей с остервенением горло. При приближении людей, он окинул их злобным взглядом: «Чего, дескать, вам надо? Не мешайте!», после чего еще ожесточеннее затеребил бедную жертву, брызгая кругом кровью.
– Это ужасно! Отними же ее у него, Кондратыч, пожалуйста, отними! – умолял Илюша, отворачиваясь, чтобы только не видеть возмутительной картины.
Менее чувствительный Юрий не спускал глаз с Салтана, хотя в душе и его коробило; Кирюшка же, видимо, упивался кровожадностью кречета и удержал деда за рукав, когда тот протянул уже руку к Салтану.
– Нет, дедко, не трогай, он взял ее с бою.
– Правильно, – согласился старик, – он честно себе ее заработал.
– Честно, как разбойник! – воскликнул Илюша.
– Да разбойник разве не тот же вольный сокол? – возразил Кирюшка. – И я тоже, коли раз жить тут с вами наскучит, возьму дубину и пойду на большую дорогу.
– Ах ты, такой-сякой! – напустился на него дед. – Христа в тебе нет! Да лучше я сам из тебя дубиной душу вышибу!
– Ну, полно, старина! – вступился Юрий. – Не видишь разве, что он смеется? А вот что скажи-ка, будешь ты еще нынче иль нет охотиться с Салтаном?
– Буду ль, не буду ль, вам-то, ребятам, глядеть уже нечего, вдосталь на «разбойника» нагляделись.
– Да ведь до птичьей потехи и батюшка наш прежде охоч был, и сам государь, слышь, написал об ней целую книжку «Сокольничий Урядник».
– Ну, и ступай, и почитай ту книжку, куда больше ума-разума наберешься, чем от меня с Салтаном.
– Да разве она есть у нас в доме?
– Как не быть, чтобы у боярина нашего ее да не было!
– Но где же она у него? Не в оружейной же палате?
– Там-то вряд ли, книжек там никаких нету, – заметил Кирюшка. – Разве вот в книгохранилище, что в молельне.
– Наверное, что так! Сейчас пойдем туда и разыщем.
– Что ты, миленький! Без спросу? – возразил Кондратыч.
– Да ведь мы ее потом опять на место поставим. Гайда!
– А с лодкой-то как же? С Кирюшкой мне, что ли, назад пришлете?
– Да, хоть с Кирюшкой.
Переправясь обратно через речку, наши ветреники, однако, так и забыли уже про свое обещание старику, перелезли один за другим через забор в сад и боковой дорожкой незаметно добрались до дому.
Здесь будет кстати сказать пару слов о самой талычевской усадьбе.
Вся усадебная площадь, версты три в окружности, была обнесена кругом сплошным бревенчатым забором. Единственным в нем входом служили дубовые ворота с башенкой и с такой же иконой св. Георгия Победоносца, как и на воротах талычевских палат в Москве. Кроме главного господского дома с людскими избами, с большим плодовым садом и огородами, на усадебной площади были расположены всевозможные хозяйственные постройки: поварня, медоварня, винокурня, конюшня с кузницей и дворы скотный, птичий и сокольничий. Господский дом состоял, собственно говоря, из нескольких строений в три, в два и в одно жилье, возведенных в разное время, но соединенных между собой крытыми переходами. Срединное здание, в три жилья, с вышкой, имело крыльцо на столбиках и с прорезными перилами, а на наружных стенах здания и на ставнях окон были намалеваны доморощенным художником – нельзя сказать, чтобы очень уж искусно – разные звери, птицы и растения. К тому же некогда яркие краски успели значительно выцвесть и кое-где облупиться. Тем не менее, благодаря именно этой своеобразной живописи, здание выделялось довольно выгодно среди окружающих некрашеных строений и составляло немалую гордость всех талычевцев.
Наши мальчики, не желая быть замеченными, из садовой калитки не направились, конечно, к главному крыльцу, а шмыгнули в одно из боковых крылечек, откуда рядом переходов пробрались затем и в молельню.
Молельня, иначе «крестовая палата», была настолько обширна, что в ней в особых случаях совершались общие молебствия и для всех домочадцев. Обыкновенно же она служила только для утренних и вечерних молитв самому боярину.
В глубине молельни виднелся иконостас, задернутый по железному пруту зеленой шелковой пеленой с вышитым на ней золотым крестом. Когда при общих молебствиях пелена эта отдергивалась, то в верхнем поясе иконостаса являлись, по бокам Животворящего Креста, вделанные в стену два больших, старинного письма образа Богоматери и Апостола Иоанна Богослова, в нижнем же поясе – изображения двенадцати Страстей Христовых.
С средины сводчатого потолка, расписанного в виде исходящих из центра золотых лучей, спускалась длинная рука, держащая золоченую деревянную люстру. На люстре было двенадцать подсвечников, и под каждым подсвечником было подвешено по деревянной птичке с распростертыми крылышками, так что при всяком движении воздуха эти птички порхали точно живые.
Когда-то, даже во время торжественного богослужения, порхающие птички не в меру развлекали маленьких боярчонков.
Теперь оба они без оглядки подошли к «книгохранилищу» – «вальящетому» (резному), орехового дерева поставцу. Боярину и в голову не могло прийти, что кто-либо осмелится без его разрешения заглянуть в поставец, а потому ключ не был вынут из замка. При всем своем легкомыслии, Юрий не без тайного трепета повернул ключ в замке.
В поставце оказалось три полки. На двух верхних были размешены в строгом порядке книги печатные и писанные в переплетах из свиной кожи, на нижней лежали аккуратными же пачками рукописи in folio и пергаментные свитки.
– Начнем подряд, – сказал Юрий, принимаясь за книги на верхней полке. – Да это никак все книги духовные…
Действительно, для человека, интересующегося вопросами религии, выбор был здесь довольно разнообразный: рядом с «Евангелием напрестольным», «Псалтирью», «Акафистами Богородичными» можно было найти и книги не богослужебные: «Житие Чудотворца Николая», «О Антихристе и о иных изрядных вещах», даже «Алкоран Махметов» в переводе с польского.
– Постой, Юрий, не тут ли? – сказал Илюша, обращаясь ко второй полке, и начал читать заглавные листы: – «Книга о ратном строе…», «Право, или Уставы воинские Галанской земли…», «Конский лечебник…», «Сокольничий Урядник». Вот он, значит, и есть!
– Покажи-ка сюда! – сказал Юрий и, выхватив у него книгу из рук, принялся ее перелистывать.
– Да дай же и мне взглянуть немножечко! – попросил наконец Илюша, глядевший ему через плечо.
– Нет, уж лучше я тебе что-нибудь прочитаю. Ну вот, слушай:
«И зело потеха сия полевая утешает сердца печальные и забавляет весельем радостным и веселить сия птичья добыча. Безмерно славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига[3] кречатья добыча. Красносмотрителен же и радостен высокова сокола лет. Премудра же челига соколья добыча и лет. Добровидна же и копцова добыча и лет. По сих доброутешна и приветлива правленых ястребов и челигов ястребьих ловля, к водам рыщение, ко птицам же доступание… Будете охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие».
– Ведь вот как тут расписана птичья потеха! – прервал свое чтение Юрий. – Точно воочию видишь перед собой всех этих кречетов и соколов, ястребов и копчиков…
– Только не самих сокольников, – досказал Илюша. – Хоть бы одного-то сокольника раз увидеть во всем его уборе!
Юрию вспомнилось давешнее предложение Кирюшки, и он усмехнулся.
– А хочешь, я сейчас покажу тебе такого сокольника?
– Откуда ж ты возьмешь его?
– А вот в оружейной палате.
Дверь туда из молельни была всегда замкнута, ключ же от нее висел рядом на стене. Теперь ключ торчал уже в замке, а сама дверь была полуотворена.
– Э! Да Кирюшка никак уже там. Кирюшка! Ты там, что ли?
– Здеся! – откликнулся из-за двери Кирюшка. – Милости прошу к моему шалашу.
И без такого приглашения два брата-шалуна не утерпели бы уже заглянуть в заповедную для них палату.