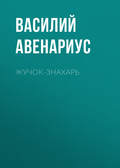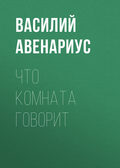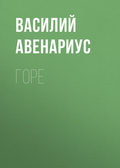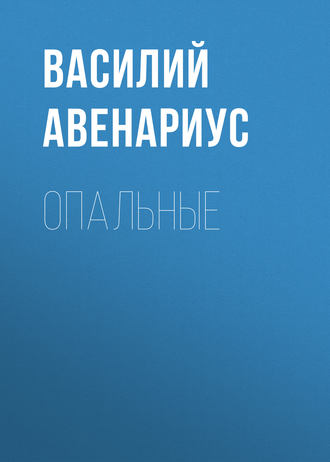
Василий Авенариус
Опальные
Глава двадцать третья
Конец опальных
На другое утро, едва только Илюша встал со сна, как в горницу к нему влетел с сияющим лицом Пыхач.
– Аллилуйя!
Илюша так и встрепенулся:
– Что, Спиридоныч? Узнал что-нибудь про Юрия?
– Про него-то, увы, нет; а чую, что опале наглей конец.
– Да ведь государь, сказывают, в селе Коломенском…
– Был там, да вечор уже вернулся обратно. Не хотел он только быть на ту пору в Москве, когда казнят Разина. В милосердии своем, да на радостях он и жизнь бы злодею даровал, кабы не боярская дума.
– На каких радостях?
– Да ведь слышал ты еще года полтора назад, что по кончине первой царицы, Марьи Ильинишны, государь женился вдругорядь?
– Как же – на Наталье Кирилловне Нарышкиной.
– Ну, вот. От первого брака у него дочек-царевен хошь и пять, да царевич всего один как перст – Иван, и тот ненадежен: здоровьем хил и слаб. А предрек молодой царице муж ученый Симеон Полоцкий, что родится у нее преславный сын, равного коему из царей московских еще не было, да и не будет. И вот, неделю назад, мая 30-го, послал ей Господь сыночка, нареченного Петром, такого, слышь, богатырского младенца, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
– А нам-то в Талычевке и невдомек!
– В наше захолустье когда-то еще весть о том дойдет! И сам я нонеча (Случайным только образом на заутрене от старого знакомца-пономаря о том сведал. Поднялся я к нему на Ивана Великого по старой памяти трезвоном душу отвести, да промеж разговора о том, о сем, он мне про царскую радость и поведай.
– Да ведь теперича, – говорю, – и с боярина моего всемилостивый государь наш опалу, верно, тоже снимет!
– И вестимо, – говорит. – Да чтобы совсем уж верно было, сходить бы тебе, не измешкав, к новому любимцу царскому Матвееву.
– Какой такой это, – говорю, – Матвеев? Знавал я как-то некоего думного дворянина Матвеева Артамона Сергеича.
– Ну, он самый, – говорит, – и есть. Молодая царица Наталья Кирилловна в его же доме воспиталася. А как женился на ней государь, так ее воспитателя он к себе еще боле приблизил. По случаю рождения царевича Петра на сих днях пожаловал Матвеева в окольничие, а через год-другой, того гляди, и в бояре пожалует…
– Так скорее бы тебе сходить к Матвееву! – перебил болтуна Илюша. – А то, может, не лучше ли и мне идти вместе с тобой?
Пыхач подмигнул ему самодовольно-лукаво.
– И ходить уже незачем!
– Как незачем?
– Да для чего ж ходить, коли раз уже хожено.
– Ты успел уже побывать у него? Когда ж это?
– Да прямехонько с заутрени. Вошел я к нему в палаты – и рот разинул: все-то у него по-иноземному: по стенам картины живописные, на подставках часы затейные, планита небесная… Одно слово: муж нарочитый, высоких понятий и созерцаний…
– Да ты, Спиридоныч, не размазывай! Говори: он тебя принял, выслушал?
– И принял, и выслушал. Да как было не выслушать! Пустил я в ход все свое, божьего человека, велеречие и словество.
– А я к твоей милости, – говорю, – с докукой. Выслушай, возьми терпения малость. К вратам смертным приблизясь, зело боярин мой грустью снедаем, что сойдет и в могилу опальным. Вышла же опала неоглядно, неопамятно…
– Все сие, – говорит, – было, да быльем поросло. Последней тучей на нашем небосклоне был, – говорит, – этот Стенька Разин. Не стало Разина – и небо опять очистилось. Ноне в Успенском соборе имеет быть благодарственный молебен. Вели-ка своему боярчонку выждать выхода царского из собора…
– А там в ноги повалиться и семь раз челом ударить? Все сие, – говорю, – весьма даже возможно. Но не погневись на меня, – говорю, – за глупство, а может, и ересь в вашем придворном чине: ты ведь у царя по важнейшим делам первый советчик и вершитель. Не шепнешь ли ты еще перед тем на царское ушко за нас доброе словечко?
– Сделаю все, – говорит, – что в силе моей возможности.
– Да благословит тебя премудрый Господь, – говорю, – и все московские чудотворцы!
– Как видишь, голубчик мой, дело твое обработано в наилучшем виде, – заключил свой многословный рассказ Пыхач. – А теперича обрядись-ка в первое свое одеяние, дабы предстать перед царские очи в подобающем обличье.
Торжественный молебен в Успенском соборе пришел к концу. Стоявшие при входе в храм стрельцы принялись расталкивать рукоятками бердышей, а то и просто локтями и кулаками толпившийся на паперти народ:
– Раздайтесь, православные: великий государь идет!
Толпа послушно отхлынула в обе стороны, чтобы дать больше простора показавшемуся в вратах соборных царю и сопровождавшей его боярской думе. Вдруг кто-то в задних рядах народа нарушил общее благочиние, стараясь пробиться вперед.
– Ты куда лезешь? – роптали окружающие, озираясь на нахальника – пригожего юношу, судя по «чистому» платью, из боярских детей.
– Дайте пройти, голубчики! Я с челобитной… Умолял он так жалобно и умильно, что возмущение сменилось участьем.
– Пропустите уж его, братцы! Господь с ним! Но, выдвинувшись в первый ряд, юный челобитчик вначале обомлел, когда увидел спускавшегося с паперти царя в венце и порфире. Мужественно-зрелые черты лица Алексея Михайловича, как и в годы молодости, были все еще удивительно привлекательны своей добротой и благородством, а теперь, как сдавалось Илюше, светились еще какою-то неземною благостью – отблеском сейчас только вознесенной ко Всевышнему благодарственной молитвы.
Илюша должен был сделать над собой усилие, чтобы преодолеть охватившее его обаяние и упасть к ногам царским.
– Яви божескую милость, великий государь! Взглянул на него царь и – словно ему что-то пришло на память – благосклонно улыбнулся.
– А в чем вина твоя?
– Вина не моя, государь…
– А родителя твоего?
– Родителя, государь, боярина Талычева-Буйносова. Тому уже тринадцать лет, что на него наложена опала…
– Знаю, знаю, Артамон Сергеич сказывал мне про тебя. Поезжай с Богом к старику, скажи, что все забыто: опала с него снята.
И, милостиво кивнув, государь продолжал свое шествие.
«Все забыто: опала снята…»
Эти знаменательные царские слова звучали еще в ушах Илюши, когда он несколько дней спустя подъезжал опять к крыльцу своего родительского дома в Талычевке. Этими же словами отвечал он на вопрос выбежавшей к нему навстречу Зоеньки:
– Ну, что, Илюша?
Легче ветра влетела девочка опять в дом и в опочивальню отца.
– Все забыто, батюшка: опала с тебя снята! Безучастный взор Ильи Юрьевича вспыхнул молнией.
– С чего ты взяла?
– Илюша сейчас только вернулся из Москвы… Подбежав к открытому окошку, Зоенька крикнула брату, только что сдавшему своего коня Терехе:
– Илюша! Скорей сюда, скорей!
И Илюша уже у отца, припадает к его руке, наскоро передает ему о том, как, благодаря Спиридонычу, новый царский любимец, окольничий Матвеев, упредил государя, и как затем, при выходе царя из Успенского собора, он, Илюша, бил ему челом.
С самого изгнания своего «блудного сына» из дома Илья Юрьевич впал в прежнюю угрюмую апатию. Только два раза в день, когда Илюша и Зоенька приходили к нему в опочивальню пожелать доброго утра и доброй ночи, тусклый взор его слегка просветлялся, и рука его осеняла обоих крестным знамением.
Понятно поэтому, с каким сердечным замираньем оба наблюдали теперь за отцом, на которого известие о снятии с него опалы произвело, видимо, глубокое впечатление; в возбужденных чертах его можно было прочесть не столько удовольствие, сколько досаду от оскорбленного самолюбия.
– Не след было тебе уничижаться моим именем, не след! – промолвился он желчно. – Ну, да ведь ты о себе же, чай, больше хлопотал: очистил себе напредки путь житейский ко всяким почестям и отличиям…
– Нет, батюшка, клянусь тебе Богом, – самым искренним тоном уверил Илюша, – о себе я при этом ничуть не думал! Почестей и отличий мне никаких вовек не надо…
– Не заклинайся, сынок. Как отведаешь раз их сладость, так не то запоешь. Моя же песня спета. В Москву я уже ни ногой…
– И я тоже! – подхватил Илюша. – За нашу Талычевку я отдам всю Москву…
Илья Юрьевич недоверчиво улыбнулся.
– Ох, юность несмысленная! Талычевка ведь теперь, можно сказать, без хозяина: какой уж я сам хозяин! Так волей-неволей придется мне не нынче-завтра свалить всю обузу на твои молодые плечи…
– Молод я еще, батюшка, твоя правда; но работать за тебя готов с утра до ночи хоть с завтрашнего дня. Ты меня только сперва сам наставляй…
– Хоть с завтрашнего же дня? Будь так. Попытка не пытка.
Со всем пылом неиспорченной молодости отдался Илюша своей новой ответственной задаче и, благодаря этому, справлялся с нею уже с самого начала очень успешно, к немалому удивлению Ильи Юрьевича, да и всех вообще домочадцев. Первые шаги его на незнакомом еще поприще направлял, разумеется, старик-отец, который сам при этом входил опять все более в интересы опостылевшего ему было сельского хозяйства, молодел и духом, и телом. В середине лета он проводил теперь уже часа два-три вне постели, а к концу лета – без чужой помощи, опираясь только на трость, спускался с крыльца в сад…
Летние полевые работы были почти все уже справлены, а к осенним еще только приступали. Так Илюша имел возможность, по крайней мере по вечерам, отдаваться своему любимому развлечению – рыбной ловле. Нередко сопровождала его к речке и Зоенька, для которой по его распоряжению в окружавшем сад заборе была сделана калитка, чтобы девочке не было уже надобности перелезать забор.
Однажды, выйдя этак с Илюшей в калитку к речке, Зоенька заметила вдали какого-то калеку на костылях, с котомкой за плечами.
– Смотри-ка, Илюша, – обратила она внимание брата, – ведь это точно наш Кирюшка!
– И вправду ведь он, да на костылях! – воскликнул Илюша и поспешил навстречу своему товарищу детства. – Помилуй Бог, Кирюшка! Что это с тобою сталося?
– Обновкой обзавелся, – с горечью усмехнулся тот. – Заместо двух ног на трех ковыляю; куда способнее. Из-под самого Симбирска этак сюда дополз. А у меня ведь оттоле для тебя подарочек.
И, сняв с плеч котомку, Кирюшка достал из нее какой-то плоский предмет, завернутый в тряпицу.
– Что это такое? – недоумевал Илюша, развертывая тряпицу. – Да это моя собственная записная тетрадка! Осталась она, помнится, в Астрахани, в доме воеводы Прозоровского. Как она в Симбирск-то попала?
– А выслали ее к тамошнему воеводе Милославскому из Астрахани с другими твоими пожитками, чтобы тот отправил их далее сюда, в Талычевку. Ну, а на ту пору случись как раз у Милославского братец твой Юрий…
– И ты сам его там опять видел?
– Видеть-то видел…
– Да что с ним? Договаривай.
– Договаривать-то нечего…
– Но он жив?
Кирюшка глубоко вздохнул и покачал отрицательно головой.
– Он умер, умер, умер! – вскричала Зоенька, и слезы брызнули из глаз.
Сам Илюша готов был также заплакать. Но ради сестрицы он пересилил себя и стал ее успокаивать.
– И давно он умер? – спросила, все еще всхлипывая, Зоенька.
– Еще в летошнем году, – отвечал Кирюшка, – на Петровках.
– А отчего?
– Да не то от раны, не то с тоски-кручины.
– Ты уж лучше бы толком рассказал, как все было, – заметил со своей стороны Илюша.
И принялся Кирюшка рассказывать, хотя и не то, чтобы с большим «толком». Состоял сам он, Кирюшка, «якобы стремянным» при Осипе Шмеле; с Юрием же «встрелся» совсем нежданно-негаданно под Симбирском в разгаре схватки разинцев с царскими стрельцами. Попав меж двух огней – симбирского гарнизона и вновь прибывшего из Казани вспомогательного войска князя Борятинского, казаки замешались, побежали. Дольше других держалась сотня Шмеля, хотя от нее не осталось уже и половины. Как вдруг бежит молодой стрелецкий сотник, кричит во всю голову: «Стой, Шмель! Сдавайся!»
– Это был Юрий! – догадался Илюша.
– Да, он. Шмель, знамо, не сдался, и завязалась у них рукопашная. Зазевался я на них, как вдруг меня пулей – казацкой али стрелецкой, сам не знаю – ровно молотком в колено. Заорал я на всю Ивановскую, покатился кубарем…
– А Юрий что же?
– Изловчился он в рукопашной всадить Шмелю кинжал в бок, упал Шмель на спину – да и дух вон. А тут наскочил и на самого Юрия сзади другой казак, рубанул его по башке, и упал он замертво.
– И тут же скончался?
– Нет, товарищи-стрельцы его подняли, отнесли в город. Ну, а я ползком туда же. «Так и так, – говорю, – крепостной я человек этого самого стрелецкого сотника; к казакам попал не доброй волей, забрали они меня силком…»
– И тебе поверили?
– Отчего ж не поверить? Спросили Юрия, а он подтвердил. Ну, мне лекаря отхватили полноги, дали за нее эти вот две деревянные.
– А Юрий так и не выжил?
– Может, и выжил бы, да все, вишь, сокрушался, что убил Шмеля: и во сне-то ему, и наяву мерещился. «Все же, – говорит, – как-никак человек. Хотел его живьем взять, а сгоряча убил. Не пережить мне этого, – говорит, – не пережить! Как схоронишь ты меня, Кирюшка, так воротись, – говорит, – в Талычевку, скажи батюшке, не поминал бы меня лихом». Стал он тут хиреть-хиреть, да и отдал Богу душу…
Происходил этот разговор с Кирюшкой, как уже сказано, за бревенчатым забором, окружавшим талычевскую усадьбу, у калитки, выходившей из сада к речке. При последних словах Кирюшки из-за забора послышались глухой стон и падение человеческого тела. Илюша толкнул калитку – и ахнул: на земле лежал его старик-отец с закатившимися глазами, с посинелым лицом. Сразила его, очевидно, внезапная весть о кончине любимца-сына.
– Беги за Богданом Карлычем! – крикнул Илюша Зоеньке, а сам бросился к лодке, чтобы зачерпнуть в черпак воды.
Кирюшка тем временем расстегнул на груди боярина кафтан и камзол. Но все старания обоих привести его в чувство были уже тщетны. Поспешивший по зову Зоеньки домашний лекарь точно так же не мог заставить опять биться остановившееся сердце.
– Третий удар, – объявил он. – Все кончено…
И рассказ наш окончен. Дальнейшая судьба оставшихся еще в живых двух младших членов семьи опального боярина не представляет романического интереса. Хотя опала с покойного отца их и была снята, но в Москву их самих уже не тянуло. Только на старости лет Зоенька, или, вернее сказать, Зоя Ильинишна, уважаемая во всей округе вдова-боярыня, по настоянию своих внучат побывала в Белокаменной проездом в основанную царем Петром Алексеевичем на берегах Невы новую столицу Санкт-Петербург.
Брат ее, Илья Ильич, женившись еще в молодые годы, прожил затем безвыездно до глубокой старости в родовой своей Талычевке, заслужив также всеобщее уважение и любовь соседей за свое образцовое сельское хозяйство и широкое гостеприимство. Не одобрялось людьми старого закала только его чересчур, по их мнению, мягкое обхождение с «подлым народом», в котором он видел чуть ли не равных себе «ближних». С Ильей Ильичем угас старинный род Талычевых-Буйносовых, так как хотя он и был счастливым отцом многочисленных дочерей, но сына ни одного не имел. Память же об нем перешла в потомство по женской линии, благодаря особенно его путевому дневнику, с выдержками из которого мы уже познакомили читателей в одной из предыдущих глав.
1905