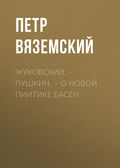Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 1
Излишне и дерзновенно было бы хотеть мне руководствовать тебя моими советами. Семена Арзамасских правил давно таились в душе твоей, и уже некоторые из противников Арзамаса подавились ранними плодами, взращенными от них усердием твоим, угадавшим, что некогда перенесутся они на почву благословенную, на землю обетованную. Судьба, отворившая тебе двери святилища после всех и, и так сказать, замыкающая тобою торжественный ряд Арзамасских Гусей, хотела оправдать знаменитое предсказание, что некогда первые будут последними, а последние первыми. Сердце мое и рассудок удостоверяют меня в справедливости моей догадки. Так! Ты будешь Староста Арзамаса. Благодарность и осторожность вручат тебе патриархальный посох. Арзамасский Гусь приосенит чело твое покровительствующим крылом и охранит его от коварного крыла времени – сего алчного ястреба, «скалящего зубы»[19] на все, что носит на себе печать дарования вкуса и красоты. Но если пророчество мое одна мечта, то по крайней мере современники мои и потомство скажут о нем вздохнувши: Жаль, что не исполнился сон доброго человека.
Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие Арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание, но я не почитаю себя умершим. Напротив того, я воскрес: ибо нахожусь посреди вас; я воскрес, ибо навсегда оставляю мертвых умом и чувствами. Не мертв ли духом и умом тот, который почитает Омира и Виргилия скотами, который не позволяет переводить Тасса и в публичном, так называемом ученом, собрании ругает Горация? Не мертв ли чувствами и тот, который прекрасные баллады почитает творением уродливым, а сам пишет уродливые оды и не понимает того, что ему предстоят не рукоплескания, но свистки и Мидасовы уши.
Ныне, говоря об ушах Мидасовых, долгом почитаю обратиться к пресловутой Петербургской Беседе. О сколько тут длинных ушей находится! Сколько мы в ней встречаем старых, юных, сухих, чреватых, бледных и румяных Мидасов! Беседа Петербургская ни в чем, конечно, Московской не уступает, но, по моему мнению, во всем ее превосходит.
К сожалению моему, я исполню сердца любезных Арзамасцев чувствительной горестью. А возвещу вам кончину юноши, в детстве ума и детстве телесном пребывающего, юноши достойнейшего, питомца великого патриарха Халдеев, утверждающего, что тротуары должны называться пешниками, а жареный гусь печениной; юноши, которому кортик[20] не препятствовал держать в руке перо на бесславие литературы, но во славу досточестной Беседы.
Тщетно я силюсь, чувством гнетомый (позвольте мне употребить собственные слова умершего), тщетно я силюсь изобразить все происходящее в Беседе. Она лишается наилучших усастых сочленов своих.
Тучей над ними гибель висит.
Туча обрушась варваров губит,
Губит их глупость, губит бесстыдство,
Губит их уши, губит язык.
Тысяща поприщ телами полны,
Множеству теней тесен стал ад.
Так точно! Они валятся, как мухи от мухоморов, и мы здесь, в почтеннейшем нашем собрании, отпеваем их, превозносим и удивляемся их дарованиям. Например, как не дивиться творцу лирического песнопения! Сотворить поэму, в которой находится неисчислимое множество строф, и нет поэмы; отказаться навсегда от Аполлона и Муз, и несмотря на то заниматься поэзией? Не ему ли одному сие предстояло? Не он ли воспел, как от грозного взора патриарха Халдейского Гальское слово умирает на устах каждого. Не ему ли надлежало на такой предмет сочинить оду? Изящный талант превозмогал все трудности, и вместе с талантом возрастали и уши лирикопеснопевца. Нет более невинного умом и телом. Он лежит бездыханным.
Обратимся, слушатели, к плачевному сему зрелищу. Следуйте за мной в мрачную храмину, обитую академическими сочинениями! Горящие свещи, обернутые в Письма Схимника, освещают воздвигнутый усопшему катафалк. Рассуждение о старом и новом слоге служит ему возглавием, рассуждение об одах в деснице его, Бдения Тассовы, похвальные слова и переводы Андромахи, Ифигении, Гамлета и Китайской Сироты лежат у подножия гроба. Патриарх Халдеев изрыгает корни слов в ужасной горести своей. Он, уныло преклонив седо-желтую главу свою, машет над лежащими в гробе Известиями Академическими и кадит в него прибавлением к прибавлениям. Он не чувствует, что тем лишь умножаются печаль, скука и угрюмость друзей, хладный труп окружающих. Плодовитый творец бесчисленных и бессмысленных од, палач Депрео и Расина, стоит смиренно над гробом и, осыпая умершего грязью и табаком, бормочет стихи в похвалу его. Увы! Он еще сплел их до кончины несчастного, успел напечатать, ибо любит писать стихи и отдавать в печать, раздает их сотоварищам своим, и сотоварищи и едва знающий грамоте, беснуясь, топает ногами и стучит крючковатой тростью. Толсточреватый сочинитель «Липецких Вод» кропит ими в умершего и тщится согреть его овчинными шубами своими. Но все тщетно: он лежит бездыханен! Давно ли я дерзновенный воспевал невинного юношу, именуя его Варягороссом и кумом Славенофила? И се успе! Длинные уши его повисли, уста охладели, ноги протянулись. Стихотворения песнопевца, в которых столь мало глаголов и столь много пустоглаголения, останутся навсегда в подвалах Глазунова и Заикина, останутся на съедение стихожадным крысам, и даже сам патриарх Халдейский забудет о них!
О vanitas vanitatum omnia vanitas.
Почтеннейшие сограждане Арзамаса! Я не будут исчислять подвигов ваших. Они всем известны. Я скажу только, что каждый из вас приводит сочлена Беседы в содрогание, точно так, как каждый из них производит в собрании нашем смех и забаву. Да вечно сие продолжится! Что с нами будет, если не будет, если не будет Известий Академических! Что нам останется делать, если патриарх Халдейский перестанет безумствовать в разборе происхождения слов и принимать черное за белое? Куда сокроем мы, если толсточреватый комик догадается, что комедия его не что иное суть, как печать глупости, злобы и невежества? Какая нам будет польза в том, если неутомимый рифмоткач узнает наконец, что у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого рассудка в стихах его; не совершенная ли беда для нас будет, если Мидасы, оглянувшись друг на друга, приметят, что уши их еще длиннее похвальных слов, читаемых в пресловутой их Беседе? Да сохранит нас от того златовласый Феб и Музы. Пусть сычи вечно останутся сычами: мы вечно будем удивляться многоплодным их произведениям, вечно отпевать их, вечно забавляться их трагедиями, плакать и зевать от их комедий, любоваться нежностью их сатир и колкостью их мадригалов. Вот чего я желаю, и чего вы, любезнейшие товарищи, должны желать непрестанно для утешения и чести Арзамаса.
* * *
«Меня насильно обвенчали», – жаловался приятелю своему один муж, недовольный своим брачным положением.
«Да как же так? – возразил ему приятель, – ведь священник спрашивал же тебя: имаши ли благое и непринужденное произволение пояти себе в жену юже пред собою видеши?»
«Да, теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали, да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уже поздно: не воротишь! Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!»
* * *
А иногда и серебряные свадьбы развязываются. Карамзин рассказывал про одну знакомую ему чету. Были именины мужа; заботливая жена заготовила ему с полдюжины сюрпризов, разные подарки, обед на славу, пир на весь мир, вечером спектакль и бал; одним словом, торжество на целые сутки. Муж был не в духе и все это принял брюзгливо. Когда кончился день и гости разъехались, он пенял жене, что она сделала большие издержки, что все это одна суетность, и так далее, и так далее. На следующий год, в день совершившегося двадцатипятилетнего брачного счастья, жена, помня прошлогоднее головомытье, ничего не готовит для празднования этого дня. Она молчит, и муж молчит. День прошел ничем не отмеченный. Недовольный супруг пеняет жене своей за невнимание ее, за равнодушие, за холодность. Она сердито отвечает, что худо была прошлого года вознаграждена за все свои сердечные заботы и за желание угодить ему. Муж пуще сердится, разговор обращается в крупный спор, спор в ссору, ссора чуть ли не в драку. На другой день двадцатипятилетние супруги навсегда разъехались.
* * *
Умный, образованный граф Сергей Петрович Румянцев пенял Дмитриеву, что он излишне строг к графу Хвостову: «А воля ваша, Иван Иванович, – продолжал он: – Хвостов уже тем заслуживает уважение, что часто для своих песнопений избирает предметы особенно высокие и важные». В этом случае граф Румянцев сбивается немножко на немца.
* * *
Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя, после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта. Пушкин, обратно, нередко бывал строг и несправедлив к поэту, но всегда увлекался остроумной и любезной речью его.
* * *
Некто, очень светский, был по службе своей близок к министру далеко не светскому. Вследствие положения своего, обязан он был являться иногда на обеды и вечеринки его. «Что же он там делает?» – спрашивают Ф. И. Тютчева. «Ведет себя очень прилично, – отвечает он. – Как маркиз-помещик в старых французских оперетках, когда случается попасть ему на деревенский праздник, он ко всем благоприветлив, каждому скажет любезное, ласковое слово, а там, при первом удобном случае, сделает пируэт и исчезает».
* * *
Неправильная расстановка букв е и c еще небольшая беда: по крайней мере мы успели уже к ней привыкнуть частыми примерами. Я видел собственноручное писание одного литератора: он благодарит кого-то за лcсные выражения письма его (лестные). Одно правительственное лицо писало всегда своей рукою черновые проекты по делам особенной важности. Этот грамотей, для облегчения себя, совершенно выкинул из русской азбуки неугомонное c и употреблял везде одно е. В конце бумаги выставлял он с дюжинуcи, отдавая бумагу для переписывания, говорил чиновнику: «Распоряжайтесь ими, как знаете».
Но вот что может быть названо пес plus ultra [крайностью] пренебрежения к правописанию. Мне также случилось иметь в руках письмо нежного родителя: в нем извещает он родственника, что Бох даровал ему дочку. Подобное самоуправство подлежит не только уголовному ведению грамматики, но едва ли и не наложению эпитимии духовником.
* * *
В каком-то уезде врач занимался, между прочим, и переводами романов. Земляк его по уезду написал по этому поводу:
Уездный врач, Пахом, в часы свободы
От должности убийственной своей,
С недавних пор пустился в переводы.
Дивлюсь, Пахом, упорности твоей:
Иль мало перевел в уезде ты людей?
* * *
Вот едва ли не лучшее определение просвещения, слышанное мною от крепостного крестьянина, впрочем, уже бурмистра в селе своем и занимавшегося довольно обширной хлебной торговлей.
В один из приездов моих в деревню был я приглашен им вечером на чай. Чай, разумеется, с нижегородской ярмарки, и очень хороший. В продолжение разговора обратился он ко мне со следующими словами: «А позвольте доложить вам: батюшка ваш был к нам очень благоволителен, но вы, кажется, еще благоволительнее; ведь это, я думаю, должно отнести к успехам просвещения».
Я прогостил недели две в его доме. На прощание спросил я, какой гостинец прислать ему из Москвы за постой. «Если милость ваша будет, – отвечал он, – пришлите мне «Историю России», написанную г-ном Карамзиным».
Это все происходило в начале двадцатых годов. Вот, стало быть, не все же было черство и дикообразно в сношениях помещика и крепостного. Были проблески и светлые, и отрадные. Зачем о них умалчивать?
* * *
Есть на языке нашем оборот речи совершенно нигилистический, хотя находившийся в употреблении еще до изобретения нигилизма и употребляемый доныне вовсе не нигилизмом.
«Какова погода сегодня?» – «Ничего».
«Как нравится вам эта книга?» – «Ничего».
«Красива ли женщина, о которой вы говорите?» – «Ничего».
«Довольны ли вы своим губернатором?» – «Ничего».
И так далее. В этом обороте есть какая-то русская, лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то совершенно русское себе на уме.
* * *
N.N. говорит о немцах: в числе их хороших качеств и свойств, которые могут почти вмениться в добродетель, есть и то, что они не знают или, по крайней мере не сознают скуки. Этот общий недуг, эта костоеда новейших поколений не заразила их.
В других местах скука доводит людей часто до совершения дурачества, а иногда и преступления: немца (говорим здесь вообще о среднем состоянии, о бюргершафте) если, паче чаяния, и дотронется скука, то он выпьет разве одну или две лишние кружки пива молча, с толком и с расстановкой; но вообще скука для немца (если уж быть скуке) не в тягость, не в томление; нет, она для него род священнодействия. Он скучает, как другие священнодействуют – с самозабвением, с благоговейной важностью. Так покорные и преданные племянники слушают, в Москве, у старой тетки, мефимоны и длинную всенощную. На то и пост, и племянники стоят у тетки, не давая замечать в себе ни усталости, ни нетерпения, ни ропота. В этом отношении у немцев вечный пост.
Посмотрите на них, когда соберутся они послушать Vorlesung какого-нибудь преподавателя, закаленного в учености и скуке. Скука, крупным потом, так и пробивается на лбу чтеца и слушателей; но ничего: никто не осмелится, никому не придется зевнуть, или охнуть, или уйти до окончания длинной рацеи. То же и со слушателями какой-нибудь глубоко ученой и головоломной симфонии. Разве два-три человека из слушателей способны понять в этих музыкальных и громких алгебраических задач, а прочим это тарабарская грамота. Но они и не пришли веселиться: дело в том, что музыка из важных; вот они и сошлись соборно посвященнодействовать.
* * *
Француз и в тяжелые и трудные дни живет припеваючи; немец и веселится надседаючись.
* * *
Вопрос. Что может быть глупее журнала такого-то?
Ответ. Подписчики на него.
* * *
N.N. говорил о ком-то: «Он удушливо глуп; глупость его так и хватает нас за горло».
В скуке, которую иные навевают на вас, есть точно что-то и физическое, и болезненно-наступательное.
* * *
Не помню в какой-то газете была забавная опечатка: вместо банкирская контора было напечатано – башкирская контора.
Недавно – вместо литературный – мануфактурный вечер.
* * *
В Казани, около 1815 или 1816 года, приезжий иностранный живописец печатно объявлял о себе: «Пишет портреты в постели и очень на себе похожие». (Разумеется, речь идет о пастельных красках).
А какова эта вывеска, которую можно было видеть в 1820-х годах в Москве, на Арбате или Поварской! Большими золочеными буквами красовалось: Гремислав, портной из Парижа.
«Почему не пишете вы Записок своих?» – спрашивали N.N. «А потому, – отвечал он, – что судьба издала в свет жизнь мою отрывками, на отдельных летучих листках. Жизнь моя не цельная переплетенная тетрадь, а потому и можно читать ее только урывками».
* * *
В приемной комнате одного министра (подобные комнаты могли бы часто, по французскому выражению, быть называемые sale des pas perdus – сколько утрачено и в них бесполезных шагов?) было много просителей, чающих движения воды и министерских милостей. Один из этих просителей особенно суетился, бегал к запертым дверям министерского кабинета, прислушивался, расспрашивал дежурного чиновника: скоро ли выйдет министр? Между тем часы шли своим порядком, и утро было на исходе, а наш проситель все волновался и кидался во все стороны. Кто-то из присутствующих вспомнил стихи Лермонтова и, переделывая их, сказал ему: «Отдохни немного, подождешь и ты».
* * *
На германских водах молодой француз ухаживает за пригоженькой русской барыней; казалось, и она не была совершенно равнодушна к заискиваниям его. Провинциальный муж ее не догадывался о том, что завязывалось перед его глазами. Приятель его был прозорливее: он часто уговаривал его, не теряя времени, уехать с женой в деревню и напоминал, что пришло уже время охотиться. Он прибавлял: «Пора, пора, рога трубят!»
* * *
Жуковский, в Певце во стане русских воинов, сказал между прочим:
И мчит грозу ударов,
Сквозь дым и огнь, по грудам тел,
В среду врагов, Кайсаров.
Батюшков говорил, что эти стихи можно объяснить только стихом из того же Певца во стане русских воинов:
Для дружбы – все что в мире есть.
Вот еще одно довольно удачное применение стиха старика Майкова из поэмы «Елисей». N.N. говорит, что если кому вздумалось бы собрать большую часть наших журнально-полемических статей, то он предлагает к услугам его и стих для эпиграфа:
Мараем и разим друг друга без пощады.
Только вернее было бы допустить маленькую варианту и сказать:
Мараем и клеймим друг друга без пощады.
В наших полемических схватках редко доходит до смертных случаев: потому что и дерутся обыкновенно уже заблаговременно убитые и мертвые. Двух смертей не бывать.
* * *
Глупый либерал непременно глупее глупого консерватора. Сей последний остается тем, при чем Бог создал его: его не трогай, и он никого и ничего не тронет. Другой заносчиво лезет на все и на всех. Один просто и безобидно глуп; другой из глупости делает глупости, не только предосудительные, но часто враждебные и преступные.
* * *
Русский немец, который любит щеголять русскими пословицами, говорит, между прочим: потливой корове Бог рог не дает.
* * *
N.N. говорит про дочь одного архитектора: elle est assez mal batie pour la fille d'un architecte (она довольно нестройна для дочери строителя).
* * *
В Риме были две статуи: одна древняя, Марфорио, другая новейшая Пасквино. Стояли они друг против друга. Долго служили они для разных вывесок и выходок сатирических. Статуя Марфорио задавала вопрос, на который другая отвечала остротой и пасквиладой. Лет сорок тому или более, Марфорио спрашивает соседа своего, что думает он о святейшем отце? Пасквино отвечает: padre si, ma sancto, no.
* * *
В игре секретарь задан был вопрос: что может быть неприятнее полученной пощечины? – Две, сказано в ответ.
* * *
«Жаль, что я не выпивши, а то дал бы оплеуху этому мерзавцу», – говорил один оскорбленный, но трезвый мудрец.
* * *
Жуковский припоминал стихи Мерзлякова из одной оперы итальянской, которую тот, для бенефиса какого-то актера, перевел в ранней молодости своей:
Пощечину испанцу Титу
Во всю ланиту!
Он, то есть Жуковский (на ловца и зверь бежит), подметил в опере Херубини следующий стих. Водовоз, во французской опере, спасает в бочке, во время парижских смут, несчастного, приговоренного к смерти и прикрывавшего себя плащом, и поет: Il est sauve, l'homme au manteau. В русском переводе, отличный и превосходный актер Злов должен был петь:
Спасен, спасен мой друг в плаще.
Этот стих долго был у нас поговоркой.
Странно, как подобные поговорки, прибаутки неприметно и невольно вкрадываются, а иногда вторгаются в речь. Часто сами по себе они не имеют никакого определенного смысла, но при частом употреблении кончают тем, что получают условное и обыкновенно забавное значение в применении к лицу или событию. В Париже беспрестанно бегают по улицам подобные выходки, клички. Москва также отличалась ими.
Например, в 1810-м и 1811-м годах можно было слышать в высшем московском обществе слова: сотте са брусника. Дело в том, что кто-то подслушал, как кучер, разговаривая на дворе с товарищами, сказал: комса брусника. И сам расхохотался он, и слушатели расхохотались. Подслушавший присвоил себе это выражение и перенес его шуткой в некоторые салоны; оно там принялось и разошлось. Вошло оно в употребление и по стихотворной части. Кто-то написал:
Пускай Сперанский образует,
Пускай на вкус Беседа плюет
И хлещет ум в бока хвостом:
Я не собьюся с панталыка!
Нет, мое цело только пить,
И на них глядя говорить:
Comme са брусника!
С этим припевом написано было несколько куплетов. Вьельгорский положил их на музыку, и они весело и шумно распевались на приятельских ужинах.
* * *
Забавный чудак, служивший когда-то при Московской театральной дирекции, был, между прочим, как и следует русскому человеку, а тем паче русскому чиновнику, охвачен повальной болезнью чинолюбия и крестолюбия. Он беспрестанно говорил и писал кому следует: «Я не прошу кавалерии через плечо, или на шею, а только маленького анкураже (encourage) в петличку». Пушкин подхватил это слово и применил его к любовным похождениям в тех случаях, когда в обращении не капитал любви, а мелкая монета ее: то есть, с одной стороны, ухаживание, а с другой – снисходительное и ободрительное кокетство. Таким образом, в известном кругу и слово анкураже пользовалось некоторое время правом гражданства в московской речи.
А вот еще жемчужина, отысканная Жуковским, который с удивительным чутьем нападал на след всякой печатной глупости. В романе «Вертер» есть милая сцена: молодежь забавляется, пляшет, играет в фанты, и между прочими фантами раздаются легкие пощечины, и Вертер замечает с удовольствием, что Шарлотта ударила его крепче, нежели других. Между тем на небе и в воздухе гремит ужасная гроза. Все немножко перепугались. Под впечатлением грозы Шарлотта с Вертером подходят к окну. Еще слышатся вдали перекаты грома. Испарения земли, после дождя, благоуханны и упоительны. Шарлотта, со слезами на глазах, смотрит на небо и на меня, говорит Вертер, и восклицает: Клопшток! – так говорит Гёте, намекая на одну оду германского поэта.
Но в старом русском переводе романа Клопшток превращается в следующее: «Пойдем играть в короли» (старая игра). Что же это может значить? Какой тут смысл? – спрашиваете вы. Послушайте Жуковского. Он вам все разъяснит, а именно: переводчик никогда не слыхал о Клопштоке и принимает это слово за опечатку. В начале было говорено о разных играх: Шарлотта, вероятно, предлагает новую игру. Клапштос – выражение, известное в игре на биллиарде: переводчик заключает, что Шарлотта вызывает Вертера сыграть партийку на биллиарде. Но по понятиям благовоспитанного переводчика такая игра не подобает порядочной даме. Вот изо всего этого и вышло: пойдем играть в короли.
Жуковский очень радовался своему комментарию и гордился им.
* * *
Мы, кажется, упоминали уже о Павле Николаевиче Каверине, умном, веселом и неистощимом говоруне. Он сам сознавался в словоохотливости своей. Вот что я слышал от него. Однажды заехал он к старику, больному и умирающему Офросимову, мужу известной в московских летописях Настасьи Дмитриевны. Желая развлечь больного, да и себя потешить, он целый битый час не умолкал. Наконец простился и вышел. В передней догоняет его слуга и говорит ему: «Барин приказал спросить вас, не угодно ли вам будет взять кого-нибудь к себе в карету, чтобы было вам с кем поговорить?»
Сын его, Петр Павлович, бывший гетингенский студент и гусирский офицер, в том и другом звании известен был проказами своими и скифской жаждою. Но был он в свое время известен и благородством характера, и любезным обхождением. Он был любим и уважаем сослуживцами своими: между прочими – Хомутовым, впоследствии казацким атаманом. Русская литература не должна забывать, что Каверин был товарищем и застольником Евгения Онегина, который с ним заливал шампанским горячий жир котлет.
В начале нынешнего столетия еще заметно было в обществе нашем, а особенно в военной молодежи, некоторое разгульное удальство. Англичане говорят: время деньги. Русские говорили: жизнь копейка. Историко-политические перевороты, перевороты довольно часто повторявшиеся и легко удававшиеся, оставили в умах следы отваги и какого-то почти своевольного казачества в понятиях и нравах. Разумеется, таково было не общее настроение; но привычки произвола не повсюду и неохотно подчинялись условиям и законам нового порядка.
С первыми годами царствования императора Александра I волнение умов начало улегаться. Небо очищалось и прояснялось, но старые дрожжи еще кое-где бродили. Политических Орловых на сцене уже не было; но Орловское молодечество, хотя уже отрекшееся от кулачных боев, еще проглядывало в нравах и обычаях. Проказы гвардейских офицеров в Новой Деревне и в других окрестностях столицы пугали дам, проезжавших по этим местностям. Много забавных, но немного скабрезных случаев и встреч бывало в то время. Лучшие по рождению и по положению своему в полку и в обществе офицеры отличались подобными похождениями. Время шло, молодость перебесилась, и многие из этих шалунов сделались не только порядочными, но некоторые и полезными людьми на поприще гражданской и государственной деятельности. А все-таки благочиние целомудренной печати не позволяет, и по миновании многих десятилетних давностей, представить читателю, а тем паче читательнице, некоторые из этих проказ во всей их естественной и буквальной наготе. Выберем из этой эпохи другой пример, более удобный для рассказа, но все же подкрепляющий вышеприведенные соображения наши.
В 1808 или 1809 году часть блестящей московской молодежи, сливки тогдашнего отборного общества, собралась на обед пикником в Царицыно. В ожидании обеда гуляли по саду. В числе прочих был Новосильцев (Сергей Сергеевич). Он имел при себе ружье. Пролетела птица. Новосильцев готовился выстрелить в нее. Князь Федор Федорович Гагарин (оба были военные) остановил его и говорит ему: «Что за важность стрелять в птицу! Попробуй выстрелить в человека». – «Охотно, – отвечает тот, – хоть в тебя». – «Изволь, я готов. Стреляй!» И Гагарин становится в позицию. Новосильцев целит, но ружье осеклось. Валуев, Александр Петрович, кидается, вырывает ружье из рук Новосильцева, стреляет из ружья, и выстрел раздался. Можно представить себе смущение и ужас зрителей этой сцены. Они думали сначала, что все это шутка, и мало обращали на нее внимание.
Но есть еще продолжение этой сцене. Гагарин говорит Новосильцеву: «Ты в меня целил: это хорошо. Но теперь будем целить друг в друга; увидим, кто в кого попадет. Вызываю тебя на поединок». Разумеется, Новосильцев не отнекивается. Но тут приятели вмешались в наездничество двух отчаянных сорванцов и насилу могли прекратить дело миролюбивым образом. Сели за стол, весело пообедали, и вся честная компания возвратилась в город благополучно и в полном составе. Бойцы, готовившиеся совершить убийство друг над другом, остались по-прежнему добрыми товарищами, как будто ни в чем не бывало.
Рассказ, приведенный нами, разумеется, случай частный и отдельный, но и в нем можно подметить дух и знамение времени.
* * *
Спрашивали ребенка: «Зачем ты солгал? Тебе никакой не было выгоды лгать». – «Боялся, что не поверят мне, если правду скажу».
* * *
Когда бываю в русском театре (этому давно), припоминаю отзыв одного слуги. Барин, узнав, что он никогда не видал спектакля, отпустил его в театр. Любопытствуя проведать, какие вынес он впечатления, барин спросил его на другой день:
– Ну, как понравился тебе театр?
– Очень понравился, – отвечал слуга.
– А что именно и более понравилось?
– Да все: тепло, светло, люстра пребогатейшая, так и горит, народу много, ложи наполнены знатными господами и барынями, музыка играет. Праздник, да и только.
– Ну, а далее, как понравились тебе комедия и актеры?
– Да, признаться, когда занавес подняли и начали актеры разговаривать между собою про дела свои, я и слушать их не стал.
Этот простосердечный слуга едва ли не вернейший и лучший критик нашей драматургии.
* * *
Издатель журнала должен был Баратынскому довольно крупную сумму. Из деревни писал он должнику своему несколько раз о высылке денег. Тот оставлял все письма без ответа. Наконец Баратынский написал ему такое, что могло назваться ножом к горлу.
Журналист пишет ему: «Как вам не совестно сердиться за молчание мое? Вы сами литератор и знаете, что мы народ беспечный и на переписку ленивый». – «Да я вовсе и не хлопочу, – отвечает Баратынский, – о приятности переписки с вами; держите письма свои при себе: они мне не нужны, а нужны деньги, и прошу и требую их немедленно».
* * *
Кто-то спрашивает должника: «Когда же заплатите вы мне свой долг?» – «Я и не знал, что вы так любопытны», – отвечает тот.
* * *
Чиновник Р. славился в канцелярии министерства красивым почерком и надписыванием особенно важных письменных пакетов. N.N. говорил, что следовало бы предложить его в Парижскую академию des inscriptions et belles lettres.
* * *
Спрашивали паломника, недавно возвратившегося из Палестины, как доволен он путешествием своим?
«Очень доволен, – отвечал он, – но неприятно, что вообще на Востоке нет порядочных сливок, а особенно в Иерусалиме. После многих поисков и трудов, нашел я наконец кое-какие сливки на Английском подворье; да и те, от дневного жара и от неимения льда, совершенно скисались к вечернему чаю. Такое лишение в насущной потребности имеет большое влияние на общее настроение духа. Зато нельзя не отдать справедливости Вифлеему и голубям его. Они необычайно вкусны. А что всего удивительнее, очень порядочно изготовляют их на монастырских кухнях. Вообще, я очень рад, что сподобился посетить святые места».
* * *
Между тем другой паломник – а может быть, и тот же – стоял однажды в Вифлееме на плоской кровле монастырского дома и любовался великолепною месячного ночью, ночью, поистине, восточной. Месяц и звезды были невыразимо светлы, небо и воздух синевы необычайной. Все кругом было тихо до святости, до благоговения. В воздухе и в уме мелькали и слышались одни таинственные голоса неумолкаемых преданий.
Паломник представлял себе, что, может быть, на том же месте, где он стоит, стоял за 1850 лет тому и любовался так же подобной ночью современник, почти зритель события, которое озарило благодатным сиянием одну из страниц летописи мира и человечества. Паломник говорил себе, что стоит при скромном роднике, из которого разлились потоки света и любви на грядущие поколения, потоки, преобразившие судьбы Мира, еще доныне не иссякшие и благотворно разливающиеся. Посетителю этих мест не нужно особенной набожности, особенного верующего настроения, чтобы увлекательно, почти бессознательно, подчинить себя всемогуществу преданию, которые здесь струятся в воздухе и всего тебя обхватывают, как этот тихий, теплый и глубоко проникающий воздух. Даже неверующий в чудеса должен сознаться, что эта земля, сокровищница и прорицательница чудесных преданий.
Здесь вековые события не сменяются, не стираются с лица земли и с истории новыми событиями мимотекущего дня; здесь, как по глаголу Иисуса Навина, солнце остановилось в течении своем, но солнце не единого дня, а столетий. Здесь читаешь Евангелие с тем же любопытством и вниманием, как в других странах читаешь местный дневник текущих происшествий и новостей. Все возбуждает любознательность и отражается в душе свежим, глубоким впечатлением. Все здесь отзывается древностью, и вместе с тем все постоянно, все вековечно и ново.