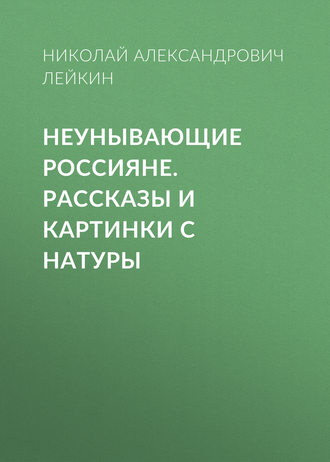
Николай Лейкин
Неунывающие россияне
VI. Крестовский остров
Крестовский остров – это облагороженная Новая Деревня, воспроизвед`нная в малом масштабе. Коренному жителю Крестовского острова Новая Деревня уже не покажется адом. Для него она будет только чистилищем. Как в Новой Деревне на первой линии, так и здесь по линии дач, идущих от Русского трактира, ночи не существует. Движение совершается круглые сутки. Впрочем, заглянем.
Час ночи. О том, что теперь именно час ночи, вам, не ошибаясь, скажет и малый ребенок, ежели он коренной житель Крестовского. На это есть свои признаки: к этому времени кончается представление в театре Крестовского сада, и начинают разъезжаться французские актрисы.
– Ого, вон французинок в Самарканд кормить повезли, значит – уж первый час, – подтвердит вам и любой извозчик, ожидающий седока.
Здесь опытному дачнику и часов не надо заводить. Время узнаётся по признакам. Часы – это Крестовский сад. Заиграла музыка военная – ну, значит, семь часов вечера; заиграла музыка бальная – восемь. Пошел акробат по большому, туго натянутому канату – значит, девять часов, началась пальба при взятии турецкой крепости – десять и т. д.
Итак, первый час ночи. По набережной, около дач так и шмыгает народ. Пыхтят папиросы красными светящими точками. От проходящих отдает винным запахом. В некоторых палисадниках мелькают уже распашные белые капоты милых полудевиц, вернувшихся с торжища из Крестовского сада. Правда, оне не просят портретик «Михаила Федоровича» на память, не возглашают: «милости прошу к нашему шалашу», останавливая прохожих, но ловко стреляют подведенными глазками и делают самую вызывающую улыбку. Калитка в садик всегда полуотворена. Изредка попросят они у проходящого мужчины огня, чтоб закурить папироску, и вы можете услышать при этом возглас: «холодного или горячего»? Как в Новой Деревне, так и здесь ругань стоит в воздухе. Извозчики задевают прохожих. Из Крестовского сада доносятся звуки оркестра; на дворах бренчит балалайка, играет гармония. Кто-то напевает пресловутую «Барыню», кто-то выбивает на деревянном помосте мелкую дробь восьмифунтовыми сапогами. Где-то пьяными голосами напевают «Vaterland», где-то гнусят «Сторона ль моя, сторонка»; раздаётся из дачи сиповатый женский голосок, нараспев декламирующий: «я стираю, тру, да тру». Звонит колокол «конно-лошадиной» дороги, параход дает свистки, тщетно ожидая пассажиров, предпочитающих «конку». Визг, писк. Партия стрекачей, сдернув с кого-то башмак, торжественно несёт его, вздев на палку. Городовой навострил глаза, взялся за шашку и хочет ринуться, «чуя нарушение общественной тишины и спокойствия», но, боясь превратить это нарушение в «оскорбление словом и действием», машет рукой и остаётся на своем посту. Мелькают яхт-клубские фуражки дачников, возвращающихся из клуба. Вот идет один; поступь не твердая. Городовой, внимание коего было обращено «на нарушителей общественной»… и т. д., берёт под козырек, приняв яхт-клубиста, по ошибке, за офицера и сейчас-же плюет ему вслед.
– Что, ошибся? – вопрошает его дворник, сидящий за воротами.
– Мудрено ли в этой суматохе ошибиться. Вишь, черти полосатые, нацепили этого позументу! Сертук туда-же флотский. Анафема проклятая! Да тут сгоряча-то хоть борзой пес пробеги в ихней фуражке, так и тому честь отдашь, – отвечает городовой. Лешие окаянные, дерева стоеросовые! Чтоб им здохнуть! – ругается он вслед, хотя яхт-клубисты уже далеко, далеко.
– Отчего ты не исполняешь своих обязанностей? Отчего честь не отдаешь? – раздается над его ухом резкий голос, и перед ним стоит настоящий офицер с дамой под руку.
– Виноват, ваше благородие! – вытягивается в струнку городовой.
– То-то виноват!
Офицер и дама отходят. Городовой смотрит в след.
– Вот подкрался-то! – шепчет он и разводит руками. – Где тут углядеть! О Господи! Вот она, служба-то наша, Парамон Захарыч, – обращается он к дворнику.
– Кислота! – вздыхает дворник и чешет спину. – Да ты посмотри, настоящий ли офицер-то?
– Настоящий.
– Да ты посмотри. Может так куражится. Мало-ли нониче…
– Ну его! Подальше лучше. Ещё зазвизданет чего доброго. Запали-ко, Захарыч, трубочку, а я пососу. Оказия тоже здесь, беспокойство, – продолжает городовой. – Веришь, ни одной ночи доспать не могу. То ли дело, как стоял я Выборгской части во Флюговом переулке. Завалишься бывало в траву и до утра. Ей-Богу. А здесь с девяти часов «караул» кричат. Даве пошел в портерную драку разнимать, вдруг, на линии крик. Бросил драку, бегу – дачник из сто семнадцатого кричит. Выбежал на балкон в одной рубашке и орет: бомбардировки испугался. Там в саду у Кусова Ардаган брали и пальбу начали. Подхожу к нему, дрожит… «Неужто, говорит, уж подошли они к нам?» А у самого глаза дикие, предикие. Кто, говорю, подошли-то? «Да англичане». Взятие Ардагана за англичан принял. Ну, успокоил его. Так, ведь не верит. «Поди, говорит, и посмотри, не видать ли на взморье английского монитора; на то ты, говорит, и поставлен тут, чтоб обывателей охранять». Полноте, говорю, ваше степенство, уж кабы ежели подошел он к нам, то приказы по полиции были-бы, сейчас флаги на колоннах белые выставили-бы. Домашние загоняют его в дачу, а он нейдет. «И мин, говорит, около нашего дома не взрывали?». – Нет, говорю, не взрывали. «А торпеды?» – И торпед говорю, нет. «А зачем, говорит, на соседней даче миноносный шест выставили?». – Это, говорю, не шест, а скворечница? Ну, стал его срамить за беспокойное одеяние, потому снизу у него как есть ничего. Послушался. Заглянул под скамейки в саду; всё думает, нет ли кого и там, и ушел.
– Загнали значит? – спрашивает дворник и передаёт городовому трубку носогрейку.
– Загнали.
– Хорош тоже Аника воин! Пальбы комедианской испугался.
– И не говори! Вот-бы такого под турку пустить!
Городовой, кряхтя и охая, опускается на скамейку.
Вот пожилой дачник выходит в палисадник и начинает запирать замком калитку.
– Ох, – стонет он. – Ну, нечего сказать, выехал на дачку! И дёрнула меня нелегкая около этого сада нанять! Омут, чистый омут! Да здесь, от одного беспокойства сдохнешь за лето чахоткой. Говорят, вода здесь хороша, а купанье восстановляет силы, да чёрт ли в ней, в воде-то, коли ты все ночи напролет не спишь. Какая от этого польза? Вот теперь для очищения совести запираемся на замок, а зачем, спрашивается? Кто захочет, тот и через забор махнет.
Не довольствуясь запором, дачник припирает калитку колом, наваливает на кол камень и уже хочет уходить, но перед ним останавливается мужчина в соломенной шляпе.
– Позвольте вас спросить: из ворот надо входить, чтобы попасть в эту дачу? – таинственно спрашивает он.
– Ни из ворот, ни откуда нельзя незнакомым лицам входить-с, – сердито отвечает дачник, потому что здесь живут семейные люди, и вы жестоко ошибаетесь в вашем предположении…
– Знаю-с, но я знакомый, я свой, я не донесу. Ну, чего вы боитесь? Ведь в чётные числа происходят здесь сборища… Видите, мне всё известно. Вы меня, может быть, за переодетого полицейского считаете?
– Идите, сударь, своей дорогой! Срамились-бы… А ещё почтенный человек, волосы седые…
– Да полноте шутить, оставьте! Меня и Эльпидифор Экзакустодианыч Христопродаки очень хорошо знают. Я на наличные… Я бы в Новую Деревню сунулся к табачнику Тройник, да там наверняка обчистят.
– Послушай, ежели ты не уйдешь, я за городовым пошлю! – горячится дачник.
– Ты не кричи, милый, а говори спокойно. Я очень хорошо знаю, что ты обязан остерегаться полиции, но я свой. Вот тебе целковый и проведи меня, покажи, где у вас играют. Мне ненадолго, мне только часик попонтировать. Вчера ещё в благородке полушубок вычистили…
– Тьфу, ты пропасть! – плюет дачник. – Да вы что ищете-то? Что вам надо?
– Игорный дом, – перевешиваясь через калитку и наклоняясь к его уху, шепчет незнакомец.
– Это не здесь-с, здесь нет игорных домов… Здесь благородное семейство.
– Тс! Что вы кричите!
– Здесь нет игорных домов, говорю вам, и я в своей даче всегда кричать могу! Здесь, сударь, проживает честное семейство надворного советника Трезубцова, только несчастным случаем попавшее в этот мерзкий омут, а посему извольте отправляться своей дорогой!
– Но послушайте, я и пароль ваш знаю, или, как он у вас называется, девиз, что ли?.. Книжник и актер. Теперь уже всё ясно. Пусти же. Я семпелями буду понтировать: ни угол, ни шесть куш мне не везут.
Дачник взбешён до невозможности.
– Послушай, не выводи меня из терпения! А то схвачу вот этот кол, и колом начну лупцевать тебя по шляпе. Ну!?
– Извините, когда так… – пожимает плечами соломенная шляпа.
– Чёрта ли мне из твоего извинения-то? Из него шубу не сошьёшь! Иди, иди с Богом! Ну, местечко, – всплескивает руками дачник и идёт к балкону.
– Что это ты так долго? – встречает его жена. Ведь ты знаешь, что тебе надо завтра в пять часов утра вставать и пить во́ды. К тому же и я должна в шесть часов быть уже в купальне.
– Какие тут, матушка, во́ды, коли что шаг сделаешь, то безспокойство! Вон сейчас какой-то скот лез к нам в сад, уверяя, что здесь игорный дом. Да ведь как настойчиво лез-то!
– Послушай, Миша, как-же мы будем делать с окном? Ведь ещё вчера какой-то проходящий пьяный разбил стекло осколком бутылки. Сегодня я целый день ждала, не пройдет- ли стекольщик, но…
– Ложись скорей спать, родная. Что стекло? Ну, как-нибудь подушкой его заткнём. Пойдем.
Дачник берет под руку жену, но в это время с улицы летит ему в лицо брюхо вареного рака.
– Ой, что это такое? – взвизгивает он. – Послушайте, мерзавец! Разве это можно?
– Ах, пардон! Извините, пожалуйста! Я невзначай. Сделайте милость, не будьте в претензии, – доносится с улицы.
– Фу, мерзость какая! Жёванный рак. И прямо в лицо. Нужно будет умыться. Еще четверть часа от сна долой… Ну, иди, милая. В комнату, где выбито стекло, мы горничную спать положим.
Дачник скрывается в домишке, и предварительно запершись, начинает умываться. Слышен всплеск воды, фырканье. Стенные часы бьют час.
– Четыре часа только спать остается, – говорит он, гася свечку, и, залезая под одеяло, начинает дремать.
В саду слышен шорох и говор: «не здесь». – Здесь, я тебе говорю, стучи; я очень хорошо знаю. «Как клюшницу-то звать?» – Каролина Карловна. Сеня, ты ведь по-немецки маракуешь, так стучись ты.
Раздается стук в окно. Дачник вздрагивает и кричит:
– Кто там?
– Это мы. Нам нужно видеть Берту. Не черненькую Берту, а белокурую! Каролина Карловна, bшtte! Um Gottes Wшиlen! Wшr sшnd nur dreш! Нас только трое! – раздается голос.
– Никакой здесь Берты нет! Ни черной, ни красной, ни зеленой! Вы не туда попали!
– Послушай, человек! Пусти! мы тебе дадим на чай! Ну, отвори. Мы только портеру выпьем.
Дачник вскакивает с постели.
– О, это чистое наказание! – скрежещет он зубами. – Послушайте, мерзавцы вы эдакие: ежели вы сейчас не отойдете, я стрелять буду. У меня револьвер о шести зарядах. Вон!
– Миша, Миша! Успокойся! Ведь тебе вредно тревожиться, – удерживает его жена. – Ах, Боже мой! Да никак ты босиком? Разве это можно? Сейчас насморк получишь.
– О матушка, не до насморка мне! Тут белая горячка с человеком сделаться может!
Говор в саду мало-помалу утихает. Слышны удаляющиеся шаги. Дачник лезет снова под одеяло и начинает засыпать. Часы бьют два. Тихо. В соседней комнате сопит и бредит горничная. Проходит полчаса. Вдруг сильный удар в ставни потрясает ветхиё стены дома.
– Эй, Машка, отворяй скорей! Первая гильдия приехала! – раздается за окном бас. – И чего вы черти полосатые, спозаранку запираетесь? Туда же и калитку приперли! Знаешь, что наше степенство через забор лазать не любит, а ты приневоливаешь! Ну! разнесу!
Второй удар. С потолка сыплется штукатурка, песок. Дачник опять вскакивает.
– Нет здесь Машки! – орет он. – Вон, дьяволы! Вон анафемы проклятые!
– Слышь, ты не горячись! Может она у вас за Амалию нынче ходит, так нам все едино – идет перекличка. – Отворяй миром! В накладе не будешь! Мы не турки! Расплачиваемся наличными! Купцы приехали, а не голь стрюцкая! Отворачивай, Митряй, ставню-то!
Ставни потрясаются. Скрипят петли. Дачник прибегает к ласке.
– Послушайте, почтенные! – вопит он. – Вы попали в семейный дом! Не доводите до скандала! Ну, что за радость, ежели я пошлю за полицией и составят протокол. Посадят; ей-ей, посадят.
Просьба действует. Бомбардировка умолкает. Слышна перебранка и возглас: «вот как хвачу по затылку!»
– Семейный человек, откликнитесь еще раз, – раздается уже сдержанный голос. – Где здесь эта самая Марья Богдановна проживает? Укажи, будь любезен, я те фуляровый платок на память пожертвую!
– Не знаю я, милые мои, не знаю. Я не здешний, я вчера только приехал. Идите с Богом!
– Ну, прощенья просим; спи спокойно! А что мы ставень оборвали, то приходи ко мне в железную лавку, – пуда гвоздей не пожалею. Да ну ее, эту Машку! Идем, ребята, в Немецкий клуб.
Дачник уже не стонет, а только скрежещет зубами от ярости и лезет на кровать. Его бьет лихорадка, голова горит, руки и ноги трясутся.
– Спи, Миша, скорей, сейчас три часа. В пять вставать. Торопись, голубчик.
– О, матушка, матушка! Какой тут сон! Я совсем болен! – вырывается у него из груди вопль.
В смежной комнате раздаётся пронзительный крик горничной. Дачник снова как горохом скатывается с постели и выбегает из спальни.
– Лезут, лезут! – кричит горничная, и, кутаясь в одеяло, жмется к стене.
В разбитое стекло видна стриженая голова татарина во фраке и с номером в петлице.
– С ресторан, господин, с татарска ресторан письмо. Ласкова барыня, Марта Карловна; за ней офицер коляска прислал! – отчеканивает гортанным голосом лакей.
– Катерина! Тащи сюда ухват, кочергу, метлу! Я голову размозжу этому свиному уху! – орёт во все горло дачник, хватает палку, замахивается и бьёт второе стекло в окне.
Звон. Татарин бежит. Дачник хватает со стола графин и кидает ему в след.
– Боже мой, Боже мой! И это дача, куда ездят успокоиться! – раздаются вопли мужа и жены.







