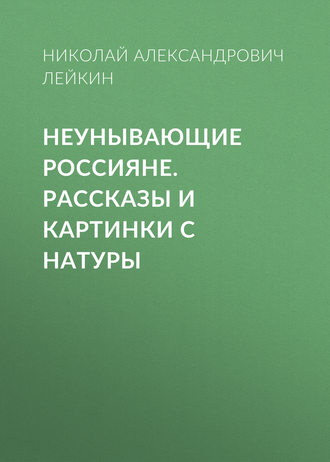
Николай Лейкин
Неунывающие россияне
VII. Волынкина Деревня
За Екатерингофом, на взморье, лежит Волынкина Деревня. О существовании этого дачного места знают очень немногие петербуржцы. Фланеры, утрамбовывающие дорожки увеселительных садов, топчущиеся на танцевальных вечерах летних помещений клубов, Лесного театра и Безбородкинского вокзала, сюда вовсе не заглядывают; ибо здесь нет даже и простого сада, не говоря уже об увеселительном, а танцы, ежели и происходят подчас, то только у кабака, под звуки гармонии и балалайки. Из дирижёров оркестра ни один Шульц не покусился ещё устроить здесь музыкально-танцевального вечера и заставить платить себе полтинники, ни один, даже самый неразборчивый актёр, не побрезговавший бы даже собачьей будкой для устройства спектаклей, не решился ещё покормить здешних дачников какими-нибудь «Париками», «Фофочкой» или «Мотей». А актеров среди дачников здесь изобилие, и разнообразными талантами их Бог не изобидел. Есть певцы, обладающие таким зычным голосом, что ежели крикнут на берегу взморья, то их будет слышно в Кронштадте. На сцене их, по некоторым причинам, избегают.
– Я, братец, раз так крикнул в «Пророке», что семь ламп по рампе погасло и в царской ложе на стенниках розетки лопнули, – разсказывал мне один оперный певец. – Одного вот пьянисимо нет у меня в голосе.
– Зато, в голове часто бывает пьянисимо, – заметил ему один купец, театральный прихвостень, обязанность которого состояла поить певца, давать ему деньги взаймы и позволять себя обыгрывать на биллиарде.
Певец нахмурил чело и сжал кулаки.
– Ты, Митрофан, не шути, коли я говорю серьезно! – отвечал он. – Знаешь, что я этого не люблю. Я у тебя в железных лавках в заклёпках не роюсь, не ройся и ты в моей лавочке.
Есть здесь и трагики, последние из могикан, трагики, которых когда-то в провинции на руках носили их почитатели, поили до белой горячки. В былое время они верили, что не пьющий трагик не мыслим. Они вели суровый образ жизни, никогда не улыбались, были мрачны, смеялись только «замогильным» хохотом, ели сырое мясо, и с полуштофом в руках ходили учить свои роли на могилы самоубийц, а где таковых нет, то просто на городские кладбища. Блистав когда-то в провинции, а ныне заручившись третьестепенными местами в казённой труппе, они не утратили еще своего молодечества. Есть и казенные актеры от «ногтей юности», выпущенные из театрального училища, как значится в их аттестатах, на роли злодеев и драбантов. Как трагики, так и драбанты отличаются необыкновенным молодечеством. Они, не задумываясь, подымут быка, взяв его руками под пах, свернут вензель из кочерги, перекрестятся двухпудовой гирей и вывернут с корнем фонарный столб. Есть здесь и балетные танцоры, возненавидевшие танцы, танцоры, удалённые из балета вследствие того, что они утратили элевацию, потеряли «стальной носок», и приобретя чугунную пятку, успели отдавить двум трем балеринам ноги. Есть здесь купцы, хороводящиеся с актерами и идущие по пути к разорению, купцы, которым остался один шаг – связаться с монахами, и после сего, уже в конце обнищавшими ехать на Валаам на покаяние. Есть здесь нотариусы, отставные ярморочные шулера, утратившие гибкость пальцев, музыканты, игравшие когда-то на тромбонах и контрабасах, заводчики, успевшие уже нажить себе состояние, и даже поп, охотник до рыбной ловли. Все это переселяется на лето в Волынкину Деревню, ради охоты, во всех её видах, начиная с домашней утки и кончая медведем. Дачники поголовно охотники. Поселение Волынкиной Деревни необширно: несколько домиков, кабак и кое-что вроде трактира с мелочной лавкой. Патриархальность нравов необычайная, доходящая до дикости. Дачники живут на бивуаках. Об украшении палисадников нет и помину. Вместо цветов, в куртинах расставлены собачьи чашки с овсянкой и водой, в которой плавает кусок серы, банки с червями для уженья рыбы, корзинки с пахучим стервом для ловли раков. Вместо штор окна занавешены штанами, жениными юбками. Убранство комнат состоит из удочек, неводов, арапника, собачьих цепей и смычек. На подоконниках – бутылки, банки с сапожной мазью, охотничьи фляжки, пузырки со средствами от комаров и блох, которыми они вместо духов смазывают и себя, и своих многочисленных собак. Посмотрим на их житьё-бытьё. Заглянем в их праздничный день.
Вот утро. В одном из палисадников бродит дачник и налаживает перепелины дудки, подбирая тоны. Он без шляпы и в одном нижнем белье. В соседнем палисаднике молодая дама вывешивает для просушки простыню, стараясь прикрепить её на подсолнухи.
– Марье Ивановне почтение! Слышали, как мы вчера торпеду взрывали на взморье? – кричит он. – Три старых сваи нужно было выворотить. Здравствуйте.
Дачник подходит к границе своих владений и протягивает руку через рубеж. Марья Ивановна делает то же самое, но тотчас же вскрикивает и отворачивается.
– Что с вами? – удивляется дачник. – Наткнулись на рожён, что ли?
– Нет, так… я не одета, – бормочет она, косясь на костюм соседа.
– Да и я не одет. Помилуйте, что за церемония на даче! Здесь у нас попросту. Я и сам в рубахе.
– Вот поэтому-то и неловко! Накиньте на себя что-нибудь.
– Да помилуйте, зачем же? Бельё на мне чистое. Ведь от красной рубахи вы-бы не отвернулись, а тут вдруг… Ну, хорошо, хорошо, я за куст встану. Мужнины пеленки развешиваете? – задает он вопрос.
– Да, сейчас только вернулся с купанья и как сноп растянулся. Ведь он натирается.
– Чем нынче натирался, дресвой?
– Нет, пока ещё всё песком трется. Сразу нельзя, можно всю кожу содрать. Потом на толченый кирпич перейдет, а с кирпича уж на дресву, да вот, что-то всё плохо помогает; спина у него…
– Пусть-бы он крапивой себя по пояснице стегать попробовал. Я таким манером двоих вылечил. Потом взять махорки, отварить её в кипятке, натолочь стекла…
– Полноте, уж и это-то лечение надоело. Ну, прощайте, пойду невод ему плесть.
– А видели новую собаку у Петра Семеныча? Вот так сука! Голос – что твоя Пати, – кричит дачник. – Куда-же вы, Марья Ивановна? постойте. У меня жена купаться ушла и ключи с собой унесла. Дайте мне стаканчик водки. Ужо этот долг полностию в вашего супруга волью. Закусывать не надо.
Соседка выносит соседу стаканчик и упрашивает того не выходить из-за куста. Сосед глотает и видит перед собой охотника, во всем вооружении остановившегося у калитки. Ружьё за плечами, высокие сапоги, ягдаш с двумя-тремя птицами и венгерка, вся в грязи. Сзади пес, выставивший язык.
– Купцу! – кричит дачник охотнику. – Где шлялся, купоросная твоя душа?
– Ох, и не говори, Вася! Пошли мы это трое: я, трагик и восмипудовой кожевник с нами, – отвечает охотник. – Туда забрели, что уму помраченье! Я тебе говорю, такие места, такие!.. Утка на мою долю досталась, две тетёрки, вальдшнеп. По горло в болоте увяз. Видишь, весь в грязи.
– Не хвастайся, Гришка, ты в луже нарочно валялся и потом сверху пылью себя посыпал. Голопятовы ребята тебя видели, – обрывает его дачник. – А то вдруг в болоте… ну, твоему-ли рылу?..
– Ей-Богу, в болоте увяз. Пошел своих искать и увяз. Где-же бы я утку-то?..
– И про утку врешь. Утка домашняя, а вальдшнепа с тетеёрками ты у Увара Калинова купил.
– С места не сойти, сам убил. Кроме того, двух зайцев видел. Вот ещё галку застрелил. Это огородники просили, им на огород пугало поставить.
– Про галку верю, а остальное ты купил, и купивши, вывалялся сам в грязи. Ну, не разыгрывай из себя охотника, не люблю! Какой ты охотник? Тебя и собака не слушается.
– Мне разыгрывать из себя нечего, я не актёр. Это вот тебе, так с руки, потому ты актер.
– Ты ещё остришь! – кричит на него актер. – Говорю, что валялся в грязи, и всем буду про это говорить. Пошел прочь!
– Валялся в грязи! Стану я валяться в грязи! Да, что я, свинья, что ли?
– Конечно, свинья. Подари мне твою собаку, а то всем и каждому буду рассказывать, как ты в луже валялся и пылью себя посыпал.
– Не могу, Вася. Собака эта такая, я тебе скажу, что просто чудо! Она у меня в городе сама у парадных дверей на лестнице в колольчик звонит. Схватится зубами за ручку и дёрнет; водку пьет. Она даже понимает, кто ко мне зачем ходит. Ежели кто придет деньги мне платить, на того молчит, а кто получать с меня, – так и лает, так и лает. Смотри, какие умные глаза.
– Конечно, умнее твоих. Не серди меня! Ну, подари собаку, иначе…
– Ей-Богу, не могу, Вася. Лучше я тот долг тебе сотру. Помнишь, сорок два рубля?
– То само собой. Да с чего ты взял, что я тебе буду отдавать деньги? Вот ещё!
– Ну, прощай, Вася. Тремоль, идём! – кричит охотник собаке. – Прощай, давай руку.
– Чёрт с тобой, я подлецам руки не даю, – отвечает актёр.
Купец уходит.
Актёр, оставшись один, начинает зевать. Дудки перепелиные надоели, собака выдресирована до того, что даже перестала слушаться, ружьё вымазано салом, водки нет, что делать? Спать? Но он час назад только встал.
– Напрасно я Гришку-то от себя прогнал. Можно-бы было в орла и решетку на рублишко ему бок начистить, бормочет он. Разве на взморье пройтись? – задает он себе вопрос. – Эх, брюки-то надевать лень. Ну, да я так, пальтишко накину.
Актер надевает пальто и шляпу и идет по улице. Тишина. Бродят нищие, останавливаясь у окон и прося подаяния. Где-то плачет ребенок. Двое мальчишек играют у забора в бабки. В одном из палисадников копошится священник, присев на корточки. Он в подряснике и с заплетеной косой.
– Духовенству ядовитое почтение с кисточкой! – возглашает актер и останавливается: Чем это вы, святыня, занимаетесь?
– А червей копаю. Ужо рыбу удить идём, – отвечает поп. – Слышали осетра-то какого на Козлах поймали? – полторы сажени длины.
– Слышал и даже видел его. Осетр-то, говорят, жалованный, с медалью…
– Ну, что вы врёте. Разве осетры бывают жалованные? – улыбается священник.
– А ты думал как? Помнишь осетриху с серьгой в ухе поймали? Осетрих жалуют серьгами, ну, а осетров медалями. Сам видел: так это она на груди у него и висит.
– Да вы, может быть, про купца Осетрова, что в Милютиных рядах?
– Нет, про осетра. Сходи в Зоологический сад посмотри, – говорит актер и спрашивает:
– Водка есть?
– Есть то есть, только я в эту пору не пью. Без благовремения зачем же?
– Ты сам и не пей, а меня поподчуй. Вели-ка попадье соорудить.
– Неловко, осердится. Так с медалью? Вот диво-то!
– Ты зубы-то не заговаривай. Осердится? Какая же ты глава в доме, коли жены боишься. Ну, рюмка за тобой.
Актёр идет далее. У окна, заставленного плющём, остановились нищие и просят. Вдруг раздаются звуки тромбона. Кто-то рявкнул из «Роберта». Нищие так и отшатнулись от окна. Старичишка даже запнулся и шарахнулся на землю. Из комнаты слышится хохот.
– Микешка, это ты? – кричит актёр.
– Я, здравствуй, Вася! – откликается голос. – Вот потеха-то! А я, брат, разнощиков и нищих трубным голосом пугаю. До тошноты надоели приставаньем. Только этим и спасаюсь.
На крыльцо выходит жирный блондин, с тромбоном в руках. Он в коломенковом халате, надетом на голое тело, и в туфлях. Халат распахнулся и обнажил полную грудь.
– Плясуну и жрецу Терпсихоры – толстое с набалдашником! – возглашает актёр и протягивает руку. – А где-же плясовица?
– Купаться ушла, а ребятишек разогнал мух ловить. Теперь плотва появилась… На муху-то чудесно. Войди. Я совершенно один. Прохладительное питьё от скуки из коньяку со льдом и лимоном делаю.
– С утра-то? Да ты с ума сошёл? Ведь это разврат.
– С утра-то и прохлаждаться. Хочешь хлобыснуть стаканчик? Долбани.
– Вот что… ты уж мне дай лучше гольём. Что доброе портить. У Петра Семенова новую собаку видел? Вот, брат, так сука! На каждую птицу особую стойку делает.
– Полно врать. Ничего нет особенного. Мой кобель в десять раз лучше. Он у меня теперь пятиалтынный от гривенника отличает. Дашь ему пятиалтынный – кланяется, дашь гривенник – трясет головой, дескать не надо.
Актер взбешён.
– Дура с печи! Да разве для охотничьей собаки это нужно? – кричит он. – сТут стойка, трель в лае нужна. Фокусам-то можно и дворняжку обучить. У меня Арапка вон даже часы смотрит. Спрошу который час, ну, она сейчас лапой.
– Видел я твою Арапку. Прошлый раз четырнадцать часов насчитала.
– Что ж такое? и человек ошибиться может. А у тебя твой Фингал тетерьку на охоте съел, ногу твою за тумбу принял. Ну, молчи, давай коньяку-то…
– Да ты посмотри его прежде. Эй, Фингал, иси! Ты погляди у него нос. Ну, пощупай. Масло сливочное. Возьми его за брюхо…
– Давай, говорю, коньяку! – пристаёт актёр.
Приятели входят в комнату. Начинается глотание. Смотрят и собаку. Актер рассматривает ошейник с надписью: «Фингал. П. Л. Столетова».
– Ты зачем же это над своим именем корону-то сделал? – говорит он. – Разве ты граф или князь? Короны дворянские бывают, а ты прохвост.
Хозяин обижается.
– Нет, врешь. Я отставной балетный артист. Да у меня и корона не дворянская, – отвечает он. – У меня на ложках и на посуде…
– А то какая же? Балетные короны разве бывают? Тебе лиру следует.
– Да разве я на лире играю?
– Дурак. Впрочем, я и забыл: и лира тебе не по чину. Ведь ты скоморох, плясун, Тебе погремушки и колпак дурацкий.
– А ты-то кто?
– Я драматический актёр. Я страсти олицетворяю. Понял?
– Это стулья то вынося на сцену, страсти олицетворяешь?
– Ах ты, дубина, дубина!
Балетный танцор вспыхивает.
– Как ты смеешь ругаться в моем доме? – кричит он. – Мое пьешь, мое ешь и меня-же ругаешь? Пошел вон! Фингал, пиль его! Ах ты прощалыга! Шулер биллиардный! Тебе-бы только полушубки купцам начищать, выжига ты этакая.
– Ну-ну, ты не очень… Я ведь и сам отвечу… – спадает в тоне актер и ретируется. – Балетная корона! вот дурак-то! – бормочет он.
Ему попадается купец.
– Пьют что-ли, там? – обращается он с вопросом, и, не дождавшись ответа, говорит: а я, брат, вчера с Фомкой двух зайцев… Не зайцы, а телята, в одном пуд десять фунтов. А все Нерон. Не собака, а роскошь! Да куда ты?
– Отстань. Объясни пожалуста этому болвану, что балетной короны не бывает. После этого и купцы корону имеют.
– А то нет, что ли? Купеческая корона завсегда имеется.
– Купеческая корона… вот как хвачу по затылку! – замахивается актёр.
На улице толпа. Идут мужчины, женщины, дети; виднеются дамские зонтики.
– Федя, куда это вы? – окликает кого-то купец.
– Собаку топить. Ивана Кузьмича собака, Дианкина мать, чума у неё. Лечит, лечит – никакого толку. Пойдем, посмотрим. Интересно. Да и лучше: некоторые говорят, что бешенная.
И купец, и актёр, и танцор выходят за калитку и присоединяются к толпе.
Вдруг, в одном из палисадников раздается выстрел; за выстрелом крик; какой-то мужик машет руками.
– Иван Норфирьич! Нешто возможно в куриц чужих стрелять? Разве это охота? – кричит он.
– Я нечаянно, я по ошибке, я хотел в ворону. Мне чтоб ружье попробовать.
– Попробовать! Ворона на дереве, а вы по земле стреляете. Курица только нестись начала.
– Ну, молчи, Ферапонт, я деньги отдам.
– Мне не деньги ваши нужны, курица полтора рубля, а вы можете в человека попасть. Ведь опять на меня своротите. Прошлый год и то целый заряд дроби в повивальную бабку всадили. Спасибо ещё, что карнолин её спас, а меня к мировому таскали.
– Ну, довольно, довольно!
Толпа останавливается и начинает глазеть.







