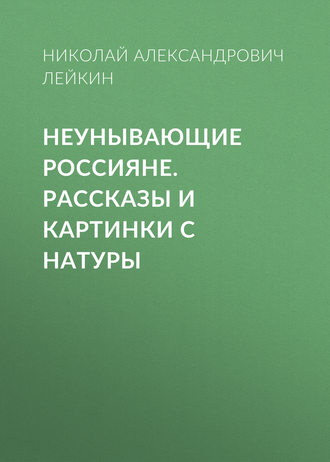
Николай Лейкин
Неунывающие россияне
XIII. С дачи в город
Август перевалил на вторую половину. Небо хмуро, перепадают дожди, с деревьев валится жёлтый лист. Дачники вереницей потянулись в город. Оставшиеся ещё по каким-либо причинам на даче желчны, ёжатся, жалуются на погоду, перебраниваются друг с другом. В вагонах конножелезных дорог только и толков, что о переезде в город.
– Вы когда?
– Квартиру всё ещё не могу найти. Третий день я и жена бегаем по городу.
– Ах, Боже мой! Да вы бы в бывшую овсяниковскую мельницу. Там квартир пропасть и недороги.
– Далеко, на краю города. У меня дети учатся, самому нужно каждый день в должность, на Литейную.
– Но конно-железная дорога, – она мимо проходит.
– Надоела мне и здесь эта конно-железная дорога. Разве в Новой улице посмотреть, у квартирного фабриканта Рота? Дорожится тоже. Комнаты – клетки… И, наконец, это паровое отопление!..
– А мы так с мужем решили ещё пожить до первых чисел сентября, – ввязывается в разговор желтолимонного цвета дама. Бывает ещё очень хорошо на даче. Видели возрождающуюся природу, хотим видеть и её вымирание.
– Ври больше, – шепчет про желтолимонную даму коричневая дама, с пятнами не искусно положенных белил на лице. – Выехать не с чем, вот ты и будешь ожидать умирания природы. Хозяин уже к мировому подал, – добавляет она.
– Не говорите! – отвечает соседка. – Ежели бы вы слышали, как её в мясной лавке честят – срам! Набрала в долг и не платит. Разнощики по утрам толпою осаждают за долгами. Даже, угольщику-чухонцу ухитрилась задолжать. Уж он её вчера ругал, ругал.
Мясники, зеленщики и мелочные лавочники просто караулят дачников.
– Нет, уж я в гроб лягу, морозом заморю, а эту полковницу без денег с дачи не выпущу! – говорит мясник, стоя на пороге своей лавки и спрятав руки под передник. И ведь что ни на есть лучшия места, окаянная, брала: то вырезку, то ростбиф. Вот олухи-то отпускали! – кивает он на приказчиков. – Кружевницу тут до чего она запутала! Сама у неё кружева в долг брала и сейчас-же соседям продавала. Вчера та проходила мимо – плачет.
– Про чиновника из четырнадцатого номера слышал? – откликается мелочной лавочник. – Табашник и я караулили его, караулили. Перевёз потихоньку одежду, подушки, посуду, да и исчез с дачи. Мебель-то не его была. За город отметился. У табашника тридцать восемь четверок табаку, гильзы, да два рубля деньгами брал. Тюфяк даже свой перетащил. Тюфяк-то духом надувался. У надувного человека и тюфяк надувной.
За утренним чаем сидит мать с дочерьми. На лицах какое-то озлобление. Молчат. На улице дождь.
– Вот, просились на дачу, а что сделали хорошаго? – первая прерывает молчание мать. – С чем мы теперь съедем? Говорили: женихов найдём, на лёгком воздухе мужчины влюбчивее. Влюбчивее на легком воздухе – это точно, но только тогда, когда за невестами есть прилагательное. А за вами только по выеденному молью беличьему салопу. Где они, женихи-то?
– Ах, маменька, кто же знал, что будет эта самая мобилизация? – откликается старшая дочь. – Гвардия в походе, наконец, ратники. Более половины женихов на войну ушло.
– Гвардия! Да разве вы гвардейския невесты? Уж хоть-бы калек себе, или пожилых вдовцов залучили.
– Нет, это уж год такой, – добавляет младшая дочь. – Неурожай на женихов. Вон фруктовщицы и почище нас – штукатурились, штукатурились целое лето, плясали, плясали, а что выплясали и выштукатурили?
– Так за фруктовщицами, по крайней мере, хвост был, а вы всё в одиночку бегали.
На балконе появляется дворник и слегка стучит в стекло.
– Ах, опять этот несносный дворник! – восклицает мать. Что тебе, любезный?
– Будто уж не знаете что! – говорит с балкона дворник. – Полноте притворяться-то! Знамо, за деньгами пришел.
– Я ведь тебе сказала, что в конце лета деньги отдам.
– Да ведь теперь конец и есть. Хорошие люди съезжают уж. Помилуйте, месяц хожу…
– Друг мой…
– Нам вашей дружбы не надо. Пусть она при вас и останется, а нам деньги пожалуйте.
– Я сказала – в конце лета, в конце лета и отдам. Мы ещё и не думаем съезжать; мы еще и половину сентября проживём. Ведь тебе за воду заплочено.
– Ну, господа! – разводит руками дворник. – И куда это только хорошие господа девались?
– Машенька, вынеси ему двугривенный на чай, авось отстанет.
– Но, маменька, у нас всего шесть гривен…
– Вынеси, говорю.
Дворнику выносят. Он взвешивает двугривенный на руке, смотрит на него, чешет затылок, плюет и сходит с балкона.
Вот из дачи выезжают возы с мебелью. Кухарка сидит поверх всего, на диване. В руках у неё кофейная мельница и кот в мешке. Горничная осталась, чтобы ехать с господами в карете. Карета стоит тут-же. Горничная, стоя у ворот, прощается с соседским лакеем. Глаза её заплаканы.
– Прощайте, Пелагея Дмитриевна, не забывайте нас грешных! – говорит лакей.
– Вы-то не забудьте! Поди, переедете в город и плюнуть не захотите.
– Мы-то вас будем помнить в самом разе, а вот вы, как приедете в город, сейчас и начнёте мужской пол обозревать. Ну, смотришь, мелочной лавочник какой-нибудь сережки в два двугривенных подарит, а то росписную чашку.
– Зачем такия низкия слова?
– Затем, что ваша сестра простор любит. Мы на Васильевском острове, вы на Песках.
– Это вот вы – так завсегда непостоянное коварство в себе содержите, а мы никогда. Сами же вы разсказывали, что вам ваша нянька англичанка глазки делает.
– Англичанка нам всё равно, что плюнуть, да растереть. А у вас, опять же, барин, и человек молодой.
– Барину у нас от барыни хвост пришпилен. Прощайте, однако, пора! Вон наши уж в карету садиться хотят! – суетится горничная и протягивает руку.
– С холодным жаром и прощаться не хочу, – отстраняет руку лакей.
– Какого же вам еще прощанья надо? Ведь уж вчера, простилась по-настоящему.
– Как какого? Чтоб в губы… Шутка – целое лето гуляли вместе!
– В губы нельзя, – народ… Вон мелочной лавочник смотрит… дворник стоит.
– Коли хладнокровие в себе чувствуете, не надо и прощанья. Нет, я вижу, что тут барином пахнет!
– Ах, какой вы, право! Ну, зайдите за дом. Там и поцелуемся.
– Маша! – раздается крик в саду, где ты шляешься? – Мы уж едем.
Горничная стремглав бросается к карете. В карету начинают садиться. Вывели старуху под руки. Старуха совсем дряхлая.
– Ногу-то можете на ступеньку занести? – спрашивает её нянька с ребенком.
– Могу.
Старуха пробует сесть, но не может. С козел в полоборота смотрит извозчик.
– Пропихни её в спину-то, поддай слегка сзади, вот она и внедрится, – говорит он няньке.
– Где тут пропихнуть, коли у неё нога не поднимается. Пихнешь, а она клюнется носом.
– Подсадить вас, сударыня?
– А?
– Подсадить, говорю, вас в карету-то? – возвышает голос нянька.
– Подсади, подсади…
– Вон кучер подсадит.
– Что!
– Кучер, говорю, вас подсадит. Ничего не слышит. Подсади её любезный.
Извозчик слезает с козел.
– Старыя кости перетряхивать начнем. Не развалились-бы грехом, – бормочет он, берет старуху поперёк и втискивает в карету. – Вот тоже, Бог смерти то не дает!
– Не говори уж! – машет рукой нянька.
К карете подходит барыня и ведет за руку маленькую девочку. Горничная выносит канарейку в клетке, ларец с чаем и сахаром, картонку с шляпкой. Клетку и картонку привешивают к потолку кареты, ларец ставят на пол. На колени к старухе кладут двух собак. Садится барыня. В руках у неё корзинка со стенными часами. Горничная опять бежит в сад и выносит оттуда белку в колесе и четвертную бутыль с водкой, настоянной на ягодах.
– Тише, тише бутыль-то не разбей. Это любимая настойка Петра Иваныча, – говорит барыня.
Все это помещают в карету. Влезает нянька с ребенком, вносят туда-же зеркало.
– Пожалуйста, поосторожнее. Зеркало разбить – нехорошая примета.
В ту же карету влезает гувернантка и ставит себе девочку в колени. В руках, у гувернантки котенок и два образа в серебряных ризах. На козлы ставят корзину с цветами. Туда-же взбирается и горничная и садится рядом с кучером. Ей подают клетку с попугаем. К карете подходит дворник, дворничиха и дворницкие ребятишки.
– Счастливый путь, сударыня! Дай Бог благополучно, в целости и как подобает по-христиански, – говорит дворник, держится за дверцы кареты и медлит запирать её. – На чаек бы с вашей милости! – чешет он затылок.
– Ведь я уж дала, давеча! – восклицает барыня.
– Это точно, что дали, мы вами завсегда благодарны, но так как мужики просили, то мы мебель помогали на воза укладывать. Опять же, в кухне стекло у вас треснуло…
Барыня дает двугривенный. Дворник всё ещё медлит запирать дверцы кареты. Подходит дворничиха.
– Не оставьте и нас, сударыня, вашей милостью. Молочком за лето-то вас поили, – бормочет она, как-то вся искобенясь, и сморкается в кончик головного платка. – Кринку вчера из-за вас разбила.
– Да, ведь, я и тебе, милая, подарила полотенца, ситцу на передник. Ведь тебе за молоко заплочено.
– Эх, сударыня, я тоже для вашей милости сад мела!
Барыня опять даёт. Подступают ребятишки. Дворничиха толкает их в затылки, чтоб они кланялись.
– И вам тоже? Я ведь девочке подарила старое Лизанькино платье.
– Не обессудьте, сударыня, отвечает за них дворничиха, – тоже дети, пряничков хотят. Они для вас старались, траву из дорожек выщипывали. Сынку-то моему ничего не перепало, а его ваша собачка в прошлом месяце как за ногу тяпнула! Что вам по пятиалтынничку? – плюнуть. А они за вас Бога помолят! Кланяйтесь, паршивцы, просите!
– Сударыня! – начинает мальчик.
Девочка тыкается головой в юбку дворничихи.
– Ну, поборы! – вздыхает барыня и дает дворниковым ребятишкам по мелкой монете.
Дворницкое семейство кланяется.
– Ну, Господи, благослови! Трогай! На следующее лето жалуйте!
Дворник захлопывает карету. Карета трогается.
– Стой! Стой! – машет руками ситцевая рубаха с небритым подбородком, по виду, отставной солдат, и, сняв картуз, подходит к стеклу остановившейся кареты.
– Что тебе, любезный? кто ты такой? – задает ему вопрос барыня.
– Дворник с соседской дачи, Иван, – откликается тот. – Мы, сударыня, в очередь с вашим дворником вас же по ночам караулили. Как я старался в колотушку-то бить?
– Ну, так что-же? Это твоя была обязанность.
– Моя обязанность своих господ караулить, а я и вас караулил. На чаек-бы с вашей милости следовало.
– Это ужь из рук вон! Извощик, пошел! – восклицает барыня.
Карета снова трогается. Соседский дворник скашивает глаза по направлению к карете.
– Сволочь! Шарамыжник! – бормочет он вслед. – И куда это только хорошие господа задевались?
Два дачника тоже смотрят вслед удаляющейся и до невозможности туго набитой и людьми, и животными, и вещами карете.
– Совсем Ноев ковчег, – говорит первый дачник.
– Чистых по паре, а нечистых по семи пар, – дополняет другой.
Дворницкое семейство входит в опустелую дачу. На полу валяются лоскутки, никуда не годное тряпье, картонки из-под табаку и папирос, сено, оставшееся от укладки посуды; на подоконниках оставлены банки и склянки с недопитым лекарством.
– Эво, какую аптеку оставили! – кивает дворник на склянки. Которые пустые – продать надо. Постой, вот пол-банки с каким-то снадобьем. Желтая… Фу, какой яд! – нюхает он. – На, вот, прибери. Лекарство, надо быть, хорошее, обращается он к жене. Ужо, вот, у ребятишек заболят животы, так и дашь им по ложке.
– Да это лекарство для ноги, барин им ногу мазал, – возражает дворничиха.
– Так что ж, что для ноги? Коли для ноги хорошо, то для живота ещёе лучше. Бери! Да сходи на ледник и посмотри не оставили ли чего съедобного.
– Где уж оставить! Даже и дрова все до полешка единого вывезли. Сквалыги какие-то!
– Сходи, говорю.
– Не пойду. Ты нарочно меня теперь посылаешь, чтобы деньги у ребятишек отобрать и в кабак их снести. Не давайте ему дети.
– Что? Брысь живым манером, коли я приказываю!
– Не пойду!
Бац! бутылка из-под сельтерской воды летит в женщину.
– Убил, убил, мерзавец! – кричит та.
Дворник отнимает у ребятишек пятиалтынные и бежит в кабак.
У гадалки
У мелочной лавочки, на углу одного из грязнейших переулков, обстроенных деревянными домишками, остановились парные сани, с сидящей в них пожилой женщиной в чернобуром салопе. Лакей, в гербовой ливрее с меловым воротником, соскочил с запяток и бросился отстегивать полость саней.
– Нет, нет, Андриан, не надо пока! – сказала барыня. – Зайди прежде в мелочную лавочку и спроси, где здесь живёт ворожея. Слепая она, чухонка… Тут её все должны знать.
Лакей бросился в мелочную лавочку.
– Где у вас здесь ворожея живет? – обратился он к мелочному лавочнику.
– А у вас собака пропала, что ли? – встретил его, в свою очередь, вопросом лавочник.
– Нет, у нас все цело. А только сама генеральша приехала и хочет насчёт собственных похождениев гадать.
– Генеральша?!.. – протянул лавочник и вышел из-за стойки. – У нас тут две ворожеи: казак один за ворожею гадает на ружейной дроби и, окромя того, чухонка слепая – на картах… – прибавил он.
– Ну, вот, её-то нам и надо! как пройти?
– А это по нашему двору будет. Как в ворота войдешь, сейчас смотри, где помойная яма. Понял? её ты не огибай, а рядом увидишь дверь, обитую рогожей, и на ней сапог; в эту дверь и входите. Тут она у сапожника и живет. Только вам бы лучше к казаку… Тот – с молитвой… – сказал лавочник.
– Приказано слепую чухонку розыскать… – ответил лакей и вышел на улицу.
Лавочник последовал за ним.
– Здесь, ваше превосходительство! – подскочил к генеральше лакей. – Извольте выходить.
– Вам ежели сердце, сударыня, приворожить, то лучше к казаку ступайте, – прибавил лавочник.
– Андриан! Скажи ему, чтоб он не совался не в свое дело… – вздохнула генеральша.
Лакей махнул рукой лавочнику: «дескать, молчи» – и повел генеральшу на двор.
Двор был грязный; попадались какие-то навесы со стоящими под ними телегами, амбары; на дверях одного из амбаров мелом было написано: «я картина, а ты скотина». Из-за угла выскочила собака и бросилась на генеральшу. Лакей принялся отгонять. Собака хуже, так и заливалась лаем. Вышла баба и догнала собаку.
– Вы к скубенту, что ли? Тут у нас скубент в газетах пропечатался… – спросила она.
– Нет, нам ворожею, слепую чухонку, – отвечал лакей.
– А… вот в эту дверь. Только вам придется подождать, – народ есть. У вас серебро верно пропало?
Ответа не воспоследовало. Лакей отворил дверь, обитую рогожей, на которой была вывеска с сапогом и надписью: «Сапож. ц. маст. Трифон Куз.» Барыня вошла в кухню, где её так и обдало запахом кожи, печеного хлеба и дыма. У окна сидел сапожник в тиковом халате и набивал коблук у сапога.
– Ворожею бы мне… – сказала барыня.
– Занята теперь. Извольте присесть…
Сапожник указал на лавку. Барыня села. Лакей стал у дверей. В кухне, на полуобломанных стульях, сидели трое: купец в енотовой шубе, молодая разряженная барынька в опушенной соболями шубке, с плутовскими глазками и с бриллиантовыми кольцами на пальцах, да пожилая женщина в сером байковом платке на голове и в кацавейке. Купец вздыхал и отирал потное лицо фуляром.
– Однако долгонько она барина-то исповедует, сказал он и мигнул на дверь. – Вы здесь в первый раз, сударыня? – обратился он к генеральше.
– В первый раз, – отвечала та, хмурясь.
– Из-за воровства или по части мужниного запоя?
– Андриан! – вскинула барыня глазами на лакея.
– Не извольте, господин купец, не в свое дело лезть! – дернул купца за шубу лакей. – Оне – генеральша.
– Что-ж, и у генеральш мужья запивают. Будто и спросить нельзя?! – огрызнулся купец.
– Сидите и свою думу думайте!
Купец умолк, стал смотреть по сторонам, изловил на стене таракана, оторвал у него две ноги и бросил его на пол.
– Это неверная примета, чтоб ноги тараканам рвать, – все равно водиться будут… заметила ему женщина в платке. – Бурой ежели – не в пример лучше…
– Ах, как долго! Это даже ужасти как удивительно… прошептала молоденькая барынька в соболях, и, встав со стула, подсела на лавку рядом с генеральшей. – А страху подобно, как эта самая гадалка верно гадает, и, ведь, сама слепая… обратилась она после некоторого молчания к генеральше. – Выберете вы, примерно, карту, и ежели вы на коварного мущину гадаете, то безпременно должны этой карте глаза выколоть, королю то-есть, – и как на блюдечке всё об этом предмете вам разскажет… И как она при своей слепоте карты видит – ужасти подобно!
– У неё глаз один цел, но только зрак поврежден, и ежели покосясь, то она как бы в тумане обозревает, – вставил свое слово сапожник и опять забил молотком.
– Нет, совсем слепая! – возразила женщина в платке. – Я у купцов живу, так у нас хозяйка гадала насчет сына: женить его, или в монастырь на послушание… Уж так загуливал, что не приведи Бог!.. Ну-с, как пояснила ей хозяйка про все его художества, гадалка-то и говорит, ворожея эта самая: «вы говорит, барыня, не обидьтесь, а мне вам, для верности в картах, в глаза плюнут надо. Все одно, говорит, потом умыться можете». Ну, хозяйка и согласилась. Та плюнула – и не попала. Уж ежели бы зрячая была, то попала-бы, а то до трех раз пробовала…
– Вы чьих будете? – спросил женщину купец.
– Купцов Сподвигаевых. Солью они торгуют. Окромя того воск.
– Не слыхал. Так что-же, сын-то совсем повихнулся?
– Совсем. Свезли в монастырь, а он там до полоумия уже на нутро принимать начал и вдруг в актёры сбежал, чтобы представлять…
– Она у нас эта самая гадалка, только гадает, а ни проворотного зелья, ни исцеления не даёт, – пояснил сапожник.
– Как, и приворот не даёт? – спросила, вся вспыхнув, генеральша.
– Нет, не дает. У неё и зельев-то нет!
– Не верьте ему, даёт. Корешки такие у неё есть; окромя того, соль наговоренная… шепнула генеральше разряженная барынька. – Не скупитесь только – всё даст: и приворот, и любовную ладонку.
Генеральша смягчилась.
– А вы, верно, уж не в первый раз? – спросила она соседку.
– Совсем напротив того, и даже очень часто… – отвечала та, слегка потупившись. – У меня как измена, я сейчас к ней…
– Какая измена?
– А насчет мущинов, с их стороны… По весне я была с купцом одним знакома и очень даже довольна от его была… Купец – при всем своем образовании, и даже несколько раз насчет женитьбы разговор был – вдруг, гляжу – с арфянкой… Я сюда – за корешком…
– То-есть… это жених ваш был? – задала вопрос генеральша.
– Не совсем, но как-бы… Они мне квартиру нанимали и потом другие покровительства…
Генеральша нахмурилась, однако продолжала:
– И помог этот корешек?
– Помог, но вышла интрига. Познакомилась я в маскараде с офицером и приехал он ко мне…
Генеральша вся вспыхнула.
– Андриян! – крикнула она лакею и поднялась с места.
Лакей засуетился, но не знал что делать. В это время из другой комнаты отворилась дверь и вышел пожилой, гладко выбритый, мужчина в виц-мундире и с орденом на шее. Генеральша тотчас-же шмыгнула в комнату на его место и захлопнула за собой дверь.
Мужчина надел шубу и ушел. Купец посмотрел ему в след.
– Ой-ой, в каких чинах! – кивнул он на него.
– Полугенерал… пояснил про чиновника сапожник. – Третий раз приезжает. Всё насчет места гадает, – место переменить хочет. Служит по суду, а теперь хочет по таможне перейти, – ну, вот, и советуется с гадалкой – выгоднее ли это ему будет.
– Так, так… – пробормотал купец. А госпожа-то, ведь, не в свой черед прошмыгнула, сказал он. – За это-бы за шиворот следовало, – ну, да Бог с ней. Видно, уж очень насчет любовных дел приспичило!
– Гувернера для себя нового выбирают. И есть теперь у них на примете, так приехали узнать, каков он и нет ли за ним художеств насчет женского сословия… – пояснил про генеральшу лакей. – Ну, а вы, господин купец, здесь по каким делам? – спросил он…
– Прикащик нас на левую ногу обделал, так вот пришли справку сделать: в деревне у него эти самые хопунцы припрятаны, или где здесь по мамзелям розданы… – отвечал купец, лукаво подмигнул глазом барыньке в соболях, сел с ней рядом, улыбнулся и слегка потрепал её по плечу.







