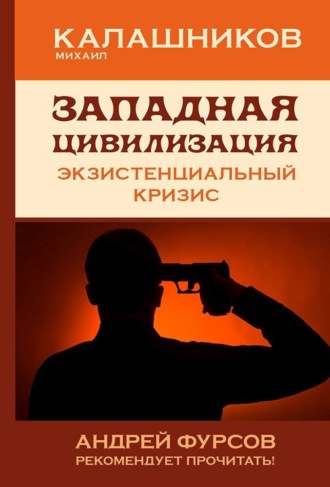
Михаил Калашников
Западная цивилизация. Экзистенциальный кризис
Но ценность цивилизаций в том, что, задолго до своей гибели, они создают условия, при которых происходят взаимодействие и взаимное обогащение культур. Цивилизация становится как бы проводником своей культуры и дает ей возможность хотя бы частично продолжить свою жизнь в чужой культуре. «У каждой культуры своя цивилизация» [38], – считает Шпенглер, и каждая культура, пережив свою цивилизацию, оставляет следы. Шумер создал такое социополитическое образование как город-государство, а также первые правовые документы, и они, возможно, легли в основу структуры и письменного законодательства Древней Греции и Рима. Древняя Греция и Рим, в свою очередь, оставили Европе богатейшую философию, литературу и искусство, а также Римское право, Иудея – монотеистические иудаизм и христианство, а Византия, сохранив достижения высокой греко-римской культуры, дала Восточной Европе православную религию и т. д.
Цивилизации приходят и уходят, но на своих развалинах они оставляют частички своей квинтэссенции – культуры. Исходя из этого, возникает логичный вопрос: что оставит после себя западная цивилизация, когда ей придется уйти с исторической арены? Что передаст другим культурам культура европейская? Способна ли она будет влить новую кровь другим цивилизациям, как это сделала древнегреческая, откликнувшись через почти две тысячи лет в европейском Возрождении?
В последующих главах мы постараемся показать состояние современной западной цивилизации, продолжающей оказывать (пока) решающее влияние на весь мир.
Глава II
Деградация культуры
Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу
Густав Малер
Культуру часто противопоставляют естественному состоянию человека. Действительно, жизнь в культуре означает выход из единения с природой, поскольку предполагает воздействие на неё, окультуривание. Мы не можем точно узнать о причинах возникновения культуры. Существует не одна гипотеза и даже теория её возникновения, но, может быть, наиболее близкой к истине является та, которая говорит о частичной утрате гоминидами естественных инстинктов, присущих животным. «Отступление от инстинкта и противопоставление ему себя образует сознание, – считал Карл Густав Юнг. – Инстинкт представляет собой природу и жаждет природы. Сознание, напротив, может желать только культуры или её отрицания» [39]. Ослабление инстинктов может быть связано с тем периодом, когда прачеловек перешел к стадному существованию. Вероятно, существование в стаде привело к господству промискуитета – неупорядоченным половым отношениям в ограниченной группе (стаде), что вело к вырождению и утрате здоровых инстинктов. Происходившие мутации и стремление выжить вели к подражанию тем животным, неповрежденный инстинкт которых был образцом поведения, увеличивающего вероятность выживания. (Об особой способности человека к подражанию говорил ещё Аристотель: «люди тем ведь и отличаются от остальных существ, что склоннее всех к подражанию, и даже первые познания приобретают путем подражания» [40]. Современная наука подтверждает это: в мозге обнаружены так называемые зеркальные нейроны, которые, как считают некоторые ученые, отвечают за подражательство. По аналогии происходило то, что Тойнби называл «Вызов – Ответ».) Утрата инстинктов была вызовом, подражание через запоминание становилось первичным «ответом». Но имитируя утраченные связи с природой, прачеловек уходил от неё всё дальше, начинал придумывать тогда, когда прямое подражание не приносило пользы или становилось невозможным. Он создавал свою «вторую», искусственную природу – культуру. Таким образом, экзистенциональный кризис прачеловека привел к появлению уникального явления, равного которому нет в природе – культуры. То есть культура родилась в кризисе, и кризис стал её постоянным спутником.
Этот процесс аллегорически описан в Библии: съедение запретного плода познания и есть момент появления разума и начала создания культуры, а последовавшее изгнание из рая – отчуждение от природы и переход к творчеству и труду, страданиям и фрейдовым неврозам.
Развитие культуры привело к двум другим феноменам: разделению труда и возникновению собственности (которая впоследствии разделилась на личную и частную). То есть собственность есть порождение культуры, а не цивилизации. Может быть, именно поэтому в тех случаях, когда та или иная цивилизации гибли, собственность – как часть культуры – продолжала существовать. Конечно, попытки присвоить и сохранить что-либо существуют и у животных (птицы и некоторые насекомые охраняют своё гнездо, собаки «метят» территорию и т. д.), но только человек ещё в древности начал присваивать ему не принадлежащее сознательно, а не подчиняясь инстинкту. Собственность – одно из самых древних и ярких проявлений творчества, создававшихся человеком в ареале его культуры. И именно собственность предопределила последующие кризисы: как в экономике, политике, идеологии, так и – опосредованно – в самой культуре.
Возникнув, культура продолжила своё постепенное развитие, усложняясь и восполняя потребности человека. Она заменяла утрачиваемые инстинкты, которые начинали ею уничтожаться. «Как только жизнь возвысилась над чисто животным состоянием до некоторой духовности, – писал Георг Зиммель, – а дух, в свою очередь, поднялся до состояния культуры, в ней обнаружился внутренний конфликт, нарастание и разрешение которого есть путь обновления всей культуры» [41]. В то же время культура, вытесняя инстинкт и вступая в противоречие с изначальной природой человека, порождала внутренний конфликт, который Фрейд обозначил как невроз. Вместе с тем культура становилась условием, так сказать, «средой» возникновения труда, где примитивная мысль, логос, вела к творчеству, т. е. созданию внеприродного, искусственного – сначала примитивных орудий, а затем и первобытного искусства. Так как продукты труда имели очевидные преимущества, труд стал необходимостью, а затем просто имманентным человеку, его естественным состоянием. Культура дала человеку шанс на выживание и, даже не сознавая этого, он продолжил её развитие. Вместе с тем, эволюция культуры, её усложнение в меняющихся условиях неизбежно вела её к кризисам.
Кризис культуры наступает, как указывал ещё Питирим Сорокин, при смене одной формы культуры другой. Так, переход от каменного века к медному, а затем к бронзовому, представлял собой переход от прямой обработки камня к освоению металла. Последнее требовало творческой мысли и новых навыков – ведь в природе готовый металл не встречается. Медь, а затем бронза вытеснили каменные орудия, что можно выделить как первый кризис в истории материальной культуры, сопровождавший, через замену старого способа производства новым, смену одних материалов другими, что привело к существенным изменениям в самóй материальной культуре, а также социальной жизни. То же самое происходило и в культуре нематериальной: наскальная живопись уступила место изделиям из сплавов с орнаментом и изображениями животных и людей. Здесь ярко прослеживается приход нового, сопровождаемый умиранием старого, существовавшего тысячелетиями. Это и есть кризис культуры: открытия в металлургии привели к отказу от культуры каменного века и переходу на более высокую ступень развития периода освоения металлов. Фактически этот взрывной переход к металлу привел к появлению городов и цивилизации – через кризис культуры к началу цивилизованного периода существования человечества. Цивилизация и культура стали существовать настолько близко, что впоследствии все точки кризиса они проходили вместе.
Одной из главных характеристик культуры являются приоритеты – набор тех ценностей, которые определяют эпоху. Это могут быть искусства и философия, как в Афинах, власть и экспансия, как в Риме, Бог и служение Ему в Средневековой Европе, прогресс в Европе Нового времени или деньги в Соединенных Штатах Америки (Джон Дьюи, например, писал, что «наша американская культура в значительной степени культура финансовая») [42]. Впрочем, особое отношение к деньгам присутствует ещё с античных времен, а в США оно просто нашло своё самое яркое выражение. Надо подчеркнуть, что именно буржуа сделали деньги объектом поклонения, фетишем, наделенным магической силой. Деньги стали накапливать ради них самих, они превратились в самоцель, источник удовлетворения и смысл жизни. Деньги появились в культуре, но отделились от неё и стали её антиподом. И как кто-то метко заметил, придут буржуа и культуру затопчут. Дальнейшее показало, насколько это оказалось справедливым замечанием: пришли и уже почти затоптали. Наука, производство, техника, а зачастую и искусства стали отделяться от культуры и даже противостоять ей. Особенно это стало заметно в Новейшее время. Но чему удивляться в мире, в котором «порвалась дней связующая нить»? [43]
Если культура в начале своего развития была формой создания материальных ценностей, то в дальнейшем она стала источником ценностей духовных.
Культура представляет собой как бы узел связи, который координирует взаимодействие различных проявлений человеческого бытия в определенный исторический период. Вряд ли можно представить античную культуру при машинном производстве, так же как невозможно сосуществование импрессионизма и компьютеризации. Если Карл Маркс говорил о соответствии способа производства и производственных отношений, то можно утверждать, что определенной материальной культуре должна соответствовать и специфическая духовная. И, соответственно, кризис материальной культуры, выражающийся в переходе от одного общественного уклада к другому, сопровождается кризисом духовным. А кризис культуры неизбежно порождает кризис цивилизационный, т. е. кризис всех сфер и проявлений человеческого бытия. Однако Шпенглер считал, что именно кризис цивилизации приводит к смерти культуры, но это представляется слишком драматичным выводом. Духовная культура может плавно перетекать из одного своего проявления в другое, иногда даже в свою противоположность, в антикультуру. И в этом отличие культуры от цивилизации: последняя развивается скачкообразно, дискретно, она умирает, но тут же может воскреснуть в другом обличье. Или умирает, оставив после себя памятники, которые, как творения греков, смогут ещё долго оказывать влияние на другие цивилизации. Упадок культуры, её закат, по Шпенглеру, наступает на стадии цивилизации. Именно тогда в обществе начинают преобладать, господствовать рациональность, прагматизм, власть денег во всех проявлениях человеческого бытия. Наступает время, когда политика становится определяющим видом деятельности, а деньги, наряду с оружием, главным инструментом её осуществления. Для культуры, по его мнению, в целом характерна высокая духовность, а цивилизация означает своего рода деградацию духа, уход от её истоков. Многое из того, о чём думал Шпенглер, находит своё отражение в наше время.
Развитие культуры – это движение, но оно не всегда идет вперед, по восходящей. Так в Древней Греции вторжение дорийцев привело к упадку культуры ахейцев на целых пять веков, а после разрушения Рима в средневековой Европе настали «темные века». Развитие культуры идет нелинейно и те зигзаги, которые делает история, иногда пагубно сказываются на культуре. Но это неизбежный процесс. Взлеты и падения характерны не только для социумов, государств, цивилизаций, но и для культуры, развитие которой зависит от тех образований, которые она же и породила. В целом культура динамична, но когда она исчерпывает свои возможности, когда перестает соответствовать своему времени, развитию общественных отношений, начинается застой и она переживает очередной кризис, преодолев который обновляется и идет дальше. Или погибает.
Глубокий кризис общества затрагивает все сферы, все связи цивилизационных и культурных процессов. Но, разрушая определенные сложившиеся устои, кризис создает предпосылки для обновления, появления новых форм и новых ценностей культуры. Вероятно, это имел в виду Питирим Сорокин, который в начале ХХ века писал: «Многие ценности современной культуры… едва [ли] заслуживают того, чтобы за них бороться. Большая часть их уже умерла и только ожидает приличествующего захоронения. Их исчезновение скорее благо, чем потеря для человечества; скорее освобождение культуры от яда, чем её обнищание» [44]. Такого же мнения придерживался и Ортега-и-Гассет: «Не знаю почему, но слово “кризис” всегда ассоциируется с чем-то очень грустным. А ведь кризис – это глубокое, интенсивное изменение: он может также знаменовать собой и начало лучших времен…» [45] Без кризиса, как это ни парадоксально, культура, во всех своих проявлениях, может закостенеть, застыть как картинка, и, лишенная динамической составляющей, погибнуть. А гибель культуры означает и исчезновение её носителя, человека, потому как без культуры человека нет.
Культура – порождение человека, и она же его хранитель. Уничтожить её – значит вернуться, в лучшем случае, в состояние дикости со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, кризис культуры так же необходим, как стирка белья: без этого оно быстро приходит в негодность и отправляется на свалку. Весь вопрос в том, что, принимая кризис культуры за данность и объективную необходимость, невозможно предсказать, что будет с культурой, когда кризис закончится. «Непредсказуемость – изменение, реализуемое в порядке взрыва» [46], – считал Юрий Лотман. Изменения в культуре в момент кризиса действительно носят взрывной характер, и поэтому они непредсказуемы. Какой будет её форма? Какими будут идеи? Какими духовными ценностями будет руководствоваться общество? Ответы на эти вопросы приходят позже, когда наступает время стабилизации.
Каждой эпохе присуща своя особенная культура, со своими идеями, средствами выражения, своим уровнем развития, своими богами и кумирами. У греков это была идея бытия, воплощенная в пантеизме, пластических формах и сценических образах. После кризиса, вызванного падением Рима, на средневековом Западе воцарилась идея Единого вседержителя, единой строгой морали, целью которой было свободное подчинение воплощению вселенского Добра, тем не менее карающего за ослушание. Плавное, почти невидимое перетекание культурной парадигмы к постулатам Возрождения привело к другой культуре, обожествлявшей Природу, но не отрицавшей Бога. Естественность во всех своих проявлениях ставилась во главу угла, и это привело как к великим достижениям в искусстве, так и к абсолютному цинизму (Макиавелли, Борджиа).
Переход к Новому времени также сопровождался кризисом как цивилизации, так и культуры. Состоявшееся накопление капитала, перспективы развития производства, сдерживаемые устаревшими политическими и социальными отношениями, с неотвратимой неизбежностью вели к переменам в обществе. Революции в Нидерландах, Америке, Франции и Англии несли с собой общественные изменения, новый дух предприимчивого, нагловатого, меркантильного и не очень образованного человека – дух капитализма. «За каждым новым переворотом стоял совершенно новый, вполне определенный идеал – освобождение личности, господство разума над жизнью, прогресс человечества на пути к счастью и совершенству, – так видел цели общества этого времени Георг Зиммель. – А из этого идеала возникали очертания новых, подспудно подготовленных к появлению новых форм» [47]. Кризис феодальных отношений привел к смене отношений как на политическом уровне, так и в экономике и культуре. На историческую сцену вышел буржуа с его безграничным стремлением к обогащению, индивидуализмом, т. е. прикрытым красивыми лозунгами эгоизмом. Культура, не материальная, а духовная, тоже не могла не измениться.
XVI (Нидерланды) и XVII (Англия) века обозначили грядущий переворот не только в экономике, но и в духовной сфере. Идеи просвещения окончательно нарушили равновесие божественного и человеческого. Духовно они подготовили Европу к великому политическому кризису и экономическому и культурному перевороту. Человек, развивая каноны Возрождения, через Просвещение начал отрицать свою ничтожность и величие Бога.
В прекрасном XIX веке Европа полыхала, а Латинская Америка освобождалась от пут Испании, Англии, Франции и Португалии. Стремление к свободе стало всеобщим и казалось, что освобождение человека близко, и оно выведет людей на дорогу, ведущую к светлому будущему. Получилось всё с точностью до наоборот – порабощение масс стало ещё более бесчеловечным. И это вызвало переворот в культуре. «Весь XIX век при разнообразии своих духовных движений, – писал Зиммель, – не выдвинул… всеобъемлющей, господствующей идеи. Ограничиваясь исключительно человеком, XIX век создал понятие общества как подлинную реальность жизни, а индивид стал рассматриваться как простой продукт скрещения социальных сил или как фикция, подобная атому. С другой стороны, именно теперь выдвигается требование растворения личности в обществе, так как подчинение ему есть нечто абсолютное, заключающее в себе нравственное и всякое иное долженствование» [48]. То есть в результате кризиса XVIII–XIX вв. возникла новая культурная парадигма, и очередной перелом наступил в ХХ веке, точнее с началом Первой мировой войны.
Современный кризис культуры начался со сменой уклада жизни. Аристократы, бюрократы и ремесленники составляли в XVIII веке незначительную часть населения. Но, начиная с XIX века, всё больше появлялось работников по найму, которым Маркс прочил светлое будущее: власть, досуг, материальные блага и творческую деятельность. Он думал, что рабочие, став большинством, получат всё. Но оказалось иначе: после определенной точки перегиба автоматизация привела к сокращению числа рабочих и крестьян, и возрастанию бюрократов и тех, кто работает в сфере услуг. Рабочие получили (в Европе и Америке) многое, но никак не власть. Впрочем, она оказалась им и не нужна, достаточным стал уровень жизни и досуг, с которым, как выяснилось, вопреки Марксу, они не знают, что делать. Культура явно отстала от технического и экономического прогресса. И политический и социально-экономический кризис открыл шлюзы для кризиса в культуре.
1914 год принес с собой крах более или менее устойчивого мира в Европе и потребовал изменения всех устоев XIX века. «Во многих странах люди забыли, что такое процветание и благополучие, – писал П. Сорокин, – свобода превратилась просто в некий миф. Солнце западной культуры закатилось. Громадный вихрь накрыл собой всё человечество. <…> Это – кризис искусства и науки, философии и религии, права и морали, образа жизни и нравов. Это – кризис форм социальной, политической и экономической организаций, включая формы брака и семьи. Короче говоря, это – кризис почти всей жизни, образа мыслей и поведения, присущих западному обществу. Если быть более точным, этот кризис заключается в распаде основополагающих форм западной культуры и общества последних четырех столетий» [49]. Такой процесс, однако, вполне естественен: культура всегда старается старые свои формы вытеснить новыми. Но что послужило причиной такого резкого изменения во всех областях духовной жизни Европы (т. е. западного общества) с приходом Нового времени?
Изменился дух. Получившие власть в XVI–XIX вв. буржуа, были неспособны в одночасье изменить духовную жизнь. Инерция и стремление подражать прежним властителям, желание филистера почувствовать себя аристократом, «мещанином во дворянстве», его страсть к наживе, духовная убогость и распирающее ощущение обладания властью привели к обуржуазиванию большинства интеллектуалов, начавших проповедовать индивидуализм. Ложные идеи свободы, равенства, братства (ложные потому, что были лишь завесой, которая прикрывала новое угнетение, а формальная свобода атомизировала общество) стали причиной духовного застоя, породили бесплодные надежды и глубокое разочарование. Причина кроется в том, что свобода в западном обществе основана (как это стараются преподнести его апологеты) не на моральных принципах либерализма, провозглашаемом гуманизме или этических принципах тех или иных философов, а на имманентно присущих капитализму началах. Свобода (точнее, ощущение свободы) способствует социальной стабильности в условиях высокого уровня жизни, доступного образования, развития высоких технологий и массовых коммуникаций. Свобода творчества, особенно в научных исследованиях и технологических разработках, при перетекании капитала и возможности частной инициативы создают прочный фундамент существующей модели экономического и политического устройства. Однако за последнее время эта основа становится всё более шаткой, а угрозы свободе все более реальными. Возникает законный вопрос: почему?
Формирование новых идеалов, нового духа началось лишь в конце XIX века после окончательной победы Буржуа над Аристократом. Обновление, в том числе духовное, стало настолько же необходимым, как и неизбежным. Однако это не дало ожидаемых результатов. Культ денег всё больше и больше вытеснял свежесть мысли, а войны, революции и возникшие диктатуры привели к краху надежд.
Изменившийся дух привел к потере ценностей старого мира, а новые вели, скорее, к нигилизму, чем к приведению в соответствие духа и реалий ХХ века. Ведь, как очень точно выразился Георг Зиммель, «в каждой большой эпохе, имеющей свои типичные черты, можно уловить одну центральную идею, из которой проистекают все её духовные движения, и которая как будто является их конечной целью» [50]. То есть такая идея является основой всех ценностей какого-либо общества. А её порождает «Тип культуры… исторически сложившаяся совокупность ценностей, норм, идеалов, образующих… устойчивое “ядро” культуры общества… <…> Капитализм определен именно этим “ядром” или “культурным кодом”…» [51] Эту мысль разделял и Сорокин. «Именно ценность, – утверждал он, – служит основой и фундаментом всякой культуры» [52].
Но что лежало в основе европейской культуры, ее духовности? Что было тем объединяющим универсумом, который сделал Европу единой духовно – несмотря на все политические разногласия, приведшие к многочисленным войнам?
Ответ дал Томас Эллиот: «Главный фактор в создании общей культуры народов, каждый из которых имеет собственную самобытную культуру, – религия». И пояснил далее: «Именно в христианстве развились наши искусства; именно в христианстве коренилось – до самого последнего времени – европейское право. Именно в плане христианства обретает значение всё наше мышление… Уйдет христианство – уйдет и вся наша культура» [53]. Элиот написал эти слова свыше 70 лет назад, но они оказались пророческими. Европейская культура постепенно уходит, уходит вместе с породившим её христианством.
Начиная с Первой мировой войны, европейская культура переживает глубокий кризис. Но предпосылки его появились задолго до этого, в XVII веке. Вольтер и Гольбах, французские мыслители эпохи Просвещения подготовили почву для секуляризации европейского общества. Великая французская революция, кровавая и жестокая, сопровождалась разрушением и разграблением церквей, уничтожением старых моральных устоев, общественного порядка, заменой религии культом Разума и Прогресса. «Разум», однако, зашел так далеко, что пришлось реставрировать власть, создавать империю, вернуть бежавших священников и вновь открыть церкви. Но уход от христианства и его культуры всё равно продолжился, хотя и на малых оборотах. Однако настоящая дехристианизация Европы была ещё впереди.
В XIX веке очередной удар по религии, следовательно, и по европейской культуре нанесли Фридрих Ницше, Артур Шопенгауэр, Карл Маркс и Чарльз Дарвин. Их атеистическая позиция расшатывала устои европейского общества, – отвергая Бога (Ницше говорил, что «Бог умер»), они отвергали сложившуюся за многие века мораль, взгляд на человека как творение Божье и следование Его заветам. На смену шли прагматизм, утилитаризм, светское обоснование эгоизма. Отнимая у человека его божественную природу, ему оставляли тварность, его заставляли себя ощущать и, главное, быть простым или не очень простым сгустком материи. А это потребовало новой этики, других отношений – как между индивидами, так и между общественными группами. Если до этого Бог был всё, Абсолют, а человек, как создание Божие, почти всё, то в новой трактовке Природа, заменившая Бога, стала Всем, а человек, её покоряющий… – чем является человек, в этой парадигме пока непонятно. Но, как заметил тот же Элиот, «…нет культуры, не возникшей и не развивавшейся вне религии: культура, в зависимости от точки зрения, порождение религии, либо религия – порождение культуры» [54]. Изымая из культуры религию, её (культуру) лишали фундамента, на котором она зиждется, и, как следствие, продолжилась деградация культуры, вступившей в стадию глубокого кризиса. А это влекло большие изменения как в сознании людей, так и в общественных отношениях, и в культуре в целом.
В поздних работах Георга Зиммеля (начало ХХ века) утверждалось, что культура, воплощая себя в явлениях и формах, вследствие их несовершенства переходит в борьбу против всякой формы вообще, а значит в борьбу против культуры как таковой. По его мнению, «моралисты, ценители старого доброго времени, люди строгого ощущения стиля по сути совершенно правы, жалуясь на прогрессирующую “бесформенность” современной жизни» [55]. Слом старых представлений набирал темп, и последней каплей, вернее снарядом, в разрушении сложившихся отношений в европейской цивилизации стала Первая мировая война. Культура при этом тоже дала трещину. Трещину, которая могла перерасти в пропасть. А как считал Элиот, «распад культуры – это наиболее радикальный распад, который может постичь общество… распад культуры – распад наиболее серьёзный и наиболее трудно поддающийся восстановлению» [56].
Осознание нарастающего кризиса культуры пришло сразу после окончания Первой мировой войны. Освальд Шпенглер высказал мысль о том, что цивилизация стала излишне рациональной, что ведет к деградации духовных ценностей и культуры в целом, что может привести к духовному вырождению и краху западной цивилизации. А Макс Вебер напротив, считал, что в ХХ веке пришла универсальная рациональность, и поэтому оценивать европейскую культуру прежними мерками уже нельзя. Она трансформировалась, – что совсем не говорит о её предстоящей гибели. Интересна и мысль, высказанная Жилем Липовецки: «Более ста лет капитализм раздираем глубоким, откровенным кризисом культуры, который можно обозначить одним словом – модернизм (представляющий собой новую художественную логику, основанную на распрях и перерывах в развитии, подчеркивающую отрицание традиций и культ новизны и перемен)» [57]. Кто из них был прав? Но вот и Питирим Сорокин, правда, спустя два десятилетия (1937 г.) добавил свою долю пессимизма: «все важнейшие аспекты жизни, уклада и культуры западного общества переживают серьёзный кризис… Больны плоть и дух западного общества, и едва ли на его теле найдется хотя бы одно здоровое место или нормально функционирующая нервная ткань» [58]. Довольно мрачно, но надо не забывать, что написано это было после Первой мировой войны и перед надвигающейся Второй.
Первая мировая и то, что за ней последовало, вызвали огромные перемены в европейской культуре. Эта война привела к разорению Европы, и, как следствие, к росту революционного движения. Революции прошли в России, Германии, Венгрии, Египте, Монголии, Китае, Португалии. Массовые волнения в 1920–1930-х гг. проходили в Великобритании, Франции, Австрии и других странах. Безработица, голод, разруха – вот результат этой войны. Можно ли удивляться, что необыкновенно популярным стало полотно, написанное ещё в конце XIX века Эдвардом Мунком, – «Крик»? Это крик отчаяния, крик ужаса, одиночества, крик больной души человека больного общества. Крик предчувствия страшной трагедии, которая случилась всего через пару десятков лет. Экспрессионизм закономерно вытеснил импрессионизм. Всё стало другим.
По-другому стало и в Соединенных Штатах Америки, где не было ни разрухи, ни голода, где, по выражению Патрика Бьюкенена, началась «эпоха секса, выпивки и джаза» [59]. Толпы американских туристов ринулись в ведущие европейские столицы, неся с собой доллары, свои обычаи и всё тот же джаз – порождение американского просперити [60]. Но не прошло и десятилетия, и оно рухнуло – пришла Великая депрессия. А в Италии уже правили фашисты, в Германии появились нацисты. Могло ли это не отразиться на культуре?
Сорокин понял, почувствовал, что надвигается что-то гораздо более ужасное, чем даже Великая война, как тогда на Западе называли Первую мировую. Всего лишь через четыре года, после приведенных выше строк, родились другие, более точные: «Мы живем и действуем в один из поворотных моментов человеческой истории, когда одна форма культуры и общества… исчезает, а другая форма лишь появляется. Кризис чрезвычаен в том смысле, что он, как и его предшественники, отмечен необычайным взрывом войн, революций, анархии и кровопролитий; социальным, моральным, экономическим и интеллектуальным хаосом; возрождением отвратительной жестокости, временным разрушением больших и малых ценностей человечества; нищетой и страданием миллионов – потрясениями значительно большими, чем хаос и разложение обычного кризиса» [61]. Эти строки были написаны уже в 1941 году, в разгар Второй мировой войны, которая затмила все ужасы Первой, до этого казавшейся апофеозом варварства и бесчеловечности. Да, это было время разрушения всех ценностей западного общества, а ведь ценности – это то, что составляет ядро всякой духовной культуры. Но Сорокин понимал: «Ни одна из форм культуры не беспредельна в своих созидательных возможностях, они всегда ограниченны… [переход к другой, новой сопровождается] острой болью рождения новой формы культуры, родовыми муками, сопутствующими высвобождению новых созидательных сил. <…> Когда наступает этот момент, она начинает постепенно разрушаться и вовсе исчезает. Так случалось несколько раз в истории основных культур прошлого; то же происходит и сейчас с нашей чувственной формой, вступившей нынче в период своего заката. Таков масштаб сегодняшнего кризиса» [62].
Первая мировая стала следствием самого масштабного на тот момент кризиса европейской цивилизации. Он носил политический, экономический (конкурентная борьба ведущих промышленных – они же колониальные – держав) и социальный характер и не мог не отразиться на культурном развитии. Если кризис рассматривать как потерю определенного равновесия со стремлением перехода к новой форме равновесия на основе создания других социально-экономических и политических отношений, то понятно, что такой кризис не мог не отразиться на культуре, причём во всех её проявлениях. Музыка, литература, пластические искусства, живопись, театр, архитектура – всё пришло в движение и требовало обновления. Другие формы, другой стиль, другие символы и способы передачи мысли и чувства стали появляться всё больше и больше.


