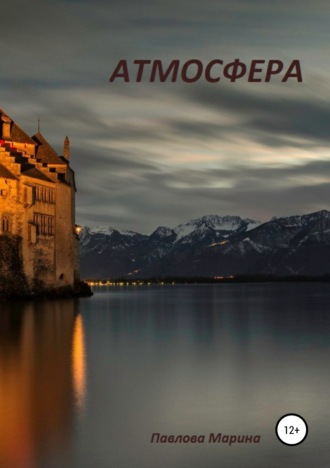
Марина Евгеньевна Павлова
Атмосфера
Ерофеев сдал задержанного Ефимову. Его смена закончилась. Но он еще немного постоял под дверью и послушал. Ерофеев хорошо знал Ефимова. И тот, судя по услышанного, действительно, как Мадьяров и утверждал, гнул единственную версию. То есть ставил на одного Мадьярова. А если учесть еще, что никто из участка не получал никаких заданий в отношении немца, то картина вырисовывалась четкая.
Конечно – думал Ерофеев – майор очень опытный человек, но разумно ли совсем отказываться от проработки немца? Да и другие подозреваемые, возможно по ходу накопаются.
Ерофеев подумал еще немного, потом глубокомысленно кивнул и оттолкнулся плечом от двери. По дороге поставил на посту в журнал закорюку и уверенным шагом вышел из одноэтажного здания центральной части Коптевской милиции.
* * *
Примерно в то же самое время Полина у себя дома успокаивала рыдающую подругу.
С этими самыми рыданиями, Неллька влетела в кухню к Полине, когда та засыпала крупно порезанную картошку в суп. В итоге половина картошки просыпалась с разделочной доски на плиту и на пол.
Нелля, что опять случилось?
Представляешь, от меня скрывали, никто мне не говорил, а мой дорогой супруг уже сутки сидит у Ефимова в КПЗ.
Твой супруг? – переспросила как всегда основательно соображающая Полина.
Ну, не муж, жених, ну не жених еще, да какая разница? Мадьярова посадили!
За что?
Откуда я знаю? Да какое это имеет значение? Сперва обвенчали бы, как положено, а потом бы уж и сажали, раз приспичело. Ефимов этот! Тьфу! Я вот сейчас отцу позвоню! Пусть гонит этого врага семьи и браков взашей!
Полина вытерла руки об инклюзивный передник и стараясь не наступать на разбросанную картошку, шагнула к подруге.
Она взяла ее руки в свои и ласково сказала – обожди. Если Мадьяров не твой жених, так почему ты так убиваешься? А если он твой жених, то так ли тебе необходим такой жених, который мало тебе совсем не знаком, так теперь еще и в тюрьме сидит?
В КПЗ.
Ну, в КПЗ. Нет, он может оказаться совсем неплохим парнем, но тебе не кажется, что это уже через чур? По-моему, брак, к которому ты так стремишься – это не веселая беготня, не игра, а, извини за занудство – очень серьезная вещь – ответственность, дети. А ты поставила себе какую-то забавную цель и все никак не останавливаешься. Пойми, сейчас это уже так не смешно, как было в начале.
Это ты ничего не понимаешь. Зэками вон многие женщины не брезгуют. Пишут им со свободы. Зэки это очень ценят. Выходят из тюрьмы и женятся на них. Точно! Как вовремя я об этом вспомнила. Пожалуй, подожду просить отца Ефимова увольнять. Пусть лучше записку моему любимому передаст. Как она… ммм… Малява. Точно! Ну, пока. И Неллька унеслась, не забыл пихнуть у порога недовольно звякнувшие часы
Полина всплеснула руками – ну что с ней поделаешь?
* * *
Сержант Ерофеев прошел почти через весь город на север, в его крайный район, заслуженно называемом Раздолье, где частные домики уже не толпились в городской тесноте, где на заливный лугах Шустринки уютно хрумкали травой коровы. Вот впереди и дальняя улочка, где в самом крайнем, стоящим на отшибе доме, жила цель его пешеходной прогулки – молочница.
Ерофеев пересек Пасечную, прошел Медовым переулком, оглядывая окрестности в поисках статной пожилой женщины. Но молочница, которую все звали тетей Нюшей, находилась сейчас именно в том месте, в котором как можно чаще стремятся находиться все хорошие молочницы – возле своей коровы. Ее доенная по часам Зорька – городская рекордсменка стояла в чистом коровнике, на только что поменянной подстилке и чувствовала себя, по всему видя, замечательно.
Теть Нюшь – нам бы поговорить.
А, милок, заходи, хочешь парного молочка?
Не, спасибо. Пойдем куда-нибудь присядем?
А чего ж с хорошим человеком не поболтать. Иди в залу. Я щас.
Следующие полтора часа Ерофеев слушал тетю Нюшу – женщину работящую и во всех отношениях достойную, только, к сожалению, ничего толком не сумевшую сообщить по поводу интересующего Ерофеева дела.
Немец, по словам опрашиваемой, был с ней всегда вежлив и всегда платил за молоко за день вперед, иногда она крупные деньги ему в городе разменивала. Он никогда не заставлял себя ждать. И всегда калитка в заборе к ее приходу была уже открыта. Немец же поджидал ее в холле дома со вчерашней литровой банкой в руках. И у них тут же на пороге происходил обмен банок пустую на полную. Правда использованную банку немец никогда не мыл. И тетя Нюша тратила дома лишнее время на отдирание с горлышки банки засохшего желтого жира.
У Зорьки моей молоко знаешь какое, хошь ложками ешь – не без гордости добавила хозяшка.
А так немец человек хороший, справный, п…п….пуктуальный. В общем, никаких с ним хлопот нету.
Тетя Нюш, значит Крафт открывает калитку на улицу не всегда при вас?
Не. Не всегда. Но в холле он меня всегда встречает. Ни разу ни минутки не ждала.
Тетя Нюша, а холл его вы хорошо рассмотрели?
Знаешь, сынок, немец, конечно мужчина обстоятельный, но только с таким особо не поговоришь. Поэтому баш на баш у нас скорый, деньги на бочку и я домой отправляюсь. Да и смотреть в холле этом особенно не на что. Все как было до него, так и осталось. Ну, в потолку он там что-то подправил. А так – все как есть прошлый век. Помнишь, небось?
Мда… Так вы, что же вообще никогда ни о чем не говорите?
Нет, ну, я то, конечно, говорю. У нас, сам знаешь, как-то не по обычаю человека молча обслуживать. Я ему иногда новости городские рассказываю, кое-чего про себя, а то живет человек совсем затворником, разве это хорошо? Но это все быстро, на ходу. Вижу, человек торопится, я и прощаюсь.
А куда же он торопится?
Этого не знаю, дела у него какие-то наверху.
Почему вы так думаете?
Да гудит у него там обычно что-то. А то, как будто пар или, может, туман под потолком висит, а то иногда и с потолка капает.
То есть опыты он какие-то проводит.
Да можно, наверно, и так сказать. Ну то уж – не мое дело.
Значит, вы немцем так довольны, что прямо пылинки с него сдуваете?
Почему пылинки, когда у него с Эдиком ссора случилась, я ему утром свое мнение выложила. Не боись, если чего надо сказать, у меня не заржавеет. А только лишне обижать приезжего человека – тоже нехорошо. У него и без того, куда глаза не кинь и стены и луга чужие. Попробуй-ка привыкни к неродному краю. То-то и оно.
Тетя Нюша, а если я вас попрошу повнимательнее холл осмотреть, ну может обойти его кругом, стены оглядеть, ощупать и мне рассказать.
Слушай, сынок, не по людски это как-то, тихушничать то. Не знаю…
Вот вы говорите, что к приезжим плохо относиться нельзя. А у нас сейчас другой приезжий в кутузке сидит. А если он и не виноват вовсе, это как, по-людски?
А если ты на немца напраслину возводишь?
Так мы и хотим разобраться, увериться, что с Крафтом этим все в порядке. А вдруг это он все-таки виноват в пропаже официанта? А если это он и брата его в гроб положил? Поможете нам, тетя Нюша – городу неоценимую пользу принесете. В конце концов кто вам дороже, земляки или приезжий невесть кто?
Своя рубашка, конечно, ближе к телу, это ты прав. И если ты немца только проверить хочешь и если все в порядке оставить, а не беду на человека накликать…
Тетя Нюша, я что маньяк какой? Надо же нам что-то с этой пропажей делать. Не мешок ведь с картошкой пропал – человек. И так, кроме пацана, никто ничего не видел, не слышал. Да и пацан, собственно, ничем не помог. Ну так как?
Ладно, согласная я…
Хорошо. Тогда так договоримся. Завтра пойдете относить молоко. Он какой дойки берет?
Обеденной.
Ясно. Я завтра во сколько? Без пятнадцати два приеду и к немцу вас отвезу. Вы в калитку зайдете, а я в этот момент ему по телефону позвоню и постараюсь его немного задержать. Он оформил городской телефон, по нему я и позвоню. У него аппарат где, на втором этаже стоит?
Не знаю, только на первом хлам один.
Ну, ладно, попытка – не пытка. На второй этаж не попасть, так попробуйте на первом чего-нибудь подозрительное обнаружить. Если вообще ничего не найдете, это тоже результат. Верно? Ну, как, договорились, что ли?
Так ты отвезти меня желаешь? Ай, какой молодец. Только знаешь, милок, у меня перед немцем еще три клиента. И почти на разных концах города. Опять же мы не немтыри какие, что б молча банками перепихиваться. Надо ж с людьми хоть парой слов перемолвиться. Так, что ты уж в час приезжай без этих самых пятнадцати минут. К немцу как раз к двум и поспеем.
Ладно, в час – вздохнул Ерохин.
Вот и договорились. Ну, ладно, пора Зойку обратно вести. Прощай, сынок…
На следующий день Ерохин отпросился на патрулирование города и на служебной машине, в форме и при полном вооружении прибыл в назначенный час.
Тетя Нюша процесс загрузки молока в багажник милицейских Жигулей превратила в парад «Але» и, несмотря на отдаленность своего дома умудрилась стянуть к нему кучу народа.
Герасимовна – это тебя что ж вместе с молоком заарестовали или одно молоко без тебя? – смеялись соседки.
Как бы не так – отшучивалась сияющая молочница – это нам дояркам теперь такой почет выходит. Милиция рейд проводит против молока скисания. Щас мигалку врубит, зверюгой заревет и враз куда надо доставит.
Слышь, Герасимовна, а нельзя ли и нам таким сержантиком разжиться?
У тебя, Димитриевна, заслуги еще щ не те!
Ерофеев нервно улыбался, глядя на этот веселый бардак. Как же я не догадался предупредить ее, что б рот на замке держала. Ах ты! Теперь до Ефимова точно дойдет. Мало того, что свою игру втихоря затеял, так еще и в рабочее время таксистом подрядился. Плохо дело, раз уж сразу не заладилось, значит труба.
Ерофеев поглядел на гордо восседающую справа тетю Нюшу и решил – ладно, доедим, ссажу ее и протрублю – отбой. Лучше за таксиста по шее получить, чем за шпиона без башки остаться.
Однако, когда они наконец добрались до немца, Ерофеев передумал – и чего я, собственно, задергался? Теперь уж надо до конца идти. Если узнаем чего, так хоть козырь какой в оправдание останется. А что до немца наши дела дойдут, так это маловероятно. Затворник, он затворник и есть. В общение не вкладывается, информации не имеет.
Ерофеев поглядел на молочницу и снова напрягся. Заслуженная доярка походила теперь на активную революционерку. У нее раскраснелись щеки, заблестели глаза, платок сбился далеко на макушку и вообще вид она имела отчаянно заговорщеский.
Ерофеев помянул недобрым словом Мадьярова, втянувшего его в эту историю. Чем ты только думал – ругал он себя – она ведь не разведчица в самом-то деле. Ну не умеет человек свои эмоции прятать. Она только на порог взойдет, немец сразу все поймет. Даже если не при чем поймет, а уж если в чем замешен, я тогда вообще не знаю…
Тетя Нюша, я передумал. Не надо никакой партизанщины. Отдадите молоко, как обычно и назад. Я вас домой отвезу.
Что это ты милок… Сам же уговаривал, а теперь струхнул? Нет, уж, паря – так дела не делаются. Я своего слова назад никогда не беру и ты от свово не отказывайся. Ты меня настржал, и я теперь тоже знать желаю, не антихристу ли Зорькино молоко ношу. Ну? Где тут твоя бандула с антенной? Бери на изготовьсь. А я пошла.
Ну не знаю – сомневался Ерофеев. Ладно, действуем, как уговорено, с одной добавкой. Вы как к немцу зайдете, скажите, что радость у вас сегодня дома. Внучек, мол, приехал. Договорились?
А Митьку мне в это дело зачем впутывать?
Эх, совсем плохо, что она там найдет, сыщет этот? Какая она помошница!
Никого мы впутывать не станем, а только щеки ваши красные и вид оживленный Митькиным приездом прикроем. Ясно?
А, ну, ну…
Когда тетя Нюша уже выгружала с сиденья свое крупное, сбитое тело, Ерофеев, понимая бесполезность просьбы, все-таки попросил – теть Нюш, вы там хоть постарайтесь себя вести как обычно, ладно?
Не боись, сынок, чай не дура.
Ерофеев тоже вышел из спрятанной за березой машины, прикинул расстояние до дома, прибавив путь по территории за забором и учитывая скорость передвижения молочницы. Постоял еще минуты три и потянулся через водительское окно за телефоном. Потом передумал и забрался на водительское место, потихоньки прикрыв дверь. Набрал по памяти номер, послушал длинные гудки. Когда в трубке раздалось громкое недовольное – алло, заорал жизнерадостным голосом, стараясь, что б он звучал постарше – Серега, Серега, алло, это ты?
Кто это – так же недовольно спросили на том конце.
Ну, даешь! Вот уж даешь! Что ж ты, друг ситный своих не признаешь?
Извольте представить себя, иначе я вешаю трубку.
Знаешь, парень, это уже как-то даже обидно. Я-то твой голос сразу узнал. А еще говорил… Ладно, даю наводку – Москва, Институт, кафедра «Общей физики». Ну?
Я не узнаю вас и у меня нет никакого желания играть в угадайку.
Ладно, а если я еще и год уточню?
Я вешаю трубку.
Да уж…, а я то думал, ты обрадуешься, от тебя – то звонка, небось не дождешься, хотя я – то в отличии от некоторых, все на том же самом месте сижу. Да… какие временя были. А помнишь, как мы в студенчестве портвейн из горлышка пили? Аллейку с деревянной скамеечкой, помнишь? Ах, как мы игриво-нервно пугались, что нас за выпивкой застукают. Институт – то в двух шагах! Да и менты так и рыщут. За это и из института вышибить могли. А уж комсомольская организация верняк всласть навизжалась бы. А помнишь замдекана у нас какой строгий был… Эх, а зато сколько удовольствия! Никакое самое дорогое вино во взрослой жизни таким классным уже не казалось. И такого куража, согласись, уже не вызывало.
Послушайте, кому вы звоните?
Как это кому? Тебе!
Назовите имя.
Сергей!
Ну, дальше, дальше.
Сергей Петрович Миркин.
Я с самого начала вам сказал, что вы не туда попали.
Не туда? А вы, простите кто?
Какое это имеет значение? Я не тот, кто вам нужен.
А как же ваш голос? Так на Серегин похож.
Потому, что я сам Серега – хмыкнули на том конце и отключились.
Ерофеев очень аккуратно отжал клавишу отбоя и бесшумно положил телефон на панель. Работали только руки. Тело в избежании лишнего шума оставалось недвижимым.
Ерофеев немедленно напрягся. Он давно знал за собой – такая точность и неслышность появляется у него когда рядом засела цель – преступник – не пустышка, не полуотработанный и потенциальный, а именно тот, который им нужен, которого они ищут. Матерый, опасный не только для гражданского населения, а и для них самих, вооруженных, тренированных молодых мужчин.
Тоже самое творилось с Ерофеевым – в явном, очень сильном выражении, когда Пелагеев сын Петро, знакомец всем городским окраинам, как часто рядившийся на убой домашней живности, в какой-то момент померк рассудком и чуть саму Пелагею не загрыз, соседи насилу отбили. Наша милая стародавняя привычка всегда разбираться своими силами без вмешательства властей, даже когда до них рукой подать, дорого обошлась городу. А ударившемуся в бега Петру становилось все хуже, последние человеческие искорки прогорали в его воспаленном мозгу. С звериной кровожадностью он приобрел и звериную осторожность и звериную реакцию. Ему не требовался больше ночлег, душ и уж совсем не требовались средства и атрибуты приготовления пищи. Он кушал все, что мимо пробегало и не тратил время на дерганье перьев.
Его искали по всему городу и по всем ближним деревенькам. Искали долго. А взяли в собственном доме, куда больной рассудок пригнал Петро закончить дело, с которого начал.
Ерофеев тогда не сидел в засаде. Они сорвались всей сменой по звонку и двигались пешком, потому что покосившийся от времени домик Пелагеи стоял на Красина, то есть всего в двух кварталах от участка. И чем ближе подходили они к дому, тем сильнее хотелось Ерофееву как можно тише ступать и затаить дыхание и попросить у ребят о том же.
Ерофеев не раз анализировал это чувство и пришел к конечному выводу, что анализу оно не поддается. Выходит в нем сидит его собственный счетчик – такая серьезная, мощная интуиция, интуиция – мама. Предупреждает, активизирует.
Сегодня предупреждение работало остро.
Выходит Крафт – тот, кто нам нужен, выходит Мадьяров – прав. И значит Ефимов, поставивший на Мадьярова, ошибается. Но Ерофеев прекрасно понимал, что если он придет к майору и расскажет ему на чем, собственно, основываются его подозрения, Ефимов уже никогда не сведет с него своего контролирующего ока, возьмется лично отслеживать его работу и внеслужебную жизнь, а первым делом, конечно под каким-нибудь предлогом подошлет к нему доктора соответствующей специализации. Ефимов любил повторять – у милиции должны быть не только чистые руки, но и светлые головы и крепкие нервы. В наших рядах не место психам, выскочкам и бездельникам. Психов Ефимов ставил в своем перечне опасных штатных проблем на первом месте.
Ерофеев знал также, что и у ребят никогда не найдет понимания. А стоит ему хоть раз рассказать про себя нечто подобное, как он обречет себя до конца жизни на вопросы типа – Ерофеев, а сейчас у тебя в какой ноздре засвербело?
И все-таки Ефимов ошибается – подумал еще раз Ерофеев. Он приоткрыл не захлопнутую дверцу, но с сидения вставать не стал. Позиция – двухрядная – и выскочить из двери – секунда экономии и машину с места рвануть – не помеха. Где же тетя Нюша – пора б ей уже и явиться.
Он увидел ее, когда она только выступила из калитки. И хотя первое, что должно было броситься ему в глаза – кровь на лбу – поражение лобовой части лица примерно на тридцать процентов, то есть кровь сочилась из немного нимало трети лба, Ерофеев вовсе не на кровь вначале среагировал. Он среагировал на отсутствие улыбки на полном лице молочницы – он вдруг понял – тетя Нюша раньше все время улыбалась, даже когда говорила о серьезных вещах. Мимические морщинки, складывающую лицо в улыбку работали, видимо, так часто, что ее остаточный свет никогда не уходил с лица, лукавинкой щуря глаза, и не разглаживая до конца уютные складочки возле рта. Улыбка была настолько присуща ее круглому лицу, что без нее лицо выглядело почти незнакомым. Изменилась и ее уверенная, спорая – шаг – гвоздь в землю, походка. Крупное тело тети Нюши не заносило в стороны и оно не выглядело так, будто готово завалиться в обморок. Но двигалось женщина ощутимо неуверенно. Навстречу Ерофееву, шла узнаваемая, пожалуй, лишь по халату старческой расцветки и белому платку пожилая измученная, да еще и раненая женщина.
Тетя Нюша, это он тебя так?
Женщина, поддерживаемая Ерохиным, продолжая, не обращая внимания на лоб, обеими руками прижимать чумазую банку к груди, тяжело ввалилась в салон и без сил откинулась в кресло. Ерохин рванул заднюю дверцу, схватил аптечку, одним движением вытащил марлю и перекись водорода. Короткими, как учили, прикосновениями обработал лоб. Основной участок поражения оказался все же не таким большим, как представлялось в начале. Главный удар пришелся на верхнюю часть лба, правую сторону, с которой вяло сочившаяся кровь затекала вниз. Рана не была глубокой – колотой или резанной – скорее содранной, но под руками Ерохина прямо на глазах вырастала острая шишка.
Ерохин ужасно подмывало начать расспрашивать о немце, но чувство опасности никак не отпускало, наоборот, даже немного усилилось, бухающими ударами гоняя насыщенную адреналином кровь по венам и заставляя в поиске опасности припадочно озираться назад. До возвращения молочницы, задача Ерохина – тихая засада: внимательное бездвижье, беспокойство за ушедшую, теперь изменилась. Тетя Дуся вернулась и с ее возвращением сменился центр опасности, возможно переместившись ближе к Ерофееву, словно она могла привести его за собой и уж точно сменился уровень его ответственности. Одно дело отмахиваться самому, а совсем другое, загораживать женщину, мало годами не очень молодую, да еще и занимающуюся одним из самых далеких от милицейской черноты дел – молоком!
Этим мыслям Ерохин еще позволял подпрыгивать в голове. Но дальше, в голову, как логическое завершение мыслей попрыгушек, перла уже совсем забивающая – ты Ерохин – дурак, влез в главную партию со своей убогой инициативой и проиграл ее. Мыслитель хренов! Достаточно поглядеть на лоб тети Нюши. Ерофеев хорошо знал, как долго заживают ушибы у пожилых людей и он знал, как ушиб, выглядевшая сейчас шишкой на правой части лба, скоро расцветет всеми цветами радуги, называемым общим словом – синяк и как долго будет путешествовать сперва над глазами, потом под глазами, пугая товарок тети Дуси красотой ее личика от иссеня-черной до светло-желтой палитры.
Подставил я ее, подставил, закинул в неизмеренное опасностью место и даже никак не подстраховал. Урод я, тупое самодовольное ничтожество! Ее же там вообще убить могли и она могла оттуда совсем не вернуться, никакая, ни битая, ни небитая. Как профессор, помнишь такого, или позабыл уже?
Все – обрубил себя Ерохин, если ты сейчас в панику свалишься, то ошибки могут быть еще страшнее. Сейчас – самое главное спросить, узнать, тогда уж мои действия только на два варианта раскладываются. Уж с раз-два мои мозги, как-нибудь справятся
Тетя Нюша, это он тебя?
Ой, что ты, нет сынок. Ты уж прости меня, сынок, ничего я интересного не узнала, только морду себе, дуреха разбила и немца озадачила. Ты домой-то меня, касатик, уж свези, голова то у меня все ж таки неспокойная…
Скажите тоже, тетя Нюша, да неужто я вас посреди дороги брошу! И Ерохин сделал то, что ему уже давно хотелось сделать – отдохнуть, отодвинуться от гнета опасности. Он завел резким движением мотор и, заставляя себя не визжать покрышками, степенно уехал из-под прикрытия березы. В любом случае, сейчас мы оторвались, не на вертолете же он за нами погонится. Когда милицейская машина, издавая гремящие звуки, отвезла их квартала на три, тихонько спросил – теть Нюшь, может все-таки в больницу?
Еще чего. Эх, милок, да я, бывалоча об притолоку на галдерейке как саданусь, аж искры из глаз и свет божий потухнет, да и то ничего. Шишка, вишь какая вострая растет. Потому, что место это сто раз битое перебитое. Я сейчас и приложилась – то вскользь, больше перепугалась. Давай-ка мы с тобой до дому доедим, я чайник поставлю и расскажу тебе все-таки обо что я, тама голову разбила. Особо не надейся, толкового мало, но я знаю, вашему брату любую мелочь надо говорить. Не, аптека нам не к чаму. Есть у меня дома мазь от ушибов, ха, ха, ха, да и голова толоконная. Ниче!
Они сидели на тети Нюшиной кухне, где почти все предметы имели какое-нибудь отношению к молоку – такой мини заводик по производству молочных продуктов. Ерохин вовсе не требовалось быть здесь внимательным, но он знал, что глаза уже автоматически фиксирует предметы и после осмотра также автоматически сделают по помещению вывод. Кухня – значит, в первую очередь уровень чистоты, потом ценовое выражение – соответствие доходов и стоимости содержимого, а уж потом – мозги и руки хозяина – умение организовать рабочий процесс.
Кухня молочницы – обычное для русских вместилище чистоплотности и критически низкого уровня доходов. Чисто простиранные с аккуратными краями куски марли теснятся над оттертой до блеска плитой. Банки от трех до литровых лежат вверх прозрачными боками на разделочном столе вдоль стены. Мебель самая простая, самодельная. Но оба стола накрыты кокетливых расцветок довольно новыми клеенками, дешевыми и чистыми, им в тон на проволоке и гвоздиках – занавесочки. Деревянные закопченные стены, плитка за раковиной, щербатый пол – все отчаянно изношенное. Надо бы помочь с ремонтом – не загадывая. А так хорошо, уютно.
Поставив на плиту чай, хозяйка уселась напротив Ерохина – чай торопишься, так слушай – началось все удачно – калитка открыта, на пороге никого. Слышу он где-то далеко наверху с тобой, наверно, говорит, а слов не разберу, ну и ладно думаю – у меня ведь совсем другая задача. Верно, ведь? Поставила молоко к стенке у порога. И так, прямо слева начала обход. Ступаю тихо, под ноги поглядываю, а руками стену ощупываю. Иду себе и иду. Все вроде так, как мне от порога и виделось, будто ничего вовсе и не изменилось. Только знаешь, одна странность все-таки была – хозяйки такие вещи сразу примечают. Понимаешь, пол, как будто все же убран, а вразлет цементные камешки лежат. И уж на что на сером цементе пыль – то не особо разглядишь, а эти уж очень запыленные, да еще и с паутиной. Свету всего ничего от открытой двери, а все равно видать. Понимаешь?
Не очень.
Ну, я хочу сказать, что по идее, пол и камешки эти одинаковой чистоты должны быть, и если пол недавно метен, то откуда на камешках на полу пыль и паутина столетняя? Будто кто-то сперва потрудился-прибрался, а потом по чистому полу грязные каменьями разбросал. Чудно как-то, верно?
А может эти камешки с потолка нападали?
Современный цемент? Ну хорошо, края второго этажа немец как-то укреплял, оттуда что пачканное свалится могло, но зал – то там знаешь каких размеров. Вот у тебя когда-нибудь со стола что-нибудь падало? Или наша милиция от этого заговоренная?
Почему? Конечно, падало.
Ну и как? Все что не упало, шлепнулось и в разные стороны разлетелось, разлилось. Да?
Наверное.
Ну, вот. И тут также. И чем больше я пол тот вспоминаю, тем больше уверяюсь, что никак по другому это происходить не могло. Пол подмели, камушки запылили и наклали. Как теперь говорят – создали интерьер.
Ну, ладно, допустим. А еще чего-нибудь интересное видали?
Ну вот. Переступаю я так по стеночке, уж вся запылилась, а никак ничего не нащупаю. И вдруг слышу – голос немца близко совсем. Уж и слова разбираю – что-то про какого-то Серегу. Я голову – то резко к лестницу поворачиваю, оглядываюсь чтобы, значит поглядеть, насколько близко он уже подошел, видит меня партизанку али нет еще. И тут…
Что?
Бьюсь лбом невесть обо что. Об воздух, получается. И хоть по башке-то меня сильно садануло, а я дело помню – вскачь к порогу вертаюсь, да еще на ходу халат отряхиваю, платок оправляю. Зорька да и бывшие мои коровенки подвижность у меня развили, с ними чуть зазеваешься, когда они, вишь ли, не в настроении, хвостом по физии враз огреют. Ну, вот, хватаю банку и замираю, а он уж вот туточки – почти с лестницы спустился. А я чую – голова гудит, да и мокро как-то во лбу – не иначе кровь, а до лба коснуться почему-то не смею. А главное никак не могу удивление с лица прибрать, глаза так и пучатся. А Сергей Оттович как увидели меня, так прямо и всполошились, ах, ах и где же вы, уважаемая, голову так сильно расшибли? Вроде сочувствует, а голос ехидный такой. Я говорю – вот, шла, шла, да упала, и про притолоку еще с дури за каким-то лядом понесла, никак остановиться не могу. А он слушает, кивает, только вижу – ни одиному слову не верит. Однако помощь предлагает – пройдемте – говорит, уважаемая, со мной – я вашу рану обработаю и руками с грязной банкой манит, так манит. Голос такой ласковый, уговаривающий, а глаза, что твой лед. И ведь ни в жисть никуда пройти не предлагал. И знаешь, взяла меня жуть. Я банку свою ему пихаю, его – прямо из рук рву, денег ждать – даже в голове нету и драпать – благо дверь настежь. Драпать – это, я конечно, сильно сказала, скорости-то нету никакой. Думаю – догонит он меня сейчас – враз догонит, еще по башке добавит и прощай Зорька. Но вишь, ничего, обошлось.
Теть Нюш, вы бы поточнее про удар о воздух вспомнили. Представьте, как вы стояли, насколько резко повернулись. Вы, когда по стенке шли, вам, ведь ничего не мешало, выходит препятствие где-то за вашей спиной или с боку появилось. Вы все-таки повернулись или оглянулись?
Оглянулась, потому как стояла я к стенке лицом, к лестнице спиной. А он должен был на лестнице появиться.
А не могло там ничего висеть? Какая-нибудь лампа, ну я не знаю.
Какая лампа, там на первом этаже и свету-то нет. По крайности я ни разу горящей лампочки не видала.
Хорошо, а тогда не мог сам немец в вас чем-нибудь кинуть.
На этот раз молочница надолго замолчала. Потом два раза повторила – кинуть, кинуть. Знаешь, сынок, попасть меня в тот момент все же тяжело было, несподручно, голову-то я поворачивала, правда и удар такой получился, вскользь. И все равно, не вериться мне, что он такой прямо снайпер, расстояние-то до лестницы прилично. И булыжник здоровенный быть должен, что б так много места на лбу зацепить, такой меня, пожалуй и вовсе бы пришиб. Похоже это больше всего было именно что на невидимою стену.
Выходит так. Шла я боком. А голову резко повернула и еще немного нагнула, что б всмотреться. Так что не обязательно преграда эта откуда-то в тот момент появилась. Скорее всего она там и до этого стояла, только мне не мешала. Так я думаю.
Тетя Нюша, так обо что вы все-таки стукнулись о стекло, метал, деревяшку? Вот притолока у вас, о которую вы бились – деревянная. Похоже?
Милок, ты чего шутишь, что ли. Когда искры из глаз – так тебе все равно обо что ты саданулся. Хотя знаешь, дерево оно нехолодное. А там мне показалось, вроде холод… Не знаю, не могу я тебе больше ничего толкового сказать. Прости уж. Поручение твое не выполнила.
Это вы меня простите. Если бы я вас не уговорил по холлу пройтись, был бы ваш лоб сейчас целехонек. А сейчас лягте, тетя Нюша, отдохните. И простите меня, пожалуйся.
Брось парень, я на тебя не в обиде. Да если б меня, как сегодня на зависть честному народу при полном твоем почтении на машине катали, я б согласилась каждый день лбы расшибать. И молочница, придерживая голову тихонько рассмеялась.
* * *
Безо всяких событий прошли еще пять дней. На утро шестого из КПЗ выпустили Мадьярова. И то потому, что вмешался мэр.
Ефимов, его срок задержания вышел давно. Что ты себе позволяешь?
Моя воля, он бы тут еще на месячишко задержался…
Ну знаешь, у тебя там не частная лавочка. Ты поставлен закон соблюдать, вот и блюди. Или по работе участкового соскучился?
Ладно, сегодня выпускаю.
Если бы у Ефимова в кабинете среди телефонов и раций имелся хотя бы плохенький видеотелефон, или к этому моменту уже изобрели СКАЙП, он конечно увидел бы, как при словах «что ты себе позволяешь», стоящая рядом с мэром блондинка довольно закивала. А при словах про участкового, зажимая себе рот, захихикала. А если бы у Ефимова был не кое-какой, а качественный видеотелефон, он бы непременно узнал в девушке рядом с мэром, его дочь Нелльку.
Ефимов, конечно, ничего не увидел, но настроение городского начальства понял очень хорошо. Он не припоминал такого грозного наезда главы города. И даже не стал сейчас ломать себе голову над вопросом, кто в малознакомом Мадьярову городе встал на его защиту, да так убедительно, что рассердил обычно уравновешенного мэра. Поэтому, не проводя больше не одного допроса, немедленно «выписал с исправления» задержанного. И опасаясь жалоб, даже хвоста к нему не приставил. Он только подумал – ну, ну… И все.
* * *



