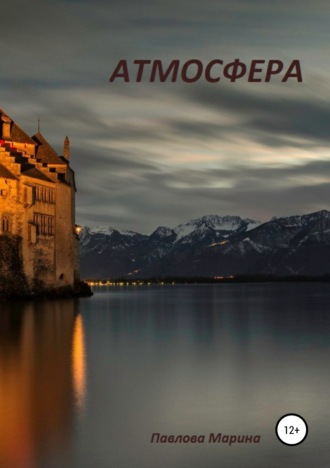
Марина Евгеньевна Павлова
Атмосфера
За эту благотворительность перед парочкой поставили ряд условий. Заведующий Дома культуры потребовал абсолютной тишины во время проживания и обещания жильцов тщательной уборки помещения перед отъездом. Крафт – ни одного митинга у его дома более (хитрая Манька была права – ее выступление хозяину категорически не понравилось). И милиция тоже сказала свое слово – ни капли спиртного в рот. За нарушение каждого правила парочку ждали высилки. Как лично пригрозил бомжам Ефимов – не пожалею ГСМ – вывезу километров на пятьдесят в чисто поле.
Первую неделю бомжи вели себя строго. Варились в собственном соку. Митька радовался покою и регулярно поступающей еде, но Манька скоро начала задыхаться в замкнутом пространстве. Ей требовался простор, кураж и благодарная публика.
Скоро слух о месте жительства бомжей по городу, разумеется, прошел и к бывшей подсобке Дома культуры потянулся народ. Кто-то поругался с женой, кому-то просто стало тоскливо, захотелось развеяться. Нашлись, и как всегда театральные эстеты. Народ быстро превратил небольшую комнатенку в клуб по интересам. Когда вместе собираются много народа, тихо это не получается никогда. Таким образом, первое из условий проживания скоро было нарушено. Но заведующий пока не вредничал и бучи не поднимал – поздний вечер – ночь – все-таки не рабочее время. Но бомжам визит нанес – если только… так сразу!
Мужики парочку не дразнили – рядом ни пили и уж, конечно, не приносили с собой. Но долго так продолжаться не могло. Неделя воздержания – для Маньки срок убийственный. И она использовала все свое мастерство и остаточное обаяние, что б заполучить заветную бутылочку. Да хоть стакан – молящее впивалась артистка в глаза очередного посетителя – а я бы, для тебя бы – да что хошь! Манька пробовала поиграть в любовь с каждым и конечно, как это всегда бывает, в одном слабину все-таки нашла. Неизвестно как она отблагодарила поставшика беленькой, и успела ли это сделать вообще, но когда пол-литра провались в ее ненасытном горле, на Маньку от долгого аскетизма посыпались с неба искры и она вошла в такой раж, что три здоровых мужика едва удерживали ее на месте. Митьке не досталось ни капельки, поэтому он в добавление к держащим рукам, трезвым голосом молил супружницу – Манечка, золотце, остынь. Куда ты рвесся? Ну выпила, нарушила, посиди тихонько. Нельзя ведь нам… Живем тут как у Христа за пазухой, на всем готовом. В кои времена такое везение!? Манечка, помилосердствуй! Больно ж не охота опять спать под дождем, а как морозы грянут? Вспомни, как ты в прошлом годе до самого лета кашляла – думал уж конец тебе, сердценько мое. Манечка, ну будь хорошей, присядь на табуреточку.
Манька сперва из рук рвалась. Орала – пусти, дурак и норовила нахлестать мужа по круглой лысине. Потом обмякла и позволила усадить себя на колченогий табурет. Еще полчаса понадобилось ей на усыпление внимания супруга и гостей дома. Когда компания увлеклась игрой в подкидного, Манька, сославшись на недомогания, улеглась на наваленное в углу тряпье, служившее супругам кроватью и накрылась старым тулупом. Еще минут двадцать мужики, особенно Митька с недоверием на нее поглядывали, но тут к супругам ввалились новые гости, создавая в небольшом помещении эффект трамвая в час пик и про неподвижно лежащую Маньку скоро забыли. Чем она не преминула воспользоваться – еще через несколько минут, никем не замеченная, успешно смылась.
Манька бежала по улицам, безудержно хохоча и подставляла ледяному влажному ветру свою непокорную головушку. Ноги сами принесли ее к дому немца и ей даже не пришлось откашливаться перед очередной изобличающей речью.
Эй, ты, там, на верхотуре – с лету заорала Манька хорошо поставленным голосом – выйди на час, давай потолкуем, хучь разок! Али боишься? Ты что ж мнил, непотребный – Маньку – артистку купить можно? Ах-ха-ха! Какие-то гроши сунул – и считал – откупился? Ах, ты мать честная. Дай-ка хоть взгляну на тебя, рыдван-благодетель! Ишь привычку взяли – прятаться от народа! Не делай вид, что не слышишь, окна-то у тебя, вон еще без стекол.
Откуда деньги-то у тебя на наш дом взялись! А? Мы тут все трудовой народ – работаем, только на усадьбы чтой-то не заработали. Кого ты, постылый, обмануть хочешь? Знаю я откуда у тебя средства. Я все о тебе знаю! Это тебя, а не нас в кутузку сажать надо, да не в КПЗ, а прямо в тюрьму без суда и следствия. А про грешки твои расскажу – все расскажу, даже не сумневайся! Поедешь, милок на черном воронке в месте не столь отдаленные! Вот узнаешь тогда, почем литр молока. Я думала – миром с тобой дело уладить, а ты вон как, не уважаешь – даже повидаться не желаешь, ну так гляди… Все знаем, понимаем, ума еще не лишись. Вот тебе мое слово – все расскажу – покончу с тобой оглоед раз и навсегда!
Неизвестно что творилось в Манькиной забубенной голове. Может ее с угрозами занесло куда: распахнулись двери – нашло озарение – с артистами такое случается, а может давила Манька на твердый расчет – у каждого человека по скелету в шкафу значится. Только у Крафта от такой наглости у самого в голове помутилось Он звонил Ефимову, орал и даже не пытался сдерживаться.
Я – кричал в гневе Крафт – взял на себя эти сверхлишние расходы из одиного милосердия. Хотя не в моих правилах так безалаберно выдавать деньги. И какое я имею за это спасибо? Какая-то пьяная, невероятно опустившаяся женщина на всю улицу угрожает мне, оскорбляет меня и несет всякую чудовищную глупую околесицу! Что за порядки в вашем городе? Я вас спрашиваю! Немедленно прекратите это хамский балаган и освободите меня от оскорблений. Или вы, голубчик с одной алкоголичкой не в состоянии справится? Тоже мне, блюститель закона! Предупреждаю последний раз – позвоню вашему начальству и потребую освободить вас от занимаемой не по праву должности!
Крафт еще что-то кричал в пустую, брошенную на стол трубку, а Ефимов уже выбегал на улицу. Распугивая кур и окатывая прохожих из луж грязной водой, несся милицейский воронок по городским улицам и через пятнадцать минут вырывающуюся Маньку, брезгливо тягая ее за шкирку, уже запихивали на заднее сидение. Ни в чем не повинного Митьку решили не трогать. Он, обнаружив пропажу супружницы, подоспел к ней позже воронка. И вел себя с трезвой головы до чрезвычайности спокойно. Но когда до Митьки дошло, что Маньку от него увозят, он засеменил следом, мешался и дергал двери. Наконец, обессиленный плюхнулся на колени прямо в лужу. И, сидящий за рулем Ерофеев утопил педаль газа.
Посуленных Ефимовым пятидесяти километров, как и чистого поля не сложилось, в связи с недостатком дизеля. Отвезли на тридцать и выкинули на околице небольшой деревушки. В салоне сразу стало непривычно тихо и легко дышать. Пока машина разворачивалась на узкой дороге с узенькими обочинами над обрывами, поднявшаяся после падения Манька успела приклеиться к водительской дверце и из-под косм на лице, заглядывая в глаза Ерофееву, кричала – сынок, сынок, ну ты – то нормальный человек, так разбери по совести, за что меня завезли и бросили. Ну, жлобы, куда ж вы все смотрите! Сынок, приглядись ты к этому немцу, ты ж милиционер! Через него терплю, через эту личность неправидную. Неужто и правда не видишь кто он такой, глаза-то свои пошире раскрой! Тать он немец-то ваш…. Набирая скорость и подпрыгивая на кочковатой дороге Ерофеев слышал за спиной – затихающе горькое – сынок!
Ефимов, предпочтя заднее грязное проваленному переднему и разглядев в трясущемся зеркале глаза Ерофеева, взялся его по дружески успокаивать. Ты чего, парень, неужто расстроился? Ну, ты это зря. Она же обыкновенная бомжиха, распутница – не дать, не взять. Сам посуди – стала бы приличная женщина пить, куролесить, да по чужим местам бродяжничать? Она не значит ничего, ничего не стоит, свинья неблагодарная. Мы же помогли. Устроили и хорошо устроили. Во многих ли городах так с бомжами сюсюкаются, да хоть и своими земляками. А мы? Нет, парень, ты давай не грусти. Пойми – есть люди, которым помочь нельзя. Просто нельзя и все. Они хотят жизнь свою пропить, профукать, ничего хорошего не сделать, ни для кого палец о палец не стукнуть. Я тебе так скажу – не люди они вовсе, ничем от уличных псов не отличаются. Хотя собаки хоть не пьют, разума не теряют – рассмеялся Ефимов. Ну, как все понял?
Ерофеев с готовностью кивнул и даже вслух слово «понял» повторил. Громко, что б не заглушал шум мотора. Но по совести согласиться с Ефимовым никак не мог. Как же так вышло, что я все последнее время с Ефимовым не в ту ногу иду. Будто что-то меня постоянно воспротивиться толкает. Почему мне кажется, что майор все время не в ту степь шагает, да не просто шагает, а как-то глупо марширует? Во мне прям какой-то начальственный антагонизм завелся.
Вот и сейчас – зачем он Маньку из города выкинул? Для красоты зрелища в смысле держания слова и для того, что б перед немцем прогнуться? Так бесполезно это – она вернется назад – дело пары-тройки дней, а то и часов, если кто подбросить согласится. А если не вернется Манька – где-нибудь в поле сгинет, так еще хуже – это прямой Ефимовский грех на душу, да и мой грешок тоже. А разве такое не может случиться? Да запросто! Не месяц май, да и она всегда не одна, с Митькой по долинам бродила. Он мужик все-таки. И вдвоем куда сподручней. Эх, ну, дела! Вернуться за ней – это конец. Ефимов служебных протестов на дух не переваривает, значит – в морду получишь, да и с работы, небось, вылетишь, ведь за свою морду – придется начальственную разбить…
Грунтовка закончилась. Ерофеев подъехал к выезду на шоссе и притормозил, пропуская вереницу грузовиков. В УАЗике все молчали, а Ерофеев, держа подрагивающую руку на коробке с нейтральной передачей, застыв телом, очнулся головой и постарался, как всегда в подобных случаях, встать на чужую точку зрения. Он тыкался во все правильные слова и поступки, справедливость и устав и талдычил Ефимовским баритоном – она правонарушительница. Скажешь – нет? Ну, в общем – да. Конечно. Определенно. Но Ерофеев чувствовал, что эта дубовая официальная позиция – маленький краешек объемного смысла того дела, которое висит над ними с момента пропажи первого человека неизвестного профессора. Этакий назойливый экранчик – блесна. Торчит наведу у всех и в разные стороны отблескивает, словно глаза освещает-очищает. Для Ефимова и ребят и для него конечно. Но если спросить себя – как он сам отдельно от всех остальных понимает, рассуждает и чувствует эту напасть, Ерофеев ответил бы так – я, не отрицая правильности прописной официальной позиции и отдавая ей ее законное должное, все же пожертвовал одним правильным краешком – как маленькой погрешностью при больших цифрах. Нельзя нам больше, как кутятам тащиться за этим кусочком, не видя основного главного, ведь официальным, обычным путем мы это дело уже расследовали и лишь дружно промаршировали за Ефимовым в пустоту.
Грузовики наконец проехали и Ерофеев, прорычав коробкой, противно отозвавшейся в сухожилиях правой руки, врубив вторую передачу, вырулил на шоссе.
УАЗик гудел и трясся, а сержанту все не давала покоя какая-то мысль. Подпрыгивает, понимаешь вместе с ним на сиденье, а не обозначивается. В голове крутились разные слова, а застряли почему–то все те же «кутята». Они жались друг другу, образуя один большой пушистый комок. Они мяукали и… и просили молока. Вот – почему-то обрадовался Ерофеев – молоко! Манька – она что-то кричала о молоке. При чем тут слово «моло… При том. При том самом, что и слово «сынок». Голос пожилой женщины – просящий, жалующейся. Тетя Нюша…
Ерофеев едва вслух не застонал. Ну надо же все время гнал от себя эту жуть. Старался отвлечься, с работы почти не уходил, в драки безо всякой необходимости влезал. И вроде казаться стало – почти отпустило. А поди ж ты опять догнало, нагнуло, когда казалось, что сам себе уже простил и забыть позволил. А вина не ушла, расставаться не пожелала, постояла спокойно в сторонке, подождала удобного случая, а как нервы чуть растрепались, защиту легко пробила и мертвой хваткой вцепилась в горло. Не скинуть, не вздохнуть. Несовместимо с жизнью.
Ерофеев автоматически рулил, щурясь от встречных фар. И отчетливо понимал, что в этот раз себя уже не соберет. Что вина грызунья больше не затихнет, не отвяжется. Она приняла решение – наточила зубы и теперь интеллигентные манеры побоку. В глаза натычет, намает, застыдит. И не даст покоя, пока не разгрызет и не раскатает по камушкам.
Кто-то может простить себя за многое, за измену, за подлость, даже за убийство доверчивого человека. В петлю – ни, ни – не полезет. Зальется по горлышко и вину утопит, а проспится – только башка, не душа болит. Вот и все. Кто-то так может, а он – нет. Бесполезняк. Таким уж его мамка родила. Слабонервным, совестливым слабаком.
Будь, что будет. А ждать, уговорами себя кормить ему больше никак нельзя. И если и позволительно ему тот грех страшный замолить, так уж точно не на лавке сидючи.
Ну, ничего, ничего только бы в город вернуться.
И Ерофеев разогнал милицейский рыдван до сотни. Мотор ревел в плохо шумоизолированной кабине, машину бросало в стороны, в щелях свистел ветер, но ни Вадик – парень сопровождения, ни даже сам Ефимов не сказали ни слова.
УАЗик влетел во двор милиции чихнул и заглох. Красная кнопка индикатора топлива последние десять километров уже не мигала, а горела постоянным тревожащим светом. Выбравшись из салона, Ерофеев посмотрел на разминаюшего ноги Ефимова и после короткого – свободен, сорвался почти на бег.
Он заставил себя сделать еще две правильные вещи. Я – милиционер, а не дебошир – уговаривал себя Ерофеев. Если осталась хоть одна последняя возможность пойти официальным путем, я должен ее использовать. И он все ускоряя шаг направился к Дому культуры.
Митька сидел на колченогом табурете, гладил Тришку по голове и плакал, не вытирая слез.
Уже знает – не шутки шутили, не вернем – понял Ерофеев – что ж так даже лучше. На первые эмоции время не надо тратить. Вокруг Митьки толпились сочувствующие и Ерофеев коротко кивнул на дверь. Митька послушно сполз с низкого табурета и поплелся за сержантом.
У двери замешкался – погоди, я вещички соберу.
Не надо – я не за тобой. Только поговорить.
А…
Слышь, Мить – начал Ерофеев, когда они уже стояли одни. Рассказал бы ты мне все, что про немца знаешь. Ведь есть что-то, да? Я не знаю, почему Манька не рассказала, может она денег с Крафта срубить хотела, но сейчас уже не до того. Понимаешь? Если немец в чем плохом замешен и Манька об этом знает, то не будет вам покою в этом городе, да как бы еще не хуже. Пропадали у нас уже люди-то. Небось слышал? Я тебе честно скажу – я немца подозреваю, только подкопаться никак не могу. Так как?
Про немца? Я? Дык я ничего не знаю. И Манька – тоже, с чего ты взял?
Ну, как же, кричала она ему, намекала. Насторожила. Откуда это?
А – улыбнулся мокрыми губами Митька – так она ж у нас артистка, кто знает, что с ней делается, когда она в образ входит. Не, сержант, глухо тут, не в курсах мы. Ты поверь, ведь тут и наш интерес, если бы чего знали – давно бы выложили. Эх… – и Митька, нагнув голову, поплелся обратно.
Эй, погоди – крикнул в догонку Ерофеев. Маньку мы на восток свезли. Близ Пикалова она – знаешь такую деревню?
Ага – оживился Митька и припустил в дом – перед самой дверью – крикнул, не оборачиваясь – спасибо тебе, сержант, и исчез в помещении. Хлопнула пружинная дверь. И Ерофеев тоже заторопился.
Последнюю правильную вещь, которую он заставил себя сделать, уже стоя около забора немца со стороны пустыря – это оглядеться и прислушаться. Не переть танком наобум. На втором этаже темнело пустое окно. Ерофеев заранее наметил его для попадания внутрь дома. Ему не пришло в голову, что окно это в общем-то не очень для этого дела подходяще, так как находится слишком высоко от земли, раз уже через забор просматривается. Ерофеев находился в том состоянии, что был уверен – он доберется до окна безо всякой лестницы. Или – чего проще – махнет ногой и все развалит, превратит дом в гору булыжников. А потом найдет под завалами прячущегося немца. Ухватит за ухо и вытащит на свет божий и суд людской. И пусть сейчас сто раз ночь темная, почти беспросветная. Ничего! Я увижу, я его кривую душу враз разгляжу – верил Ерофеев – встряхну пару раз посильнее и вытрясу правду. Я отомщу за тетю Нюшу и за всех остальных, не сомневаюсь – их немало на черной Крафтовой душе, уж больно лихо шурует.. И я забуду про свой официальный статус.
Ерофеев даже не сомневался – у меня сейчас все получится и то и другое и пятое и десятое. Я всесилен, я ничего не боюсь, меня ничем не проймешь и не кем напугаешь…
Но когда неподвижная тень на заборе справа вдруг зашевелилась и медленно перемещаясь двинулась к его сержантской тени, за пару секунд почти слившись с ней, Ерофеев вздрогнул и резко обернулся. Прямо за его спиной не дальше чем в паре шагов стоял Мадьяров – собственной персоной. Выглядел он гораздо спокойнее – тело не торчало напряженным стержнем и лицо, насколько было видно, не сводила гримаса. Уверенность также сегодня сопутствовала Мадьярову, он невысоко поднял открытые ладони. Не бойся, у меня даже ножа нет. И после паузы, зачем-то пожав плечами, вполне буднично добавил – не ходи туда – помрешь!
Испуг Ерофеева разом сменился гневом. В первую секунду он аж задохнулся, потом припадочно подскочил и нервно жестикулируя, попер на нежданно разыскавшуюся пропажу.
Где тебя, черт возьми, носило – орал он, наступая на Мадьярова – что ты делал в тот последний вечер у тети Нюши? Отвечать, быстро, а не то – и Ерофеев начал рвать с пояса резиновую дубинку.
Э, э – полегче, я ж тебя спасаю – уравновешенно совестил Мадьяров – а ты – за дубину, хороша благодарность.
А я и без дубины могу – зарычал сержант – я тебя за все твои художества голыми руками… Тут он вошел в неподвижый ступор. Замер, даже дышать перестал – так глубоко задумался. А еще лучше – повязать тебя и в участок отправить – пускай с тобой, с уродом Ефимов разбирается.
Мадьяров удрученно вздохнул – вот те и раз, а я думал, что мы товарищи по несчастью.
Тамбовский волк тебе… а ну руки за голову, к забору лицом, ноги на ширину плеч. Живо!
Сержант, брось, нельзя мне в милицию. Разве ты не видишь, что тут творится? Я теперь близко и надеюсь хоть кому помочь. А без меня тут знаешь, что начнется? Ты не понимаешь. Я тебе все расскажу, только руками не маши. Ну, вернись наконец в разум!
Ерофеев снова заставил себя успокоиться и подумать. Мадьяров ждал.
Нет – объявил сержант уже гораздо спокойнее – мы с тобой разговоры уже разговаривали, а после этого тетя Нюша пропала. Нет! – я на себя такую ответственность больше не возьму. Если есть, что рассказать – расскажешь Ефимову.
Так сколько раз пробовал…
Ерофеев отрицательно покачал головой. Не заставляй тебя дубинкой охаживать, пойдем по-хорошему.
Мадьяров грустно смотрел на сержанта – значит опять не вышло и добавил устало – да в общем – ничего, я давно привык.
Ерофеев решительно сделал последний шаг к спокойно стоящему Мадьярову и в этот момент на его голову свалилось пол-тонны булыжников. Хотя полтонны ничем от тонны применительно к человеческому черепу не отличаются. После первого глухого «тресть», ни звонкого удара по металлу забора, ни второго глухого о землю, сержант уже не услышал и не ощутил.
Как не увидел, две тени склонившиеся над ним. Ой, не сильно я его? – спросил женский голос, а новая тень на заборе испуганно всплеснула руками
Ничего – ответил голос Мадьярова, возвращая руку сержанта его телу. Дышит и пульс ровный. Приходит в себя. Дай-ка нашатырь. Нет, ни к носу, на грудь ватку положи – все, уходим. Сегодня он воевать уже не полезет. А завтра – видно будет. Пойдем, я провожу тебя домой – теперь придется подольше отсидеться. Встречаемся как обычно. И Мадьяров потащил за руку… да, Нелльку, старающуюся идти с ним нога в ногу и приживающую к груди раскрытую аптечку.
Около дома Мадьяров нагрузил на Нелльку огромный рюкзак.
Фу – как мне эти тяжеленные баллоны надоели – жаловалась Нелли. Мало тащи, да еще и прячь. Не могу я больше родителям грубить, язык не поворачивается, а как? вдруг заметут и спросят?
Мадьяров притянул Нелли к себе, прикоснулся лбом к ее лицу, но целовать не стал. Потерпи, уже чуть-чуть осталось. Чувствую – в этот раз к концу идет. Никогда у меня еще такой сильной уверенности не было.
Нелли, уже взявшаяся за дверную ручку, обернулась. Слушай, а может мне проведать его? Вдруг он в себя так и не пришел? Или пришел, а потом все-таки на Крафта попер. Или сам сходи. Пойдешь?
Не..е.т. в таких делах доброту надо во вторую очередь слушать. Но я за ним с чердака погляжу.
А, ну ладно. До завтра…
* * *
Ерофеев почувствовал холод, подтянул ноги к животу и начал потихоньку подниматься. Нашатырь ударил ему в нос, как еще один булыжник. Он схватился за лицо и подскочил на месте. Обожженные слизистые немедленно выжали жидкость, но сержант даже сквозь слезы видел две бесформенные тени, поворачивающие вдалеке за угол…
Стой! – хрипло гаркнул он и хотел броситься вслед. Но тут его скрутил такой сильный приступ удушья, что он опять поцеловался с землей и кашлял, кашлял. Когда казалось уже, что сейчас он выплюнет на пожухшую травку не только легкие, но и желудок, кашель отступил.
Постепенно рефлексы возвращались. Ерофеев уже нормально, а не скрючившись сидел, удобно прислонившись к забору и дышал вполне нормально. И даже почувствовал способность к размышлению.
Голова болит еще, но это ничего, самое главное, что сила, пригнавшая его сюда и пообещавшая подвиги Геракла, опять была с ним. Ерофеев снова ощущал себя бесстрашным человеком, способным действовать. Он начал подниматься на ноги и не сомневался, что устоит. На забор просто наступлю и пойду дальше к дому, а потом… – планировал он со вкусом дальнейшие действия…
Картина великана Ерофеева, небрежно переступающего трехметровые заборы четко стояла в глазах. Картина вселяла уверенность. Да, так и было бы, точно, так бы и было, если бы …на него не свалился прямо с небес, а возможно с так и непокоренного забора очередной неприветливый булыжник или булыжники несчитанной массы. Прежде, чем Ерофеев опять погрузился в небытие, успел зло подумать – ну надо же, зараза, лупят все время по одному и тому же месту, черт бы их…
Следующее возвращение к действительности было еще тяжелее. Сержант даже не пытался открыть глаз. Он плохо разбирал – какая часть тела болит больше, кроме головы – здесь боль ощущалось отчетливо. Все остальное тело гудело от тяжести. Все в нем огрузло, стало неподъемным. Почему ногам еще тяжелей, чем рукам, почему их обжимает сильнее, разве я стою?
Ерофеев попробовал пошевелить пальцем – какой там… Через некоторое время в его голове что-то щелкнуло – сломалось, а может сломалось что-то снаружи, только тяжесть потихоньку отступила, скоро стало совсем легко-невесомо и Мадьяров потянул руку к лицу.
Несмотря на ушедшую тяжесть, самочувствие не улучшалось. Мадьярова тошнило, жутко болела голова и сильнее отбитой макушки болели уши и нос. Когда же меня по носу-то настучали? А по ушам? Вроде одним темечком обходилось.
Сынок, на кось молочка попей, вкусное, парное. Сквозь закрытые веки Ерофеев увидел незнакомую полную женщину в белом платке, держащую глиняную крынку на вытянутых руках. Сержант поменял направление руки и потянулся к молоку. Он вцепился в крынку и прильнул к краю – ему так хотелось пить, и наверное из-за этого, он хлебнул лишнего и молоко полилось изо рта, а на губах осталась молочная пена. Незнакомая женщина, глядя на его торопливость, довольно улыбалась, но когда он наконец оторвался от крынки, ее улыбка начала меркнуть. Сынок! что это у тебя на губах? – испуганно закричала она.
Пена – молочная пена.
Э, нет – не молочная она, кровавая! Вытри губы сынок – вытри, скорей! Рука Ерофеева почти дотянулась до лица, но тут снова что-то щелкнуло, загудело, громко засвистел воздух и на него почти мгновенно навалился прежний гнет. В полную перепуганную женщину в белом платке ударила молния и ее голова разорвалась, как бумажная фотография. Не дотянувшаяся до нее рука сержанта упала рядом с телом и вместе с ним притянулась к ледяному полу. Да что за …– очень удивился сержант.
* * *
Ерофеев опаздывал на службу уже на два часа. Сердитый Ефимов выглянул в окно. УАЗик со двора исчез.
Ты смотри, что вытворяет – зло шипел капитан – не иначе – за Манькой укатил. Видал я вчера, как ему серпом по… не пондравилось. Где только дизеля надыбил, или так на нуле и шурует? Угрохает ведь последнюю машину! Ну, погоди, саботажник, доберусь до тебя…
Ефимов еще не успел отойти от окна. Во двор, подняв на искореженном асфальте кучу брызг влетел милицейский УАЗ.
Ефимов выскочил навстречу, уронив по дороге стул. Он уже бежал в середине коридора, а по кабинету все еще подпрыгивала сваленная со стола ручка.
Ребята выгружали с заднего борта встрепанного, рвущегося из рук мужичонку и привычно увещевали – Петруха, брось бузить, приехали уж. Слышь, хорош дергаться, а то щас схлопочешь.
* * *
Старший наряда сержант Востряцов, увидел Ефимова. Вытянулся стрункой.
На драку смотались, недалеко к вокзалу – пояснил он. И встряхнул мужичка за шкирку – отвянь – я сказал.
Ефимов не понимающе уставился на ребят – а Ерофеев? Ерофеев-то где?
Востряцов не менее удивленно глянул на капитана – как, еще не пришел? Быть того не может! Да он ни разу в жизни не опоздал.
Правда засветилась из глаз старшего и откликнулась в сердце майора – он прав. Да и отец его – Ерохин старший тоже всегда примером дисциплины был. Образцовые парни. Ох, беда…
Майор и ребята глядели на друг друга, опустив руки. А со двора прямо по глубоким лужам улепетывал ни кем не удерживаемый бузотер Петруха.
На дом к Ерофееву, конечно, тут же съездили, по быстрому разыскали и опросили соседей. Ерофеев жил один, но в маленьких городках почти всегда знают не только дома ли сосед, а даже что у соседа на ужин. Ефимову доложили – домой не возвращался. Мужики напротив в домино до утра резались, хозяйка их на улицу погнала – заметили бы.
В городе начался повальный проверочный рейд. Трясли всех подряд. Сомнительным личностям устраивали личные досмотры и перетряхивали их дома сверху донизу. Перевернули весь рынок, вокзал, все магазины. Весь город, разбитый на квадраты методично прочесали. Коротко поговорили чуть ли не с каждым. Если за человеком числились хоть какие проступки, он подвергался допросу с пристрастием. Мужиков милицейские, если хоть чуть артачились – били, на женщин глядели такими страшными глазами, что те как на духу выкладывали даже давнишние никому не нужные грехи и только время отнимали.
Ничего не нашли. Нет, нашли много чего недозволенного, только к Ерофееву это отношения не имело.
И все-таки рейд кое-что принес. Когда за окном засветился новый день и рычащего, на всех бросающегося Ефимова только его авторитет удерживал от пеленания в смирительную рубаху, падающие от усталости ребята притащили в отделение новую жертву. Молодку Поливанову, обожающую участвовать в городских скандалах.
Вот, свидетель! – втолкнули гражданку в комнату.
Ну – желваки так и ходили по лицу Ефимова – быстро!
Ну, как же – вертаемся мы щас в город – а тут ваши…
Откуда вертаемся?
Ммм… на заимке были. Ой, вы только Клавке его не говорите, женатый он еще.
А, черт! Очень мне надо – какая баба куда подолом метет. Ерофеева на заимке видели или в лесу? Одного?
Так… нет, не видали мы Ерофеева, ни в лесу, ни на…
Ефимов посмотрел на ребят – они кивнули. А, черт! А кого же ты корова видала?
А ты меня, начальник, давай не обзывай. Ты лаской со мной поговори, может я тебе душу и открою…
Ефимов зарычал, но тут же добавил очень спокойно и убежденно, указываю пальцем на молодку и кивая в подтверждении головой – я ее сейчас убью.
Ладно, ладно. Ты сердце так уж дюже то не рви. Не знаю я, куда сержант ваш расподевался. А видала я Мадьярова. Мы как раз на заимку уезжали, ночью уже. Минут через десять, как мы с моим-то повстречались, а он ко мне не зажерживается никогда, потому – оченно сильно меня обожает. Ага, ага, не отвлекаюсь. Ну, так, вот едим мы такие обнявшись, уже почитай за город выбрались – Горловым переулком следуем, на Вербную выезжаем. Впереди пустырь, а тут он – Мадьяров навстречу нам попадается. Да так вышагивает, знаешь, как нормальный человек, не оглядывается, не крадется, будто и не в бегах вовсе. Ну, я ваших делов не знаю – думаю, может уж разобрались с ним, да отпустили.
Так… Вот оно что. Ну, не ждал я такого подарка, не думал, что он вернуться рискнет. А как он выглядел – обросший, грязный?
Да нет… говорю же – нормальный человек идет – чистый, ничего не боится. Я поэтому и решила, что вы с ним уже…
А ты его хорошо рассмотрела? Может это вовсе и не Мадьяров был? Ночью, в свете фар разве как следует разглядишь?
Да какие фары? На лошади ехали, на повозочке, и встренулись под последнем фонарем почти. Догнали мы его, а я еще на расстоянии подумала – кто это впереди об эту пору, да трезвый еще вышагивает. Пока мимо катили, я – не постеснялась – до штиблет его разглядела, только что за ручку не поздравствовалась. Машина! Какая машина! Откуда? Вот как бросит мой желанный Клавку свою постылую, мы уж и решили – будем всенепременно на машину копить, а пока, да…
Гражданка Поливанова, соберитесь! Где ты его точно видала?
Так я говорю – из городу мы выезжали. Последний городской фонарь на углу Горлового и Вербной, небось, знаешь где? Дальше фонари кончаются. Там и встренулись. Вот я тебе все и досказала. А теперь отпустил бы ты меня, начальничек, домой, ноженьки меня не держат и молодка всласть потянулась.
Как только другое место напряжешь и точное время встречи вспомнишь. А мы твоего желанного тоже тихонечко спросим и сравним… Точно говоришь? Молодец. Отвези ее Морозов. Тут такие дела.
Гражданка, пройдемте!
Молодка обрадовалась. Благодарствую. Если еще понадоблюсь, только позовите. И довольная, выплыла из комнаты.
Ефимов замер в кресле, ладони сжимают голову. Вот вам и объяснение. Вернулся шакал, а может и не уходил вовсе. Но это врятли – где-нибудь да засветился бы. Разве от таких баб укроешься?
Значит так – ребят домой не распускать. Объявляю в городе комендантский час. Из КПЗ всех вытряхнуть. А, хотя там сейчас и нет никого. Что? А Петька там откуда? Он же слинял, паршивец… Опять попал? – ну и придурок! Ну, да и Петьку вон. В помещении вещдоков сложить новые матрасы. Разбить график. Половина работает – половина спит. Мэру я сейчас позвоню. Понятно? Все, выполнять!



