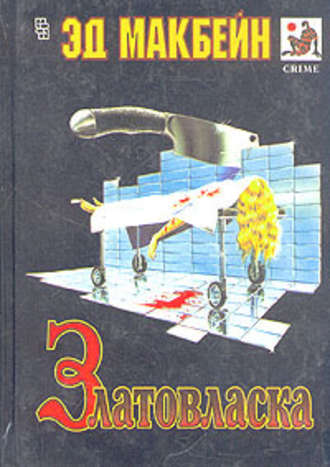
Эд Макбейн
Красавица и чудовище
Глава 10
Телефон настойчиво трезвонил.
На улице было дождливо, ветрено и холодно.
Второе декабря, среда, девять часов утра. Чуть меньше восьми часов прошло с той минуты, как я свалился без сознания от удара Харпера, а он исчез. Я пришел в себя минут через двадцать. На моих часах было 1.46. У меня электронные часы. Никто ведь больше не говорит «без четверти два». Или 1.44, или 1.46. Моей первой мыслью было – позвонить Блуму, но вместо этого с трудом дотащился до постели. Сейчас Блум звонил мне.
– Я тебя не разбудил? – спросил он.
– Нет, уже проснулся.
– Есть известия от Харпера?
Я помолчал в нерешительности. Потом ответил:
– Нет.
– Что ж, придется подождать, пока человек примет решение. И так бывает, – утешил меня Блум. – Может, явится сегодня на похороны.
– Какие похороны?
– Салли Оуэн. Должен признаться, Мэттью, мы к ним приготовились, как к визиту президента, – вдруг Харпер решит заглянуть туда. Половина личного состава полиции задействована, самое подходящее время грабануть банк, как считаешь?
– Для похорон тоже подходящий денечек.
– Лучше не бывает, – сухо согласился Блум. – Ты придешь?
– Зачем?
– Если Харпер объявится, ему снова потребуется адвокат.
– Очень сомневаюсь, что он объявится, Мори.
– Вот как? – недовольно произнес Мори, и на линии воцарилось продолжительное молчание. – Почему ты так думаешь?
– Если бы ты убил Салли, ты пошел бы на похороны?
– Да знаешь, сколько раз бывало: человек убил кого-то, а потом у него крыша поехала. У меня был такой случай: один парень на Лонг-Айленде зарезал свою жену мясницким ножом, представляешь? Так прямо на следующий день, когда половина округа Нассау разыскивала его, он принес поточить этот нож в мастерскую, можешь представить? Это же все равно что запереть дверь конюшни, когда лошадь твою уже увели, верно? Принести нож с пятнами крови на ручке вокруг всех этих заклепочек, представляешь? Так точильщик унес нож в заднюю комнату, за мастерской, и позвонил нам, а когда мы арестовали парня, он все повторял: «Нож затупился». Люди просто теряют рассудок, Мэттью.
– Чего не бывает, – согласился я.
– Ну, делай как знаешь. Если появится желание заглянуть – похороны в одиннадцать на кладбище «Флорал парк».
– Не жди меня, – сказал я.
– У тебя сегодня плохое настроение, – заметил Блум.
– Болят зубы.
– Сочувствую. Хороший зубной врач есть?
– Есть, спасибо, Мори.
– Дай мне знать, если получишь весточку от Харпера, ладно? – попросил Блум и повесил трубку.
* * *
Сам не знаю, зачем пошел на похороны; похороны действуют на меня угнетающе, даже если нет дождя и на небе сияет солнце. Я, конечно, не ожидал встретить там Харпера. Если накануне ночью свернул челюсть собственному адвокату, так с чего это на следующий день появится желание сдаться полиции? Кроме того, у меня на самом деле болели зубы, болел зуб, или зубы, – в том месте, где ударил Харпер. Хуже того: левая половина лица распухла и изменила цвет, а нижняя челюсть кровоточила, когда утром чистил зубы. Никогда не любил получать удары по челюсти. Последний раз меня били в четырнадцать лет. Сцепился с восемнадцатилетним футболистом из-за девчонки в их команде болельщиков: они громко хлопали в ладоши и орали на трибунах. Звали девочку Банни, и как-то вечером она позволила мне потискать ее груди. По моим юношеским представлениям, благодаря этому я получил «преимущественное право владения» и «надбавку к жалованью за выслугу лет». Футболист, которого звали Хенк, думал иначе, возможно, по той причине, что с начала футбольного сезона чуть не каждый день укладывал ее на спину. («Никто не любит тебя так, как я, Банни!» – думал я.) Футболист предложил мне держаться подальше от своей девчонки. В ответ я обозвал его слабоумным подонком. Он поставил мне синяки под оба глаза, свернул челюсть и выбил коренной зуб. Доктор Мордекей Саймон вставил искусственный зуб. Этот зуб до сих пор напоминает мне о том, что не следует связываться с футболистами, да и с остальными тоже, по правде говоря. Но разве можно ожидать нокаута от собственного клиента? Впредь буду знать, что и от клиентов можно получить по зубам. Можно получить зуботычину от священника. Младенцы, которые еще лежат в колясочках, могут врезать в зубы бутылочками с молочной смесью. Фрэнк расширительно толкует закон Мэрфи: «Если ожидаешь самого худшего, так не удивляйся, что именно так и происходит».
Единственное, что меня удивило на похоронах Салли Оуэн, так это появление ее бывшего мужа, Эндрю Оуэна. Эндрю опоздал; когда он подошел, прикрываясь от дождя зонтиком, священник произносил последние слова молитвы, а гроб опускали в землю. Присутствовавшие на похоронах начали понемногу расходиться, а Эндрю все стоял у края могилы, глядя, как забрасывают гроб землей. Поодаль Блум беседовал о чем-то с одетым в форму капитаном полиции. По территории кладбища слонялось не меньше трех дюжин полицейских, похожих на призраки в своих блестевших под дождем плащах. Глаза их неустанно обшаривали раскисшие от дождя дорожки, руки так и тянулись к рукояткам револьверов, чьи контуры ясно обрисовывались под дождевиками. Мне вдруг стало тревожно: только бы у Харпера хватило ума не появляться здесь сегодня. Я подошел к Оуэну, который все еще стоял у раскрытой могилы, держа над головой зонтик.
– Как вы? – спросил я.
Он оторвал взгляд от могилы и посмотрел на меня.
– Чудовищно все это, – ответил он.
– Я удивился, увидев вас.
– Мы ведь были женаты, – сказал он. – Когда-то любил ее, – добавил, пожав плечами, и побрел к стоянке машин – грязной неогороженной площадке на поросшем травой холме. Дождь не утихал. «Уже пошел!» – подумал я, вспомнив Шекспира. – «Первый убийца. „Макбет“, акт III, сцена 3». В годы учебы в колледже на Северо-Западе на втором курсе я играл Макдуфа. Наш доморощенный критик так отозвался о моей игре в школьной газете: «В отставку, Макдуф! Убирайся вон, бездарный Хоуп!» Наши зонтики, Оуэна и мой, слегка касались друг друга, как два шпиона, обменивавшихся секретами.
– Как думаете, кто мог это сделать? – спросил я.
– Не знаю.
– Как вам кажется, это Джордж Харпер?
– Ни в коем случае. Харпер, может, и дурак, но уж никак не сумасшедший.
– Полиция вас допрашивала?
– Естественно. Бывший муж? Скандальный развод? Значит, он.
– И что же?
– По их вопросам – где находился в такое-то время – догадался, что Салли убили в промежутке между двумя и четырьмя часами дня. А я весь день в понедельник не выходил из магазина, с восьми утра и до закрытия, до семи часов. Понедельник у меня тяжелый день, по понедельникам да еще по субботам работы хватает. Все запасы спиртного, которые алкаши припрятывают на выходные, к понедельнику кончаются, и они, как стадо баранов, собираются у магазина. Полицейские заявились ко мне почти в полночь. К тому времени уже знал из выпуска новостей, что тело нашли в семь часов вечера, когда соседка, Дженни Пирс – я ее знаю, приятная женщина, – зашла к Салли вернуть блюдо для пирога или что-то еще. Объяснил полицейским, что в семь часов как раз запирал магазин и у меня всего-навсего миллиона полтора свидетелей, которые принесут присягу на ящике «Чивес Регал», что, как положено, я простоял за прилавком весь день. Полицейские поблагодарили, что нашел для них время – был уже час ночи, – и уехали, сказав на прощанье: «Держись от греха подальше». В этом городе меня знают как честного бизнесмена уже десять лет, с тех самых пор, как вернулся домой с Севера. За все годы меня ни разу не оштрафовали даже за неправильную парковку машины в этом проклятом городе, а теперь говорят: «Держись от греха подальше». Забыли только обозвать «ниггером».
Мы уже подошли к его машине, синему «понтиаку», и Эндрю рылся в карманах в поисках ключа. Блум с полицейским капитаном, все еще продолжая беседу, с трудом взбирались по склону холма к стоянке машин.
– Прошлой ночью разговаривал с Китти Рейнольдс, – сообщил я.
Оуэн, отпиравший дверцу машины, поднял глаза.
– Вот как? – сказал он.
– Да. – Помолчав, спросил: – Еще встречаетесь с ней?
– Никогда.
– Как же так?
– Все имеет конец, приятель, течение уносит людей друг от друга.
– Когда же это кончилось?
– Да как раз незадолго до того, как началась вся эта заваруха. Когда Салли подала на развод, мне все уже порядком поднадоело. Все наши старые приятели, знаете, с кем обычно проводишь время… все перестала с нами общаться. Чувствуешь себя каким-то потерянным, если нет друзей.
– Харпер тоже?
– Что?
– Он тоже перестал с вами встречаться?
– Нет. Джордж – нет. Но он не знал…
Он резко оборвал фразу. Может, это заразное? Может, если провел немало времени в постели с какой-то женщиной, то перенял и ее привычки? Китти Рейнольдс мастерски обрывала фразы на полуслове. Оуэн у меня на глазах проглотил значительную часть предложения и снова занялся дверцей машины.
– Не знал чего? – спросил я.
– Не понимаю, о чем вы, приятель.
– Вы хотели сказать…
– Я хотел сказать: «До свидания, мистер Хоуп».
– Одну секундочку, ладно?
Оуэн открыл дверцу машины, но, заметив, что на переднее сиденье попадают капли дождя, снова прикрыл ее.
– Что еще? – спросил он со вздохом.
– В первый раз, когда мы с вами беседовали, вы никак не могли вспомнить Ллойда Дэвиса.
– Ну и что?
– Китти Рейнольдс говорит, что познакомилась с ним в вашем доме.
– Она так сказала?
– На одном из собраний.
– В самом деле? На каком собрании?
– Китти рассказала мне, как женщина с Фэтбэка организовала комитет…
– Ах да, этот вонючий комитет.
– Чтобы как-то выразить свое отношение к делу Джерри Толливера.
– Да-да.
– И Китти сказала, что познакомилась с вами – и с Ллойдом Дэвисом – на одном из тех собраний. В вашем доме.
– Тогда, наверное, так оно и есть.
– А вы, однако, так и не смогли вспомнить Дэвиса.
– На этих собраниях люди все время менялись: одни приходили, другие уходили, – объяснил Оуэн, пожав плечами.
– Был вчера в вашем доме, – продолжал я.
– Вот как?
– Когда вы еще были женаты на Салли и жили там, газетная вырезка уже висела на стене в спальне?
– Какая вырезка?
– Об убийстве Толливера.
– Да. Да, наверное.
– А что вы скажете о картинах?
– О картинах Салли? Да она развешивала их по всему дому.
– Попадалась вам на глаза картина, где изображена белая женщина в объятиях черного мужчины?
– Да разве все упомнишь? Салли рисовала без передыху.
– Не знаете, каким образом именно эта картина очутилась в гараже Джорджа Харпера?
– Понятия не имею.
– Не помните, может, Салли подарила Джорджу эту картину? Или продала ему?
– Салли не ладила с Джорджем, уже говорил вам об этом.
– А не могла она подарить эту картину Мишель?
– Да Салли раздавала их всем подряд.
– Вот как? Кому же именно?
– Любому, лишь бы взяли. Вы же видели картины, знаете, какая это пакость.
– Кому же конкретно она их раздавала?
– Сказал вам: любому. Мне пора, мистер Хоуп. Потерял уже полдня. Надо открывать магазин.
– Последний вопрос, – попросил я.
– Ладно, но…
– О чем же все-таки не знал Харпер? Что же такое он обнаружил?
– Это уже два вопроса. И у меня нет на них ответов.
Он сложил зонтик, забросил его на заднее сиденье и сел за руль. Я наблюдал, как он вставил ключ в зажигание, завел машину и тронулся, – я отступил назад. Прямо позади меня стоял Блум и наблюдал из-под зонтика, как машина, преодолев поворот на вершине холма, скрылась из виду.
– Кто это? – спросил Блум.
– Эндрю Оуэн, – ответил я.
– Чист как стеклышко, – сообщил Блум, – алиби длиной в целую милю.
Под проливным дождем он все же разглядел мое лицо.
– Что это у тебя с физиономией, Мэттью?
– Наскочил на дверь прошлой ночью.
– Вот как?
– Да, когда встал пописать.
– Нужно быть осторожнее, – посоветовал Блум.
* * *
Последний самолет на Майами вылетел из Калузы в 2.50 дня и прибыл туда в 4.20. На Восточном побережье было ветрено, но сияло солнце, и шофер такси, который вез меня к дому миссис Харпер, все оглядывался на мой зонтик, будто увидел меч в руке средневекового рыцаря. Миссис Харпер обрабатывала грядку гардений у своего дома, когда я вышел из такси. Она наблюдала, как я расплачиваюсь с шофером и направляюсь по дорожке к ней. В левой руке держала пучок сорняков, а в правой – лопатку.
– Здравствуйте, миссис Харпер, – поздоровался я.
– Мистер Хоуп, – приветствовала она меня коротким кивком.
– Я пытался дозвониться до вас, – начал я, – но…
– Отключила телефон. Репортеры житья не дают.
– Надеюсь, у вас найдется для меня минутка.
– Просто все, как один, хотят, чтобы я уделила им минутку. Привыкла к тому, что весь день напролет никого не вижу, а теперь и дверь не закрывается: все ходят.
– Это касается вашего сына, – объяснил я.
– Все так говорят.
– Вы ведь знаете, что он сбежал из тюрьмы в прошлый четверг?
– Так.
– И знаете, что убили еще одну женщину, ее звали Салли Оуэн.
– Да, и это знаю.
– Когда в прошлый четверг ваш сын приезжал повидаться с вами…
– Уж им так хотелось, чтобы он приехал, – сказала миссис Харпер.
Я уставился на нее.
– Джордж додумался бы, что сюда заявятся в первую очередь. Так и вышло, сразу явились. Полицейские из Майами дежурили тут всю ночь напролет, все расспрашивали меня, не знаю ли, где мой мальчик. Сказала им, что мой сын в тюрьме. Так расположились у моих дверей, все ждали, что он явится и тогда отведут его в полицейский участок. Скажу честно, мистер Хоуп, мне хотелось бы, чтобы он сам пришел. Удрал из тюрьмы, будто виноват в чем. Ведь только себе хуже сделал, разве не так?
– Джордж сказал, что приезжал сюда повидаться с вами.
– Нет, не было его.
– Он сказал, что у него к вам какое-то личное дело.
– И придумать не могу, какие такие у него со мной личные дела. И почему сказал, что был у меня, когда его здесь не было.
Я прилетел в Майами, надеясь, что миссис Харпер сможет рассказать, о чем они с сыном разговаривали на прошлой неделе; надеясь, что, может быть, Джордж открыл ей то, что отказывался рассказать мне; надеясь, что хоть ей доверил свою тайну, поведал, что же такое обнаружил. Мои замечательные японские часы показывали 5.12. У меня ушло ровно два с половиной часа от дверей до дверей, чтобы добраться до миссис Харпер, и мне предстояло затратить еще два с половиной часа – это еще если повезет – на обратную дорогу. Не было никакой надежды успеть к половине шестого в аэропорт, чтобы попасть на рейс «Сануинга», тогда я прибыл бы в Калузу к семи часам. Самолет Восточной авиакомпании вылетал в 6.10, пересадка в Тампе, в Калузу попаду в 8.15. Я стоял в нерешительности, не зная, что выбрать: попытаться ли улететь этим рейсом или лучше пообедать здесь, в аэропорту, а потом вылететь последним рейсом «Сануинга» в 7.30. И тут миссис Харпер – подумать только! – сказала:
– Может, Джордж приезжал повидаться с Ллойдом? Может, решил спрятаться у Ллойда?
* * *
Такси, которое я заказал из телефонной будки на углу, доставило меня к парадной двери дома Дэвиса за пять минут. Было около половины шестого, когда я направился по дорожке, по обеим сторонам которой в беспорядке валялся всякий хлам, к дому Дэвиса. Солнце почти зашло, тени удлинились. Из дома доносились звуки музыки: незамысловатая мелодия песенки Билли Холидея. Я постучал в забранную сеткой дверь. Никакого ответа. Постучал еще раз.
– Да?
Женский голос.
– Миссис Дэвис, – позвал я.
– Да?
– Это Мэттью Хоуп. Можно войти?
– Конечно. Проходите, – крикнула она.
Я открыл дверь и вошел в дом.
Миссис Дэвис сидела в гостиной, последние лучи заходящего солнца, с трудом пробивавшиеся в окно, едва освещали комнату и женщину, развалившуюся в обшарпанном мягком кресле, – должно быть, чудом уцелевшей реликвии из гаража ее мужа. Женщина одета в японское кимоно, расшитое цветами и перехваченное в талии ярко-красным плетеным поясом. Она не повернула головы, когда я вошел в комнату, дверь с сеткой с шумом захлопнулась за моей спиной. Женщина не отрываясь смотрела на проигрыватель, где крутилась пластинка Билли Холидея, как бы пытаясь глазами уловить каждый звук.
На краю стола, рядом с креслом, лежали разорванный пергаминовый пакетик и ложка с почерневшим углублением. На полу валялся шприц для подкожных инъекций. Пластинка закончилась. В комнате раздавалось только шуршание крутившегося вхолостую диска. Казалось, мое присутствие встревожило женщину. Обернувшись, она посмотрела на меня.
Кожа ее по цвету напоминала нерафинированный сахар: такой оттенок возник в результате смешения рас во многих предшествовавших поколениях. Карие, с влажным блеском, как черная патока, глаза глубоко запали. Высокие скулы, патрицианский нос и большой, благородно очерченный рот свидетельствовали о том, что когда-то она была красива, но бесформенное тело, покоившееся в мягком кресле, казалось болезненно-хрупким, а внимательно изучавшие меня глаза были мертвы.
– Привет, – произнесла она.
Стало почти темно, в комнате сгустились сумерки. Женщина даже пальцем не пошевелила, чтобы зажечь настольную лампу. Единственный звук, раздававшийся в комнате, был скрип иголки по заигранной пластинке.
– Ищу вашего мужа, – сказал я.
– Его здесь нет, – ответила она.
– Не знаете, где его найти?
– Нет.
– Миссис Дэвис…
– Пожалуйста, снимите пластинку, – попросила она, с трудом подняв руку и вяло указав пальцем на проигрыватель. Я прошел через комнату и выключил проигрыватель.
– Как вас зовут? – спросила она.
– Мэттью Хоуп.
– Ах да, Хоуп.
– Заходил к вам на прошлой неделе…
– Да, да, Хоуп, – повторила она.
– С вами все в порядке?
– Прекрасно себя чувствую, – ответила она.
– Не знаете, когда вернется муж?
– Не могу сказать. Понимаете, он то приходит, то уходит.
– Когда ушел?
– Не знаю. То приходит, то уходит, – повторила она.
– Знаете, куда ушел?
– В армию скорее всего.
– В армию? Что вы хотите сказать?
– Понимаете, он ведь резервист. То и дело уезжает куда-то с резервистами, кому только это интересно? – сказала она, раздраженно махнув рукой, как бы давая понять, что ей и одной хорошо, но рука тут же безвольно упала на стол. – Сделайте мне одолжение, а?
– Конечно.
– Это уж очень сильная дрянь, приятель.
– Что вам нужно?
– Какая-то сильная дрянь. Немало стоит, но зато, приятель, полный кайф. Окажите услугу.
– Конечно.
Она кивнула, а потом, так и не успев сказать, какой же именно услуги ждет от меня, закрыла глаза, опустив голову на грудь, и унеслась в более высокие и разреженные слои атмосферы, чем те, где летали самолеты компании «Сануинг». Я посмотрел на нее. Дыхание неглубокое, но ровное. В комнате стало совсем темно, я с трудом различал во мраке ее силуэт. Включил настольную лампу, и в этот момент зазвонил телефон.
Я вздрогнул, резко обернувшись, будто у меня под ухом раздался выстрел. Звонок доносился из другой комнаты, видневшейся в распахнутую дверь, – очевидно, из кухни: в свете, падавшем из гостиной, смутно вырисовывались лишь раковина и холодильник. Телефон не умолкал.
– Все в порядке, – пробормотала женщина у меня за спиной. Телефон надрывался в тишине дома.
– Все в порядке, все в полном порядке, – повторила женщина и, сбросив оцепенение, безуспешно попыталась подняться, но тут же снова расслабленно опустилась в кресло. – Ух, – прошептала она, – вот это кайф.
Телефон снова зазвонил, потом наконец умолк.
– Вот и хорошо, – удовлетворенно сказала она, посмотрев на меня с таким видом, будто только сейчас обнаружила мое присутствие. Она безвольно развалилась в кресле, свесив руки и вытянув ноги; полы кимоно распахнулись, обнажив бедра со следами уколов.
– Эй, окажите мне услугу, ладно? – попросила она. – Дайте стакан воды. Помираю просто от жажды.
Я вышел в кухню, нашел в сушилке чистый стакан, налил воды и вернулся. Она залпом осушила стакан, потянулась, чтобы поставить его на стол, но, так и не дотянувшись до стола, выпустила из рук. Я не успел подхватить стакан, он упал и разбился.
– У-ух, – сказала она, улыбнувшись.
– Вам лучше? – поинтересовался я.
– Все в порядке, приятель, – ответила она. – У-ух.
– Давайте немного побеседуем.
– Спать хочу, приятель.
– Еще рано, – возразил я. – Миссис Дэвис, постарайтесь точно вспомнить, что сказали Джорджу Харперу в то воскресенье, когда он приезжал к вам?
– Давненько это было, приятель.
– Не так уж давно. Попытайтесь вспомнить. Джордж спросил, где ваш муж…
– Угу.
– И вы сказали, что мужа нет, он на сборах.
– Там Ллойд и был.
– Что еще сказали Джорджу?
– Это все.
– Вы сказали, где ваш муж?
– С резервистами.
– Нет, куда уехал?
– Не знала куда.
– А куда он ездит обычно?
– В разные места, куда начальство велит.
– Какое у него подразделение? Военной полиции?
– Нет, нет.
– Тогда какое же?
– Артиллерийское.
– Какое именно?
– Откуда я знаю?
– Вы сказали Джорджу Харперу…
– Не знаю, что сказала ему, – прервала она меня. – Приятель, вы должны извинить меня, мне надо вздремнуть.
– Миссис Дэвис, постарайтесь вспомнить, сказали вы ему…
– Не могу, – оборвала она меня и, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, попыталась подняться. Тут на глаза ей попался шприц, валявшийся на полу, опустившись на колени, она подобрала его и заботливо положила на стол рядом с ложкой, а затем вышла из комнаты. Телефон зазвонил снова, когда она проходила мимо кухни, но, лениво заглянув в открытую дверь кухни, женщина направилась по коридору мимо, очевидно, туда, где находилась спальня. Телефон настойчиво звонил. Я пошел за ней по коридору и остановился в дверях спальни. Она, не зажигая света, сидела на краю кровати, стаскивая с ног домашние туфли. Сбросив одну на пол, принялась за другую. Телефон продолжал звонить.
– Не хотите поднять трубку? – спросил я.
– Да этому конца нет, – ответила она. – Отправляйтесь-ка домой, мистер, мне надо поспать.
– Одну только минутку, – попросил я. – Пожалуйста, попытайтесь вспомнить…
– Ничего не получится.
Телефон все еще звонил.
– Миссис Дэвис, говорили вы Джорджу Харперу, что ваш муж приписан к артиллерийскому подразделению?
– Может быть.
– Постарайтесь вспомнить поточнее.
– Отправляйтесь домой, – пробормотала она.
Я не хотел, чтобы она снова впала в забытье. Дотянувшись до выключателя около двери, я зажег свет. Первое, что бросилось в глаза в режущем свете лампы, – громадная картина над кроватью.
Картина кисти Салли Оуэн.
Телефон вдруг умолк.
В доме опять воцарилась тишина.
Леона Дэвис лежала, растянувшись на кровати, и, щурясь от яркого света, прикрывала глаза рукой.
– Погасите свет, слышите? – попросила она.
Я уставился на картину. Картина написана маслом, выдержана целиком в черно-белой гамме, в такой же манере выполнены и другие работы Салли: та, что висела в ее спальне, и та, которую нашли в гараже Харпера. Но на этот раз, изменив своей манере, Салли, казалось, выразила самое сокровенное.
По Фрейду (как позднее объяснила моя дочь), на первой стадии тайные желания объекта психоанализа выражаются в символах. Однако, если их не удается воплотить в жизнь, желания эти приобретают все более яркую форму выражения, пока наконец вожделенный объект не будет воплощен почти с документальной точностью. Сюжеты картин Салли Оуэн, казалось, претерпевали определенные изменения: сначала неодушевленные предметы вроде шахматных фигур или солонки с перечницей, затем появились предметы одушевленные, дикие птицы и животные: пингвины, зебры, ворон и голубка, их сменили домашние животные: шотландские терьеры и далматские доги, и, наконец, героями ее картин сделались люди, как на том полотне, что нашли у Харпера.
Но если истинно то положение, что любое произведение художника является выражением неосознанных импульсов, тогда подсознание Салли Оуэн, пробудившись ото сна, стало диктовать ей сюжеты картин, от символических фигур Салли непреодолимо стремилась к документальной точности изображения. Картина, висевшая над кроватью Леоны Дэвис, не оставляла места для эротических фантазий.
На картине был нарисован громадных размеров черный penis.
И белая женщина, жадно ласкавшая его.
– Откуда у вас эта картина? – спросил я.
– Погасите свет.
– Это нарисовала Салли Оуэн, да?
– Приятель, если хотите поболтать, погасите этот проклятущий свет.
Приподнявшись внезапно на кровати, Леона дотянулась до стоявшей на ночном столике лампы. Янтарный свет озарил постель. Часы на ночном столике показывали 5.50. Я опаздывал на рейс Восточной авиакомпании. Выключил верхний свет.
– Это нарисовала Салли? – повторил свой вопрос.
– Из «давнишних», – подтвердила Леона, утвердительно кивнув.
– Как эта картина оказалась у вас?
– Отдала нам.
– Подарок?
Леона опять кивнула.
– Она висит у нас еще со времен «орео».[31]
– Что?
– «Орео».
– Что это такое?
– Неважно, – пробормотала Леона.
– «Орео»? – повторил я.
Я вдруг вспомнил, как Китти Рейнольдс каждый раз спотыкалась на слоге «ор». Может, она хотела сказать «орео»?
Посмотрел на Леону.
– Расскажите мне об этом «орео», – попросил ее.
– Нечего рассказывать. Нет больше никаких «орео». Оно больше не существует, приятель.
– А что это было, когда существовало?
– Ничего.
– Это название чего-то?
– Послушайте, мне надо поспать, – сказала Леона.
– Что называется «орео»?
– Нет времени заниматься таким дерьмом, – заявила Леона, расслабленно откинувшись на подушку. – Это такие сладости, приятель. Такие сладкие, что и представить нельзя. – С трудом подняв руку, Леона указала на картину над своей головой: – Это Ллойд.
Я перевел взгляд на картину.
– И Мишель, – добавила она, кивнув, и улетела в страну грез вкушать эти необыкновенные сладости.






