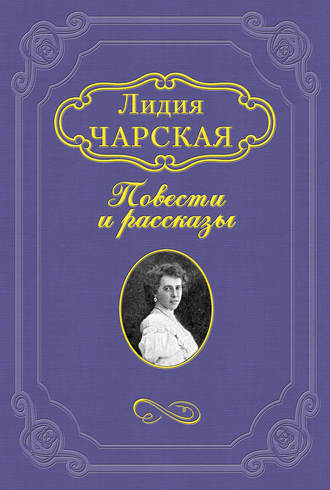
Лидия Чарская
На всю жизнь
Часть третья
Ненастная осень. Нудно стучат холодные капли о мокрую крышу двухэтажного длинного здания. Огоньки фонарей отражаются в огромных лужах. Там, подальше, высятся другие нескладные здания. Это казармы. За казармами бесконечно широкое поле, в конце его кладбище.
В девять часов играет труба горниста. Затем вечерняя перекличка, и глухо доносится сквозь мокрые от дождя оконные рамы стройное и дружное пение солдатского хора, поющего вечернюю молитву. Потом все стихает, и только шаги дневального нарушают тишину.
Желтое здание – это офицерские квартиры, где живут семьи стрелков. Впрочем, не для всякого человека желтое здание – семейный дом. Есть одна душа в этом доме, которая самым настойчивым образом считает желтое здание старинным средневековым замком. Старинный замок оторван от всего прочего мира. Он построен на острове, среди кипучих волн большого озера. И не весь офицерский дом, собственно говоря, представляет собой замок, а одна только крайняя из его квартир: три просторные высокие комнаты с окнами во всю стену, с мягкими коврами и массою зимних растений в кадках и горшках. Винтовая узкая лесенка ведет вниз, в просторную кухню, в ванную и в две комнаты прислуги. Большие горницы с высокими потолками, и винтовая лестница, ведущая на башню, и большущие окна, выходящие на пустырь, – все это целый особенный мир. Большой пустырь – озеро, а солдаты – вассалы, оруженосцы и просто воины того владетельного герцога, которому служит рыцарь Трумвиль, такой бледный и молчаливый, такой сумрачный и хмурый, несмотря на свои двадцать пять лет.
Впрочем, это только игра.
Рыцарь Трумвиль – Борис Чермилов, или просто Боря, мой муж. Я его жена – тоненькая Брандегильда. Наша квартира – замок на островке, посреди большого озера, вода которого отделяет нас от целого мира. Редко перебрасывается подъемный мост на ту сторону озера, редко сообщается замок Трумвиль с остальным миром. Но мы не скучаем. Мы не одни. С нами наш друг четвероногий, в мохнатой шубе, умный, верный и преданный Мишук, который живет в пристройке на дворе, но проводит большую часть времени в комнатах. Еще с нами Галка. Это не птица, о нет! Это двуногий, но, безусловно, тоже друг. У него длинное худое тело, – белая рубаха висит на нем как на вешалке – и унылое лицо с повисшими усами. Ему двадцать два года, а выглядит он на все сорок, а то и больше порой.
Это и есть Галка, денщик, или, вернее, оруженосец рыцаря Трумвиля. Он всем в мире говорит «ваше высокоблагородие» и обо всех отзывается «их высокоблагородие», даже о Мишке. Это комический элемент замка Трумвиль, денщик Галка.
Внизу живет служанка. Ее зовут Дарья, но для замка Трумвиль это имя непоэтично, и потому мы переиначили ее в Доротею. Поодаль поместился кучер, солдат Корнелий. В конюшне две лошади, бывшие наши верховые, Бегун и Красавчик. Летом в черниговских степях мы скакали на них верхом как безумные.
Что за дивное лето провели рыцарь Трумвиль и его Брандегильда! Синие васильки, стыдливо выглядывающие из ржи, черешневая роща и цветущие короны царственных подсолнухов. И голубое небо вверху. Царство покоя, неги. Маленький белый хутор, цветущие белые яблони и черешни и ночные трели соловьев, бешеная скачка по степи, с седлами и без седел, на горячих конях по меже среди золотых полей, испещренных синими звездами васильков. Вот это я понимаю! А по вечерам длинные хороводы за околицей, и темный ласковый взор чернобровой Оксаны, и песня, сладкая, дивная песня прекрасной украинской земли.
Зачем оно минуло так быстро, это дивное лето, от которого остались теперь только золотые нити воспоминаний да прибавился ворох стихов, пламенно горячих, в честь красавицы Украины.
* * *
Глуше звучат под вечер шаги дневального на подъезде, и капли, негодные однотонные капли дождя, постукивающие о крышу здания, способны кому угодно вымотать душу.
В гостиной пылает камин. Перед камином разостлана белая шкура пушистой тибетской козы. На белом меху белая же Брандегильда, то есть я, своей собственной персоной, в каком-то фантастическом капотике из легкого белоснежного щелка, похожем на средневековое домашнее платье королев, с откидными рукавами, спадающими до пола. И густые непокорные волосы небрежно связаны тяжелым снопом за спиною. Рыцарь Трумвиль в офицерской тужурке, с золотыми пуговицами. Но это ровно ничего не значит. При чем тут внешний вид и фасон одежды? Он все-таки рыцарь Трумвиль, этот бледный Боря, и только что вернулся с охоты. На кухне замка верная Доротея ощипывает убитую им только что дичь. А сам он греется у огня.
– Ужасная погода! – говорит он, хмуря брови. – И иззяб я ужасно. Завтра, если не будет так сыро, Котик, поедем верхом.
– Тссс! Какой же я Котик, когда я Брандегильда? Вот ты всегда спугнешь настроение, испортишь игру. Вот опять, видишь, настраиваться надо, – говорю я недовольно.
– Ну-ну, не буду. Не буду, детка.
И рыцарь Трумвиль очень галантно целует мою тоненькую руку.
– Фррр! – слышится в соседней комнате, и чьи-то тяжелые шаги приближаются к нам.
– Мишук! Тебя только и недоставало.
Я охватываю милую черную кудлатую голову совсем уже выросшего Мишки и валю его на ковер. Это для него огромная неожиданность. Он силен, как бык, но неловок удивительно, как и подобает быть неловким косолапому Мишке. Но сейчас он ничуть не обижен за такое бесцеремонное с ним обращение, лежит у моих ног, трется головой о белый серебристый шелк платья и довольно урчит:
– Фрр!
– Рыцарь Трумвиль, – обращаюсь я к моему собеседнику, – что вы видели сегодня на охоте в лесу?
– Я видел, Брандегильда…
Тут начинается полный захватывающего интереса рассказ о плачущих, заколдованных осенью деревьях, о сентябрьском жутком плене, о пении ветра и вечерних криках птиц.
Мой муж – талантливый импровизатор, и говорить он умеет красиво, как поэт. Меня захватывает его фантастическая сказка, я хватаю карандаш, бумагу и перекладываю ее на стихи.
А камин пылает. И слышатся шаги дневального на крыльце, и звучит так сладко сонное всхлипывание Мишки. Может быть, потому комнатному пленнику в роскошной шубе снятся родной лес и родное логовище. Я тихо глажу его теплую шубу и смотрю на мужа.
От обычой мрачности в его лице нет и следа.
Складка между бровей исчезла. Черные глаза сияют. Сверкают в улыбке белые, как сахар, зубы.
Неужели тоненькая Брандегильда сделала счастливым рыцаря Трумвиля навсегда, маленькая девочка Брандегильда с ее фантазиями и сказками, с ее бестолковой, мечущейся в грезах душой?
– Вы счастливы, рыцарь Трумвиль, скажите?
– Когда с тобою, вдвоем с тобою, без людей, вдали от них, – слышится ответ.
Нет, я с ним не согласна. Я люблю людей, как сестер и братьев. Люблю их речи, беседы и смех. Люблю обмениваться с ними мнениями, спорить о литературе и искусстве. Это – жизнь. Жизнь такая же, как бег на лыжах или по льду, или бешеная скачка на Красавчике по степным дорогам Украины. А камин и тихий вечер в замке и тоненькая Брандегильда с медвежьей головой на коленях – это только сказка.
– Скажите, рыцарь Трумвиль, могут ли быть сказки на земле?
Он не успевает ответить. Верный оруженосец появляется на пороге.
– Что тебе, Галка? – быстро осведомляется муж.
– Так что, ваше высокоблагородие, – говорит он, – насчет птицы, что вы убили. Дуралея эта…
– Какая Дуралея? – хмурится рыцарь Трумвиль.
– Ну, Дуралея, Даша, куфарка, – роняет Галка тем же унылым тоном.
– Ах ты! – возмущаюсь я. – Не Даша, а Доротея. Понял? До-ро-те-я!
– Так точно, понял. Дуралея, – подтверждает он.
– Тьфу! Так что же птица?
– Птица-то на самом деле вовсе не птица, ваше высокоблагородие.
– Как не птица? – срывается в один голос у меня с мужем.
– Не могу знать, а только не птица. По всему видать…
– Так что же?
– Ворона, – получается такой же скорбный ответ. – Не могу знать, а только, значит, ворона.
– Так, стало быть, я по-твоему, в темноте принял ворону за дикую утку и убил ее? – начинает горячиться рыцарь Трумвиль, и гневные искорки загораются в его глазах.
– Не могу знать.
Я не в силах больше удержаться, валюсь на мех тибетской козы и громко хохочу, разбудив моим смехом сонного Мишку.
– Фррр! – вторит он мне, выражая не то свое неудовольствие, не то сочувствие.
Рыцарь Трумвиль негодует. Он – прекрасный, всеми признанный охотник – никак, даже в темноте, не мог принять ворону за дикую утку. Чтобы восстановить свою репутацию, он кратко приказывает Галке:
– Принеси сюда дичь, я погляжу.
– Слушаю-с, ваше высокоблагородие.
Галка делает поворот назад, щелкает каблуками и исчезает за дверью. И вдруг снова просовывает в щель свое унылое, до невероятия спокойное лицо.
– Так что оно, ваше высокоблагородие, никак это невозможно.
Что невозможно? – теряя терпение, вскидывает на него грозными глазами муж.
– Так что с духом они. Никак, то есть, в чистые комнаты их благородия доставить невозможно.
– Кого?
– Ворону, значит.
– Ха-ха-ха!
Мы уже не слушаем его и несемся взапуски по винтовой лестнице в «подполье замка», то есть в кухню. Там у стола Даша, то есть Доротея, потрошит огромного дикого селезня, принятого Галкой за ворону. От него пахнет дичью, болотом и лесом.
– Вот так ворона! – смеется своим глуховатым смехом рыцарь Трумвиль.
– Ха-ха-ха! – заливается, вторя ему, Брандегильда.
* * *
Звонок. Гости. Мы взглядываем друг на друга. Рыцарь Трумвиль, только час тому назад вернувшийся с охоты, очень устал. Ему так приятно посидеть на мехе тибетской козы в обществе Брандегильды у пылающего камина и вести бесконечную игру в «замок Трумвиль». А со словом «гости» сопряжено известное напряжение, чинное сидение на диване, ярко освещенная гостиная и скучные беседы обо всем «всамделишном», таком далеком от грез, так хитро сплетенными двадцатипятилетним фантазером-мужем и его мечтательной восемнадцатилетней девочкой-женой.
– Не надо гостей, не надо! – шепчу я. – Галка, Галка! Если папа и мама или дети с Эльзой и Варей, прими, конечно; да поручика Зубова, да господ Рогодских, – это свои, а для других нет дома. Понял? – шепчу я, вытягивая шею снизу лестницы, в то время как наверху Галка внимательно ловит каждое мое слово, перегнув через перила свое тонкое длинное туловище.
– Так точно, понял, ваше высокоблагородие. Слушаюсь, – долетает до меня сверху, и он мчится в переднюю, гремя сапогами и грозя разрушить своей несуразной особой и замок, и лестницу, и весь мир.
А звонок все звенит, заливается в передней. Мы, притаившись внизу, слушаем, как щелкает ключ входной двери.
– Господа дома? – доносится до нас знакомый голос.
Ага! Это Невзянский.
– Оба дома, прекрасно, – вторит другой.
Это Линского голос. Потом короткая пауза, и веселый Тимочкин голос звенит на весь «замок»:
– Здорово, Галка!
– Здравия желаю, ваше высокоблагородие, – отбарабанивает тот.
Затем прибавляет что-то.
Пауза.
И снова щелкает ключ в замке. Какие-то возгласы протеста. Чей-то смех, обидчивый, но веселый. И тоненькая фигурка Тимочки Зубова появляется на верху лестницы перед нами.
– Ха-ха-ха! – заливается Зубов. – Нет, друзья мои, ваш Галка – одно великолепие! Вы подумайте: он и Линского, и Невзянского выпроводил сейчас!
– Как выпроводил? А вас-то ведь принял? – недоумевающе роняют мои губы.
– А вот как выпроводил: «Дома-то, – говорит, – господа дома, да, говорит, никого не велено принимать, акромя папы да мамы, да братцев, да сестрицы с губернаршами, да подпоручика Зубова, да господ Рогодских. А вас, ваше благородие, так что нельзя». Нет, видали вы такой экземпляр?! А!
– Зарезал! Без ножа зарезал! – кричит мой муж, внезапно превращаясь из владетельного рыцаря Трумвиля в поручика Чермилова.
– Вернуть их! Вернуть! Сию же минуту!
И он несется по лестнице, сбив по пути с ног подвернувшегося ему совсем уже несвоевременно Мишку.
– О, какой ты глупый, Галка, какой ты глупый! – говорю я с искренним сокрушением, раскачивая из стороны в сторону головой.
– Так точно! – уныло соглашается невозмутимый Галка.
– А мы-то ведь пришли к вам поговорить об устройстве задуманного нами спектакля, – роняет он, – и вдруг такой прием. Ха-ха-ха! Прелесть Галка! И откуда Борис выкопал чудовище этакое?
Я в отчаянии и волнуюсь ужасно. О, глупый Галка! Никогда никакой порядочный оруженосец не выйдет из тебя.
К счастью, Невзянскому и Линскому удалось объяснить причину недоразумения, и мой муж привел обоих к нам, извинившись за своего оруженосца.
За чайным столом много говорилось о предстоящем спектакле, в котором нас уговаривали выступить. Спектакль – это что-то новое и забавное. Я с восторгом даю свое согласие, но рыцарь Трумвиль молчит.
– Ах, пожалуйста, играй, – молю я его глазами. Он колеблется.
– Со мною в одной пьесе.
– Ах, если так.
Он согласен.
– Ура! Согласен! – кричит Тимочка на весь «замок». – Хорошо жить на свете, Галка? А?
– Так точно, ваше высокоблагородие! – соглашается тот без колебания, вытягиваясь в струнку.
– Особенно когда господа дома и принимают, – шутливо язвит Линский.
– И поят чаем с вареньем, – вторит Невзянский.
Я невольно опускаю голову и краснею до ушей сквозь улыбку. Нет, никогда не надо лукавить даже в пустяках. Запишем это раз навсегда на скрижалях моей жизни во избежание подобных же недоразумений впереди.
* * *
На улице те же ненастные нудные осенние дни, зато в «замке» суета, к крайнему неудовольствию Мишки, который не выносит никаких новшеств и любит «тихое положение» – лежать в сладкой дремоте перед тлеющим камином. Тогда он грезит о родном лесе и сладко урчит. За этот год он вырос в большого настоящего медведя, и от него прячут мясо, один вид которого может разбудить в нем дикие наклонности хищного зверя. Рыцарь Трумвиль отдал приказание держать его внизу, в сарайчике, и реже пускать в комнаты. «Не дай Бог, случится что-либо, – говорит он часто, выпроваживая нашего четвероногого друга за дверь всякий раз, когда милая лохматая голова просовывается в комнату. – Еще с полбеды, если случится при мне, но если Котик будет один – как он справится с озверевшим хищником?»
– Мишка – озверевший хищник? Ха-ха-ха! Милый, тихий, сладко урчащий Мишук.
Эта мысль кажется мне нелепой, и Брандегильда смеется беспечным детским смехом.
А в «замке» все та же суета, сутолока и волнение. Предстоящий спектакль перевернул весь строй жизни тоненькой Брандегильды. Теперь я с утра до вечера хожу по комнатам и учу роль, роль молоденькой вдовы в грациозной, изящной салонной пьеске «Из-за мышонка». В ней говорится о двух молодых людях, боящихся мышей. Эти молодые люди нравятся друг другу и желают соединиться брачными узами, но переговорить по этому поводу они никак не могут: страшная мышь мешает этому. Забавная пьеска, вызывающая непрерывный хохот публики, очень нравится мне. Я играю молоденькую вдову. С первых же слов я чувствую, что смогу сыграть порученную мне роль, я, не игравшая ничего в моей жизни. Надо быть только самой собою, не Брандегильдой из замка Трумвиль, конечно, а задорной, веселой Лидой Воронской, то есть, вернее, Чермиловой (никак не могу за эти семь месяцев привыкнуть к моей новой фамилии), скакать и прыгать по диванам, визжать больше от смеха, нежели от страха, шалить и дурачиться на славу. Во всех отношениях прекрасная роль. Но рыцарь Трумвиль отнюдь не разделяет моего восторга.
– Ничего у меня не выходит, – с отчаянием вырывается у него, и он далеко отбрасывает тетрадку со своей ролью. – Во-первых, глупые слова, во-вторых, глупое положение. Я один на один выйду на медведя, а тут, здравствуйте: мышей бояться надо. В-третьих, как я им всем «штафиркой» покажусь? Да я фрака в жизни моей не напяливал ни разу!
– Конечно, мой милый, рыцарские доспехи вам больше к лицу, – соглашаюсь я.
– Ага! Ты смеешься!
Тетрадка с ролью летит куда-то в угол, и рыцарь Трумвиль мчится за Брандегильдой кругом обеденного стола.
– Ваше высокородие, на лепертицию пожальте. Господа все собрамшись, – замирая на пороге, рапортует Галка.
– А, на лепертицию! Ладно!
Подбираем тетради с ролями и спешим через теплый коридор в офицерское собрание, находящееся под одной крышей с «замком Трумвиль».
В главной зале собрания – кавардак. Наскоро сколоченные подмостки сцены пахнут свежим деревом и лаком. Тимочка, Невзянский и офицер-художник Рудольф пишут декорации, безжалостно продушив краской все шесть комнат собрания.
Кроме того, Невзянский – режиссер, а Тимочка – сценариус и его помощник. Оба успели накричаться до хрипоты и на плотников, и на столяров, и на актеров и теперь выдавливают из себя слова зловещим шепотом.
Первая пьеса в три акта налаживается быстро. Самую смешную и видную роль кухарки поручают Маше Ягуби, которая играла не раз в предыдущих спектаклях и считается «почти настоящей актрисой». Баронесса Татя играет небольшую роль светской барышни, две молоденькие жены офицеров – двух шаловливых барышень-проказниц, приехавших домой на летние каникулы, Тимочка – старика-майора, Линский – молодого офицера и режиссер Невзянский – комика-доктора.
Первая пьеса пройдет прекрасно, это несомненно: все люди бывалые, игравшие, и все это заранее знают. И Тимочка забавен, и Невзянский, а Маша Ягуби – та просто один восторг, точно она родилась, чтобы быть актрисой. Но зато вторая…
Ах!
Я знаю роль назубок, как говорится, но стесняюсь шуметь, прыгать, кричать, хохотать и визжать на сцене. Мямлю слова и двигаюсь как связанная, вспыхивая до ушей от каждого слова режиссера.
Но я еще с полбеды, тогда как Борис, рыцарь Трумвиль, оказывается никуда негодным актером.
– Шут знает, что такое! Провалите вы «Из-за мышонка»! Ах! – возмущается, негодует и волнуется Невзянский. – Да что ты, Борис, радость моя, не видел разве, как волнуются другие люди? – пристает он к злополучному Борису, который говорит по ходу роли слова: «Сударыня, я пришел просить вашей руки».
– Не годится! Никуда не годится! – искренно сокрушается Тимочка и вдруг отчего-то спохватывается и выпучивает на меня с отчаянием остановившиеся глаза.
– Батюшки мои! А где же лакеус? Откуда мы возьмем лакеуса? В пьесе выходит лакей и говорит: «Владимир Александрович Карский». Кто согласится играть такую крохотную, незначительную роль?
Никто не соглашается, конечно. Не стоит гримировать лицо и переодеваться из-за одной фразы доклада. Это скучно. И офицеры, и их родственники, и знакомые не согласны на такую жертву. А без лакея играть невозможно, никак нельзя. Кому же, однако, сказать эти три слова?
Ба! Счастливая мысль приходит мне в голову. Ура! Лакей есть!
– Мы нарядим Галку и научим его доложить, – говорю я.
Но «режиссер» и его «помощник» выражают некоторое опасение.
– Как бы он не испортил нам дела.
– Ну, уж не бойтесь, я это беру на себя, – отвечаю я.
– Ну, если так – пожалуй.
Звать Галку на репетицию нельзя: у него и так много работы дома. Он занят целый день в «замке» уборкой комнат, ходьбою с поручениями, подаванием обеда, ужина, – словом, работы у него немало. И я поэтому решаюсь заняться с ним его ролью дома.
– Галка, – зову я его вечером после чая, – иди сюда.
Он останавливается у порога в пролете двери и замирает как вкопанный.
– Чего изволите, ваше высокородие?
– Галка, кто это?
И я указываю ему пальцем по направлению рыцаря Трумвиля, читающего с тетрадки роль в соседней комнате.
– Так что, его высокородие поручик Чермилов, – отвечает он, еще больше вытягиваясь в струнку и опуская руки по швам.
– Нет, – говорю я с отрицательным жестом, – это не поручик Чермилов. Нет, Галка.
На лице у него появляется выражение самого красноречивого удивления.
– Это Владимир Александрович Карский, – доканчиваю я, глядя в его растерянное лицо.
– Так точно! – соглашается он с тем же оторопелым видом.
– Повтори.
– Так точно!
– Не «так точно» повтори, а скажи: Владимир Александрович Карский.
– Так точно, Владимир Лександрович…
– Без «так точно».
– Без так точно, – уныло вторит он мне.
Я начинаю приходить в отчаяние. Пробую сначала.
После получаса усиленного вдалбливания фразы в плохо уясняющую себе роль голову Галки (при чем Владимир Александрович Карский постоянно варьирует то на Владимира Лександровича Кникина, то на нечто совершенно в ином роде), я отпускаю наконец душу несчастного Галки с миром.
Весь потный от старания услужить «ея высокородию-барыне» (которую и он, и Корнелий, и кухонная «Доротея» очень любят, в то время как рыцаря Трумвиля страшно боятся почему-то), Галка идет накрывать к ужину стол.
* * *
Вечер спектакля. Большая белая, под мрамор, зала собрания сверкает сотнями огней. Зажжены огромная хрустальная люстра и все многочисленные электрические рожки по стенам. В комнатах носятся волны какого-то ароматного курения. Сцена отделена тяжелым занавесом от большей половины громадной залы, в которой пустуют пока сотни кресел и стульев в ожидании публики. Спектакль назначен ровно в девять, и к этому времени начинают съезжаться приглашенные.
Забравшись чуть ли не с семи часов в крошечную уборную, я тщательно, как настоящая актриса, гримирую себе лицо, то есть накладываю на него поверх кольдкрема и пудры легкий слой румян, черню брови и веки и алой губной помадой мажу губы. Белокурый парик с пышной прической, новое лиловое «настоящее» дамское платье с длинным шлейфом, а главное – измененное благодаря гриму лицо делают неузнаваемой скромную Брандегильду.
Я улыбаюсь себе в зеркало, делаю сладкое лицо и низко, почтительно приседаю перед собственным отражением. Потом внимательно прислушиваюсь к тому, что происходит по ту сторону тяжелого занавеса, в зрительном зале. Слышу сдержанный говор, всплески смеха, шум отодвигаемых стульев. Наконец хор трубачей покрывает все предыдущие звуки, служа прелюдией к началу спектакля. Сейчас, вслед за этим должен раздвинуться тяжелый занавес – и первая пьеса с ее исполнителями предстанет на суд снисходительной публики.
Я еще раз окидываю взглядом свой туалет, не переставая шептать слова роли, и хочу уже выйти из крохотной комнатки за кулисы, чтобы оттуда слушать пьесу, как неожиданно со мною на пороге сталкивается какой-то белокурый господин.
Боже, до чего платье и грим меняют человека! Я не узнаю рыцаря Трумвиля, положительно не узнаю. Штатское платье сидит на нем мешковато; рыжеватый парик плохо покрывает голову; приклеенная золотистая бородка меняет общий вид его лица, сумрачного и угрюмого. Брови и усы, напудренные золотистой пудрой, имеют очень странный вид.
– Хотел играть блондином, чтобы не сразу узнали. Не так совестно осрамиться, – говорит он. – Ну, как ты находишь?
– Нахожу, что отлично, – улыбаюсь я. – Только вот что: я тебе подправлю гримировку.
– Ну! И разве ты умеешь, Котик?
– Молчите, рыцарь Трумвиль, и повинуйтесь вашей Брандегильде.
Я усаживаю его перед зеркалом и приступаю к работе: несколько штрихов синей краски под глазами, несколько черточек тушью вокруг ресниц, немного розовой пасты на щеки и румян на губы – и рыцарь Трумвиль превращается в самого очаровательного красавца в мире.
Оба мы смотрим в зеркало сосредоточенными глазами.
– Ну что? Хорош? – восторгаюсь я.
– Ннда… Не то жулик, не то рыцарь из карманщиков…
– Уж ты скажешь! А по-моему, прелестно!
Нас прерывает Тимочка, пулей влетевший в уборную.
– Лаку, ради Бога, лаку для наклейки. Скандал этакий вышел. Ус отвалился в самой патетической сцене. А злодейка Марья Яковлевна еще прибавила – играет, говорит свое, а потом, как увидела, прыснула в руку и вставила: «Что ж это ты, барин, ус-то, видно, себе на свечке опалил». Публика хохочет, а я так и замер. Ужас, подвела как! Скандал!
– Ты вот что скажи лучше, – вставляет рыцарь Трумвиль с озабоченным видом. – Галка-то приготовлен как следует?
– Успокойтесь, готов Галка. Вот только, как следует играйте сами, а он выглядит молодцом.
– Рады стараться, ваше высокородие, – рапортую я, приложив правую ладонь к виску и вытягиваясь в струнку по-солдатски.
Но Тимочке нынче не до смеха. Он наскоро приклеивает лаком ус и мчится обратно на сцену. Вскоре оттуда звучит деланным старческим басом его полудетский голос. А звонкий бойкий голос Маши Ягуби, под непрерывный смех публики, подает ему реплики.
В кулисах мелькает довольное лицо Невзянскаго. Слава Богу, спектакль идет гладко, и «режиссер» доволен.
* * *
Эффектно и забавно заканчивается первая пьеса. Три акта ее прошли без сучка и задоринка, если не считать отклеившегося уса и уроненной Тимочкою с ноги посреди сцены ночной туфли. Но все это вздор в сравнении с умопомрачительной игрой Маши Ягуби, удивительной выдержкой Тати и ни с чем несравнимым комизмом Невзянского, лучшего «актера» из всех.
Все они были награждены по заслугам горячими аплодисментами.
Наскоро доморощенные плотники из Тимочкиной роты меняют самодельные декорации и переставляют мебель.
Я пользуюсь общей суматохой и, подойдя к занавесу, приставляю глаз к маленькой дырочке, просверленной в нем. Оттуда мне прекрасно видна вся зала. В первом ряду кресел, подле четы Рогодских, вижу моего «Солнышко» в его пушистых парадных эполетах, а подле него – маму-Нэлли в черном кружевном платье. Милая, и она приехала посмотреть на меня!
У нас дома большая новость. В детском отделении квартиры прибавилась одна маленькая кроватка-колыбель: у мамы-Нэлли и «Солнышка» вскоре после моей свадьбы родилась еще одна маленькая дочка, синеглазая, темноволосая Наташа. Это радостное известие принесла нам экстренная депеша среди знойного лета на простор украинских степей. Прелестная девочка – живая игрушка всей семьи. И когда я смотрю на это очаровательное личико, у меня складывается твердое убеждение: как было бы хорошо, если бы и в замке Трумвиль появилась такая же синеокая и темнокудрая крошка. Я бы научила ее любить людей, скакать верхом и бегать на коньках и на лыжах. И сейчас, глядя на улыбающуюся, счастливую и довольную маму-Нэлли, разговаривающую с Рогодским, я невольно задумываюсь о том же.
Неожиданный звонок за кулисами прерывает мои мечты.
– Как, неужели нам начинать сейчас? – спрашиваю я, вздрагивая.
– Очистите сцену! – вместо ответа кричит грозным голосом Невзянский.
Подобрав шлейф, я бегу за кулисы, в то время как сердце мое стучит, стучит, не переставая, а руки в один миг становятся холодными, как лед. Дрожь страха подползает к самому сердцу. Ноги делаются свинцовыми, и я волнуюсь как никогда.
* * *
Хор трубачей медленно стихает, и с легким шуршанием раздвигается занавес.
– Выходите, – шипит мне Тимочка, но откуда – я уже не вижу, не разбираю. Вообще ничего не понимаю сейчас, кроме того, что я, тоненькая, высокая, в пышном белокуром парике женщина, уже не Лида-Брандегильда, она же Котик и «детка», а героиня пьесы – самая заурядная светская барынька, ужасная трусиха при этом, до смешного боящаяся мышей.
И странно: я чувствую себя именно таковой сию минуту: я боюсь до безумия мышей и холодею при одной мысли о мышонке, разгуливающем по моей квартире. И с криком «Затворите двери! Там мышь!» бледнея даже под моими румянами, я выбегаю на сцену.
Тут уже Брандегильда-Лида окончательно перестает существовать, а Марья Александровна, молоденькая трусливая вдовушка, знакомит публику с ходом пьесы.
Как я говорю, двигаюсь, смеюсь – решительно не отдаю себе отчета. Мой голос звучит уверенно, твердо. Мой смех весел и искренен. Движения мои свободны, точно крылья выросли у меня за спиною. И я говорю, говорю без умолку, непринужденно смеясь или пугливо вскрикивая и озираясь.
В публике одобрительный шепот. Десятки биноклей направлены на меня. Улыбается «Солнышко» из первого ряда. Вижу все как во сне. И Невзянского вижу в просвете кулис. Стоит, одобрительно кивает головою и аплодирует беззвучно, подняв руки выше головы.
И вдруг смех раздается в зале. А у меня, как нарочно, грустное место, где я по ходу пьесы говорю о покойном муже.
Оглядываюсь назад. Боже! Галка! Но в каком виде! Где они достали этот несчастный фрак, который доходит ему до половины фигуры, с рукавами чуть ли не да локтей только, откуда торчат его красные неуклюжие руки с беспомощно растопыренными пальцами. К довершению ужаса, фрак трещит на спине, вот-вот того и жди, сейчас лопнет. А его лицо! Что они сделали с его лицом! Или он так вспотел от неудобства своего чересчур узкого платья и от непривычного выхода в качестве актера? Но вместо лица у него какие-то кляксы, красные и черные, с присоединенными к ним полосами, наподобие полос шкуры зебры. Совсем татуированный индеец, да и только. Невозможно без хохота смотреть на эту изуродованную фигуру, на это измазанное, комическое лицо.
Я гляжу на него, закусив губы, и жду доклада о приходе молодого господина – тех трех слов, над которыми я так добросовестно билась с злосчастным Галкой.
Под моим взглядом он вытягивается в струнку, прижимает растопыренные пальцы к бокам и громким голосом, совсем по-солдатски, рапортует:
– Так что их высокородие пожаловали, поручик Ермилов.
И, сделав поворот налево кругом, направляется равномерным шагом к двери, ужасно стуча ногами грозя сокрушить и подмостки, и кулисы, и самую дверь. Затем, точно спохватившись и как бы вспомнив что-то, возвращается тем же солдатским маршем назад и заявляет громогласно:
– Виноват, барыня. Владимер Ляксандрович Каша пожаловали.
И снова исчезает со своим невозмутимым видом под оглушительный хохот публики.
В первую минуту мне кажется, что все пропало. И меня тянет убежать за кулисы, где Невзянский шипящим шепотом ругает Галку.
Но это желание мое минутно. Смех по ту сторону рампы понемногу смолкает. Появляется рыцарь Трумвиль в образе изящного блондина, и пьеса идет своим ходом. Понемногу инцидент с Галкой забывается. Публика смеется уже пьесе.
Рыцарь Трумвиль, против ожидания, мил и забавен со своим застенчиво-угрюмым видом и угловатыми манерами провинциала, так подходящими к роли. Нет, он положительно создает даже тип. Это сюрприз, да еще какой приятный. Новая волна захватывает меня, и я забываю снова все: и зал, и публику, и Галкин неудачный выход. Мой голос звенит уверенно, задорно и весело. А когда мы оба прыгаем и скачем по диванам и креслам, спасаясь от мыши, весь зрительный зал сотрясается от смеха.
Занавес сдвигается под долго не смолкаемый гром аплодисментов.
– Браво! Браво! – доносится до нас из зала.
– Браво! Браво! – кидаются ко мне за кулисами Тимочка и Невзянский. – Вы настоящая актриса. Неужели играете впервые?
– Конечно, впервые.
Маша Ягуби жмет мою руку. Прибежавшая «из публики» Дина Раздольцева виснет у меня на шее.
– Дуся! Милочка! Вот удружила-то! Вот восторг!
И она скачет вокруг меня, забыв свое впервые одетое в шестнадцать лет длинное платье.
Приходят и «Солнышко», и мама-Нэлли к нам за кулисы.
– Хорошо! Молодцы оба! – говорит отец.
А мама-Нэлли, схватив нежной рукой мои плечи, отводит меня в сторонку.







