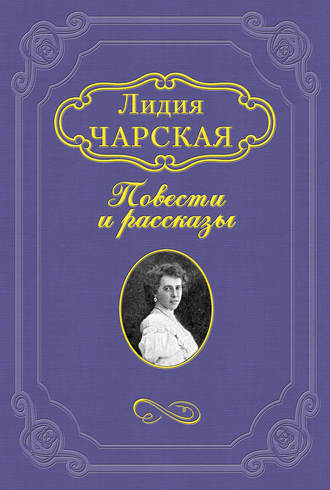
Лидия Чарская
На всю жизнь
Ах, какая тоска! Что же я буду делать? Общество незнакомое. Мои англичаночки подводят ко мне то одного кавалера, то другого. Те делают со мною молча по туру вальса и, процедив что-то сквозь зубы, сажают на место.
А что, если удрать отсюда в сад, к Большому Джону, туда, где приготовляют фейерверк?
Я с тоскою поглядываю в окно, где закутывается в седую пелену сумерек светлая майская ночь. А тапер играет вальс за вальсом, польку за полькой, и чопорные пары кружатся без конца.
Алиса и Елена подсаживаются ко мне.
– Это жаль, – обращается ко мне по-французски старшая англичаночка, – что папа не пригласил, кроме вас, никого из русских. Вы скучаете?
– Ужасно! – сознаюсь я.
У них делаются испуганные лица, точно я сказала что-то ужасное. Но действительно же – скучно мне. Почему же я должна это отрицать? Или в этом не принято признаваться?
– А у нас новость, – говорит Алиса. – Джон взял мальчика себе в услужение. Такой проказливый мальчик и, говорят, воришка. А Джон его все-таки взял в услужение.
– Да, да! Вообразите! И носится с ним, как с родным братом, – вторит Елена. – А мальчик-то бродяжка – из тех, кого сажают в тюрьму.
«Ах, это Левка, – соображаю я. – Интересно было бы взглянуть на него». И я высказываю свою мысль сестричкам.
– О, он невозможен! Это совершенный пират! – подхватывают подошедшие Мэли и Лиза.
– Вот это-то и интересно! – восклицаю я, оживляясь.
– Мы его не выносим, – цедит Лиза. – Это какое-то чудовище. Злой и испорченный мальчишка.
– M-lle, на тур вальса! – слышу я над моей головой.
Еще один юноша с английским пробором на тщательно прилизанной голове. Волосы точно склеены гуммиарабиком и блестят, как сталь. Опять предстоит кружиться по залу с этой заводной машинкой. Ни за что! Я сухо благодарю и отказываюсь.
– Как! Что! Вы не любите танцев? Как странно! Такая молоденькая барышня – и не любит танцевать! – поют мои англичаночки.
Знакомое чувство закипает у меня в душе. Я уже знаю этот приступ, который «накатывает» на меня и превращает в дикарку, истую дочь татарских степей. Я встряхиваю стриженою головою и говорю по-французски:
– Нет, настоящие танцы, вернее, пляску я ужасно люблю. Но чтобы шумно было, весело, бешено все кружилось. Чтобы рояль плясал, и тапер, и стены залы, и искры сыпались бы из-под каблуков! – заканчиваю я с залихватским жестом.
О-о! Ужас отражается в глазках уравновешенных мисс.
– Вот такую, пляску я люблю! – прибавляю я, и глаза мои горят.
Все «миссы», как я их называю, переглядываются с ужасом. Я слышу нелестную для меня фразу: «Возможно ли, что она окончила институт?!» Потом Алиса говорит:
– Барышня из общества должна танцевать корректно, без особого увлечения, а так пляшут только на сцене или у цыган.
– Вот-вот! – подхватываю я с жаром. – Это и прекрасно! – И мое лицо уже пылает. – Ведь это и есть жизнь! Настоящая жизнь!
– Ну разумеется, – слышу я веселый, хорошо знакомый голос. – Маленькая русалочка, я понимаю вас.
– Большой Джон! Наконец-то! – кричу я и вскакиваю со стула. – Ах, Большой Джон, я так скучала без вас!
Должно быть, и этого говорить не полагалось. В «благовоспитанном обществе» нельзя говорить о том, что чувствуешь в душе. Нельзя высказывать правды в глаза. На балах и в обществе так называемого хорошего тона надо надевать маску. По крайней мере, лица у шести сестриц делаются такими кислыми, точно им дали глотнуть уксуса. И с блаженными улыбками они шепчут:
– Джон, займи мисс Лиду – она скучает с нами.
– О, со мной она не заскучает, клянусь головой! – хохочет Джон.
– Никогда, Большой Джон! Вы правы! Вы меня понимаете! – вторю я и улыбаюсь ему.
* * *
В чинном спокойствии чопорные «мистеры» с проборами и тихие «миссы» под звуки рояля тщательно выделывают бесконечные фигуры.
Джон танцует со мной. Но что выделывает он своими длинными ногами!
Он то подпрыгивает на ходу, то приседает, то вдруг затопает каблуками, вскинет то одну ногу, то другую и внезапно, когда надо выделывать соло, завертится волчком.
– Это матросский танец, – поясняет мне мой кавалер. – Один негр лихо отплясывал его на палубе со своей женой-поварихой, когда мы плыли на пароходе Добровольного флота в Нью-Йорк. Не правда ли, хорошо, маленькая русалочка?
– Прекрасно, Большой Джон, – соглашаюсь я. – Чудесно.
– А не хочет ли изобразить маленькая русалочка жену негра, повариху?
– Понятно, хочу, Большой Джон! Какие еще могут быть о том вопросы!
– Ну, так начинаем. Тра-ля-ля-ля!
И он с хохотом обвивает мою талию рукою и пускается галопом между рядами танцующих пар.
Дирижер, высокий, элегантный юноша, кричит нам что-то, чего мы не слышим. Притопывая, привскакивая и кружась волчком, мы танцуем тот импровизированный танец негров-матросов, внося в него всю бесшабашную удаль полудиких людей, и хохочем, точно настоящие дикие негры.
Вот вам и корректный бал. Вот вам и чопорная Англия.
Остановить нас некому. Старшие играют в карты за две комнаты отсюда. А чопорные мисс лишь бледно улыбаются.
Вдруг хохот, несется вслед за нами от входных дверей.
– Вот так штука. Здорово валяют! – слышу я детский голос.
И в тот же миг сердитые возгласы и шиканье покрывают его.
– Левка! Иди прочь. Тебе здесь не место. Какой ты грязный. Тебе нельзя сюда, здесь гости! – шипит Алиса Вильканг, выталкивая за дверь гибкую фигуру в заплатанной парусиновой блузе.
Черные глаза, спутанные кудри, задорная рожица мелькают передо мною. Это Левка. Я узнаю его сразу. За неделю сытой жизни под крылышком доброго покровителя щеки его округлились и порозовели. В его плутоватых глазах написано полное довольство.
– Пошел вон! Пошел вон! – с легким акцентом кричит Алиса и подталкивает мальчика в спину.
– Большой Джон, – шепчу я умоляюще, – позвольте ему остаться.
– Невозможно! – отвечает мне Алиса. – Это сущий разбойник. С ним нет сладу. Наглый и дерзкий, за все хватается и, не догляди, готов стащить со стола лакомый кусочек.
И, оборачиваясь к мальчику, добавляет строго:
– Что ж ты стоишь? Тебе же велено убираться отсюда.
И она выталкивает его за порог залы. Но в самых дверях Левка останавливается и, оборачиваясь к «новорожденной», показывает ей уморительный жест.
Большой Джон прячет разгоряченное лицо за мой веер и бесшумно хохочет.
* * *
Пока в зале открывают форточки и освежают комнату, рядом, в кабинете Джона, играют в «мнения». Мистер Джон Манкольд, длинный юноша с рыжими бачками, собирает их. На мою долю выпадает жребий уходить.
Когда я возвращаюсь, Большой Джон шепчет мне незаметно:
– Ну, берегитесь! И разделали же они вас под орех!
Я только встряхиваю волосами (мальчишеская привычка, доставляющая маме-Нэлли столько хлопот).
Действительно, мне досталось не на шутку. Мистер Манкольд с особенным удовольствием перечисляет все, что обо мне говорили. Мне приходится слышать, что я дикая, слишком непосредственная, удивительно своеобразная (это сказано в насмешку, но на французском языке звучит как комплимент), что я «казак», что мне еще придется много работать над собою, чтобы быть как другие, что я бедовая и прочее.
И только одно «мнение» за меня.
«Она такова, что хорошо было бы, если бы все девушки в мире были на нее похожи».
Я сразу узнаю автора этого мнения.
– Угадала! Угадала! – кричу я, хлопая в ладоши. – Большой Джон, это сказали вы!
– Это сказал я, вы правы, – говорит он трагическим басом и под общие аплодисменты удаляется в зал.
– Что вы желаете сказать про мистера Джона? – обращается ко мне мисс Молли, дочь англичанина – управляющего здешней фабрики.
– Что он прелесть! – вырывается у меня.
Шушуканье, недоумение и потом насмешливый голос, бросающий звонким шепотом французскую фразу.
– Побойтесь Бога, m-lle! Так не говорят в глаза молодому человеку.
И мисс Молли таращит на меня с уничтожающим взглядом свои выпуклые глаза.
– Да разве Большой Джон молодой человек?! – смеюсь я.
– А кто же он?
И маленький, веселый и добродушный Бен Джимс, товарищ Джона, заливается смехом.
– Я считаю его моим братом! – говорю я гордо. – А брат для сестры не есть молодой человек.
Тогда мисс Молли тянет насмешливо, обращаясь к сестричкам Вильканг:
– Поздравляю вас, молодые леди. У вас есть седьмая сестра.
– Нет! Нет! – кричу я. – Сестрички Вильканг мне не сестры, но Большой Джон – милый брат.
Или я не должна была говорить и этого? Ого! Какие у них сделались вытянутые физиономии, у всех шестерых сразу.
– Мисс Лида воспитывалась в институте? – спрашивает Молли.
– Ну разумеется! Не в театре же марионеток! – восклицаю я.
«Вот тебе! Вот тебе, противная марионетка», – прибавляю я мысленно, видя, как она вся вспыхнула.
– Большой Джон! Пора! Мнения собраны, – приоткрыв дверь в соседнюю залу, зову я моего друга.
Но Большого Джона там нет.
– Ушел опять к фейерверку, – слышу я чей-то возглас.
Вместо Джона я вижу Левку, одетого в чистенькую парусинную блузу, с тщательно причесанной головой. Пестрый передник привязан к поясу. В руках поднос с прохладительными напитками, клюквенным морсом и оршадом. Глаза у Левки застенчиво опущены, на лице умиротворенное выражение.
– Налей мне питья, мальчик, – коверкая русские слова, говорят гости.
– И мне!
– И мне!
Левка чинно относит поднос на стол и раздает стаканы.
Ледяной мутный оршад удивительно утоляет жажду.
– И мне.
Алиса протягивает свой стакан величественным жестом королевы. Левка поднимает глаза. Две черные молнии сверкают на миг и снова исчезают за длинными ресницами.
И вдруг – о ужас! – струя оршада льется из кувшина мимо стакана Алисы на ее нежный белый газовый туалет.
А Левка злобно хохочет, топает ногами, улюлюкает и свистит.
– Вот тебе! Вот тебе за все сразу!
Едва сдерживая слезы, негодующая, злая и красная, Алиса поднимается со своего места.
– Гадкий мальчишка! Завтра же я попрошу тебя наказать! – говорит она рыдающим голосом.
– О, мисс, его стоит проучить сейчас же. – И длинные пальцы мистера Джоржа хватают за уши Левку.
– Не смейте его трогать! Пусть с ним расправляется его хозяин! – кричу я и стремительно закрываю собою Левку.
Этого только тому и надо. Он шарахнулся в сторону и исчез за дверью, предоставляя присутствующим заняться Алисой и ее испорченным платьем. А я убегаю в сад.
– Большой Джон! Ау!
– Ау! Ау, маленькая русалочка!
Он там, в конце площадки, возится с ракетами.
– Желаете помочь мне?
– Здесь веселее, – чистосердечно признаюсь я ему, – а там… – И я рассказываю своему другу приключение с оршадом.
Джон слушает внимательно, потом говорит:
– Мои сестры – удивительные девушки, но им не хватает снисхождения, а этот бедный ребенок Левка, в сущности, так несчастлив и одинок. Его родители исчезли куда-то, он стал из нужды бродяжкой, мелким воришкой. Но сердце у него привязчивое, и меня он любит по-своему. За эту неделю мне удалось уже приручить к себе этого дикого зверька. Вот, сестричка-русалочка, помогите мне обучить его грамоте. Сам я ведь плохо знаю по-русски.
– С большим удовольствием, я исполню ваше желание, Большой Джон, с восторгом! – тороплюсь я ответить.
Но тут нам приходится замолчать. Приготовления к фейерверку кончены, и гости высыпали в сад.
Бенгальские огни запылали алым заревом, как костры колдуньи, посреди площадки. Потом взвилась ракета, за нею другая, третья. Не чувствуя ног под собою, я перебегаю от одного столба к другому, поджигаю начиненные порохом палки, помогая Джону, и громко вскрикиваю каждый раз, как занимается желтое пламя. Но вот, рассыпая золотые брызги, завертелось огненное колесо.
Взрыв аплодисментов наградил нас за наши старания.
– Танцевать! Танцевать в залу! – зазвучали кругом голоса хозяек.
Фейерверк закончился.
Я и Большой Джон прибежали последними из сада.
– Маленькая русалочка, – произнес он тихо по дороге к залу, – в вашем доме поселилась бедная сирота. Ей тяжело одиночество. Не поможете ли вы бедной маленькой птичке?
– Вы говорите про Эльзу? – переспросила я. – Послушайте, Большой Джон, она, вероятно, вам жаловалась на то, что ей тяжело живется. Да?
– О, вы ее не знаете, маленькая русалочка. Эльза – золотое сердечко. Она никогда никому не пожалуется, как бы ей ни было тяжело.
– Хорошо, Больной Джон, я займусь ею, будьте спокойны.
– Я не ожидал иного ответа, маленькая русалочка. Ведь мы росли вместе с Эльзой. Она и мои сестры поднимались вместе. Я хорошо знаю это золотое сердечко. Будьте же другом этой малютке. Она так нуждается в вашей любви.
– Хорошо, Джон, прекрасно.
Я пожимаю его руку, и мы входим вместе в зал.
Дружное «ах» встречает нас на пороге. Большое зеркало в простенке между двух окон находится как раз против меня. Я бросаю в него удивленный взгляд и вскрикиваю от неожиданности.
Мое белое платье все в грязных пятнах, лицо закоптело от пороха и сажи. Черные безобразные кляксы пестрят по подолу и тюнику.
Вот вам и пускание фейерверка!
Я смотрю на Большого Джона. Он выглядит не лучше. На белом фланелевом костюме те же пятна и грязь.
Но что позволительно молодому человеку, нельзя простить барышне, окончившей институт.
Косые взгляды, насмешливые улыбки. Разумеется, никто из этих «денди» не пожелает теперь танцевать со мною. Меня тянет домой, сию минуту. Не могу же я оставаться в таком виде на балу.
– Я иду вместе с вами, – заявляет Большой Джон.
– Но, Джонни, в день моего рождения, – шепчет Алиса по-французски.
Он упрямо мотает головой.
– Но ты вернешься, Джонни?
– Да, да, конечно.
«Солнышко» остается доигрывать партию в шахматы с самим господином Вилькангом, прямым, как струна, стариком, с лицом типичного английского лорда.
– M-lle, может быть, потанцует еще? – говорит он с почтительной любезностью, провожая нас с мамой-Нэлли до передней.
– Ах! Нет, нет! – искренно восклицаю я. – Мне хочется домой.
Он удивленно приподнимает брови. Я, кажется, опять сделала бестактность. Не следовало этого говорить. Большой Джон беззвучно смеется.
– Ах, – говорю я с отчаянием, – сегодня у меня был неудачный дебют. Воображаю, что скажет моя голубушка мама; я, кажется, ее осрамила.
Ведь несомненно эта противная марионетка Молли, которая сразу почему-то возненавидела меня, доложила маме и про дикую скачку с Большим Джоном, и про фейерверк, и про грязное платье.
Но мама-Нэлли не хочет огорчить меня и, прижимая к себе мою руку, шепчет так, чтобы не услышал Большой Джон, шагающий по другую сторону дороги:
– Надо тебе, Лидочка, отучиться от некоторых привычек. В тебе много мальчишеского. Ты ведь взрослая барышня. Надо больше следить за собою.
– Правда, мама-Нэлли, правда! Я сама это сознаю. Ах, почему я в самом деле барышня, а не юноша-мальчуган?!
Эту мою мысль я высказываю громко. Большой Джон смеется.
– Тогда мы бы сели на корабль, русалочка, и объехали полмира.
– Целый мир, – поправляю я его.
* * *
Что это?! Едва мы успеваем отойти от фабрики, обведенной гирляндой цветных фонариков, как позади нас слышны громкие крики:
– Джон! Вернись! Джон! Мистер Джон! Сэр, вернитесь! Несчастье!
Крики на трех языках: русском, французском и английском.
Мы вздрагиваем и останавливаемся посреди дороги.
Белая ночь сияет расплывчатым светом. К нам приближаются светлые и темные фигуры. Впереди – девичьи; я узнаю их сразу: это Елена, Алиса, Молли, Лиза и Кетти.
– Джон, несчастье! Твой маленький слуга сбежал.
– Что?
– Левка сбежал. Его нигде нет. Ни в саду, ни в доме. Прислуга искала всюду, не нашла.
Джон медленно провел рукою по лицу, по волосам и посмотрел на своих сестер.
– Почему же вы все так испугались? – помолчав минуту, осведомился он.
– Он затеял что-то дурное, – говорит Алиса. – Он утащил монтекристо у папы и кухонный нож у повара. Это маленький разбойник.
– Что ты говоришь, Алиса! – резко произнес Большой Джон. – Левка действительно большой забияка, но это не преступник. А если он взял вещи, то я уверен, что это потому, что он думал запастись оружием на случай обороны.
– Недурная мысль, – заметил кто-то насмешливо.
– Я скоро вернусь. Провожу дам и приду. А вы не бойтесь. Левка не опасен, да и потом – он, должно быть, уже далеко. Как жаль, что я не сумел уберечь мальчика.
– Он убежал, потому что побоялся возмездия, – тихонько пояснила я и тут же рассказала маме-Нэлли про инцидент с оршадом, вылитым Левкой на колени Алисы.
– А все-таки он не злой и, насколько мог, привязался ко мне за эту неделю. И из него мог бы выйти хороший человек, из этого Левки, – произнес Большой Джон. – А теперь без меня он наверняка пропадет, бедный мальчуган!
Чтобы утешить моего друга, я говорю ему, прощаясь у калитки ворот мызы «Конкордия»:
– А Эльзу я пригрею, будьте покойны, Большой Джон.
Но он ничего не слышит. Его высокая фигура с крошечной головою медленно удаляется. И, наверное, эта маленькая голова полна тревожными мыслями о Левке.
Прежде чем отпустить меня спать, мама-Нэлли говорит со мною.
Надо перемениться окончательно, надо переделать себя. Я дика, своевольна, у меня манеры мальчугана. Надо научиться держать себя в обществе. Скоро отца переведут в большой город, надо будет выезжать в общество.
Ах, зачем мне это общество?! Зачем эти выезды?! Меня к ним не тянет нисколько. Я дикая, кочевая натура. Я обожаю природу – реку, поле и лес.
Я это высказываю маме-Нэлли громко.
– Как зачем! – удивляется мама-Нэлли. – Барышне необходимо выезжать, чтобы встретить человека, с которым она свяжет впоследствии свою судьбу. Ведь назначение светской девушки – выйти замуж, быть женою и матерью, воспитывать детей.
И мама-Нэлли говорит мне еще долго-долго о том, что мечтает видеть меня довольной и счастливой матерью и женой.
– Нет! Нет! – протестую я. – Выйти замуж? Нет! У меня другой идеал жизни намечен в мыслях.
– Но что же? – осведомляется она.
– Не знаю, – говорю я робко. – Не знаю, но мне кажется, что я не смогу довольствоваться обыденной простой долей, тою жизнью, какою живут все. Мне кажется, что меня ждет что-то яркое, светлое, большое. Я должна сделать, исполнить что-то крупное, огромное, но что – я еще не знаю и сама.
Я не доканчиваю фразы, целую маму и бегу в мою голубую комнатку.
Там меня ждет толстая тетрадь моих записок и еще другая со стихами, которые я пишу с детских лет. В них изложены мои мечты. Ах, как они дерзки и смелы. Слава Богу, что никто не прочтет их.
Нет! Нет! Женою и матерью я не буду. Я отдам себя всю искусству, буду «слушать» природу, любоваться ею и писать стихи. Кто знает?! Может быть, из меня и выйдет что-либо впоследствии.
* * *
По дороге, на третьей ступеньке лестницы, я вспоминаю о просьбе Джона.
Эльза! Я должна позаботиться о ней – и поворачиваю в комнату молоденькой гувернантки.
Она спит крепко, как ребенок, подложив под щеку крошечную ладонь.
Какое милое личико. Сколько тихой покорности в этих детских чертах.
– Спи спокойно, бедная малютка. Я буду отныне заботиться о тебе, – говорю я шепотом.
Кто-то иронически смеется в дверях. Оборачиваюсь – Варя.
– Трогательная нежность, – произносит она сквозь зубы. Потом добавляет со злобой: – Говорила – околдует и тебя. А что в ней хорошего? Тряпка, трусиха, дура!
– Золотое у нее сердце, так сказал Большой Джон, да и сама она тихая, безответная, милая, – протестую я.
– А в тихом омуте кто-то водится, знаешь? – шипит Варя.
– Полно, – смеюсь я. – Полно, ведь ты не злая, Варя. Зачем же показываешь себя хуже, чем ты есть?
– Ненавижу безответных, – шепчет она.
Эльза ворочается во сне – вот-вот проснется – и мы выходим из комнаты.
– Пойдем, Варя, я буду читать тебе стихи.
Она оживляется, в маленьких глазках загораются счастливые огоньки.
– И про бал расскажешь?
– Ну уж и бал! Уморушка!
И я в лицах представляю, как вертелись и английские «миссы» с палкообразными с «денди».
– Ха-ха-ха! А ты?
– А я вот как!
И я изображаю нашу бешеную пляску – и мою и Джона.
Варя давится от хохота, зарывшись в подушки.
Позднее, совсем уже ночью, я ей читаю стихи и сама упиваюсь каким-то странным чувством радости. И я не могу представить себе иного будущего, как служение искусству на его священном алтаре.
Я передаю Варе сегодняшний разговор с мамой-Нэлли.
– Тебя? Замуж? Ну, дудки! Или уж разве если явится какой-нибудь сказочный принц! – решает она авторитетным тоном. – Ты умница, ты талантливая, ты отмеченная судьбою!
Уходя перед рассветом, Варя напоминает:
– А помнишь про двадцать четвертое? Вот и узнаем твою судьбу, что тебя ожидает. Только, чур, Эльзы не брать.
– Но почему, Варя? Втроем же веселее, – протестую я.
– Она испугается, в обморок, пожалуй, упадет. – На минуту Варя смолкает и, лукаво прищурившись, глядит на меня. – А то возьмем, пожалуй. Пусть перетрусит до седьмого поту. Ей это полезно, Я согласна, возьмем и ее.
Лежа в постели, я вяло соображаю, что двадцать четвертое июня, – та ночь, в которую мы решили с Варей попытать наше будущее, великая Иванова ночь, – еще не скоро и что Варя успеет сто раз переменить свое решение идти в полночь на лесное кладбище собирать травы, по которым мы должны гадать, положив их под подушку на сон грядущий.[2]
Об этой ночной прогулке не знает никто.
* * *
– Тише же! Тише!
– Как скрипят половицы!
– Эльза, где вы? Я не вижу вас.
– Я здесь, m-lle Лидия.
– Варя, а Варя! Куда ты бежишь так скоро!
– Ах, Боже мой! Кажется, сторож Федор не спит.
Я, Варя и Эльза чуть слышно спускаемся по лестнице.
На нас темные платья, темные же шарфы на головах. Лица возбуждены, настроение приподнятое.
Сегодня Иванова ночь. В эту ночь люди гадают на двенадцати травах, собранных в полночь в лесу, положив на ночь под подушку эти заповедные травинки. Иные ищут клады.
Пригородный лес, по ту сторону, кишит нынче такими гадальщиками. Девушки и рабочие с фабрики, интеллигенты города, прислуга – все устремляется туда, по заведенному исстари обычаю. Жгут костры, собирают травы, плетут венки и пускают их в воду.
Но мы трое не хотим идти туда, где все. Какое же может быть гаданье в подобной сутолоке? А по инициативе Вари гадать мы должны непременно. Она хочет узнать, какая великая будущность ожидает меня, ее подругу. Что будет великая будущность – Варя не сомневается ни на мгновенье. Меня это смешит.
Для нашего ночного «сбора двенадцати травинок» мы выбираем кладбище. Здесь в эту ночь не будет ни души. Все нынче в городском лесу. Кладбищенская же лесная гора, с ее песчаным грунтом, густо усыпанным сосновой хвоей, пуста и молчалива, как склеп.
Половина двенадцатого.
В доме все тихо. Дашу положили в детской на время отсутствия Вари, которая спит с детьми.
Бесшумно достигаем мы нижней площадки. Вдруг Варя вскрикивает чуть не во весь голос:
– Ах, чтоб вас!
И изо всех сил отталкивает Эльзу, которая впотьмах наступила ей на ногу.
– О, pardon! Mille pardon, m-lle Варя.
– Ты с ума сошла! Разве можно так кричать, Варя?! – возмущаюсь я.
– Сойдешь тут с ума, когда прямо на нос лезет эта швейцарская мумия!
– Мумии бывают только египетские, – поправляю я Варю.
– Хоть голландские! Но зачем было брать эту тряпку с собой, – негодует Варя.
А Эльза, ничего не понимая, шепчет на своем родном языке:
– О, какая ночь, m-lle Лидия. Грешно спать в такую ночь. У нас теперь козы до утра пасутся по горному склону. И брат, фермер Пьер, пасет их до утра. Им душно в яслях. Целую ночь звенят колокольчики, привязанные к ошейникам, и одуряюще пахнут в горах ночные цветы.
– Что она там лопочет? – осведомляется Варя. – Ничего не пойму: же ву при, нос утри, же ву дон де кисель-ерундель, стрикозель… Тьфу! Язык сломаешь. Удивительно остроумно и красиво, – поджимает она губы.
– Очень красиво, Варя, если понимать, – заступаюсь я.
– Воображаю, – корчит она гримасу, выходя на крыльцо.
Мы за нею. Ночь действительно чудесная, ароматная, почти душная. Белой змеей извивается и бежит вдаль дорога. Темно по обе ее стороны в молодой роще и в лесу.
До кладбища ходьбы минут десять.
Мы осторожно вынимаем ключ из двери и запираем ее снаружи.
– Федор уснул. Только бы прошмыгнуть через калитку, – шепчет Варя.
Мы отлично знаем, что эта ночная экскурсия не может понравиться моим родителям; поэтому, во избежание запрета, решаем открыть нашу тайну только через несколько дней, после того как она станет фактом. Так решено по совету Вари.
Ночь, тишина. Невдалеке высится огромным курганом мохнатая от столетних сосен кладбищенская гора.
Что-то влечет нестерпимо к этому кладбищу, к этой горе.
Я оглядываюсь на Эльзу, которая плетется сзади нас. Лицо ее резко белеет в полумраке. Беру ее за руку: рука как лед.
– Вы, кажется, боитесь? – спрашиваю я ее по-французски.
– О, m-lle Лидия! Это кладбище, город мертвых. Так жутко!
Я объясняю Варе, что она сказала.
– Сидели бы дома, – огрызается Варя. – А знаешь, – обращается она ко мне, – нам ведь придется пройти мимо Гаврюшинского склепа. Кладбищенский лесок, где растут травы, как раз за ним.
– Вот отлично. По крайней мере, посмотрим, что это за страшилище, – храбро восклицаю я.
Гаврюшинский склеп – это целая легенда. Богач купец Гаврюшин покончил самоубийством, когда внезапно узнал о своем разорении. И хотя самоубийц хоронить на кладбище по церковным законам не полагается, родственники Гаврюшиша, после долгих и усиленных просьб, получили разрешение и воздвигли склеп-часовенку, под полом которой в подземелье и поставили гроб отца. Ходили слух, что еженощно Гаврюшин поднимается из гроба и бродит по своему обширному склепу, к великому ужасу трусливых и суеверных людей.
Я перевожу шепотом эту легенду Эльзе на ее родной язык.
– О, m-lle Лидия! – шепчет она. – Так неужели мы пойдем туда сейчас, ночью?
– Не туда, а мимо склепа пройти придется, – успокаиваю я нашу спутницу.
Но она, по-видимому, находит мало утешительного в этих словах.
* * *
Вот и кладбище. Здесь совсем темно. Кое-где сверкает река сквозь чащу деревьев. В темноте светлые кресты кажутся привидениями, а высокие темные памятники – притаившимися в молчании, таинственными фигурами.
Эльза идет, тесно прижавшись ко мне, дрожащая, немая. Варя храбро шагает впереди.
– Ни чуточки не страшно, – роняет она, бойко поглядывая влево и вправо. – Покойников бояться глупо и смешно. Вот ссыльных-то, которых у нас здесь много, признаться, я немножко недолюбливаю. Говорят, новую нынче партию пригнали, буяны такие, что и не приведи Бог, даже Наумский не справится с ними. Да и Левка этот, говорят, где-то с ножищем бродит, прячется от людей, того и гляди прихлопнет. Ведь он кто? Мазурик, бродяга без совести и стыда.
– Ах, Варя, что ты. Ведь Левка еще маленький ребенок.
– Хорош ребенок – в пятнадцать лет.
– Большой Джон говорит, что из него можно было бы воспитать порядочного человека.
– То-то он и убежал от него, порядочный человек-то, – возражает Варя.
– Тссс! Silence! – слышу я шепот Эльзы, и она останавливается с вытянутой вперед рукой.
Останавливаемся и мы с Варей.
– Что с вами, Эльза? – осведомляюсь я.
– Что еще? – бурчит Варя.
– Ви видите? Ах, Боже мой! Ви видиль огонь? – она указывает вперед.
– Ну и огонь. Очень просто: лампада на чьей-нибудь могиле. Объясни ты ей, ради Бога, этой дурищ… душечке, – бросает Варя.
Но она неожиданно смолкает.
Мы замираем в молчании и смотрим, не мигая, вперед.
Вокруг нас полутьма. Сосны с черными мохнатыми вершинами жалобно скрипят над нашими головами. Смутные, движущиеся тени их стелются по земле. А там, подальше, где просторной, довольно вместительной часовней высится склеп Гаврюшина, там, наравне с землею, за решеткой самого подполья, где находится гробница, движется, перебегая с места на место, какой-то беспокойный огонек, будто кто-то бродит с зажженной свечою внизу в подполье.
Мы долго смотрим на этот огонек. Я чувствую, как шевелятся волосы на голове.
– Гаврюшинская тень не находит себе покоя, – говорю я.
– Душа самоубийцы, лишенная обрядных похорон и отпеваний, – вторит Варя. – Ведь запрятали его сюда без заупокойных обеден и панихид.
– Никакого тут призрака нет. Все это глупости, – говорю я громко и смеюсь не совсем, впрочем, естественным смехом.
– А вот посмотрим, – срывается у Вари.
– Что ты хочешь делать?
– Пойти и узнать, в чем дело.
– В таком случае идем вместе, – храбро предлагаю я.
Мы беремся за руки и делаем шаг вперед, туда, по направлению таинственного огонька в подполье склепа.
– Ах, ви меня позабиль. Я умираль от страха, – рыдает нам вслед Эльза.
– Тогда идем все трое! – предлагаю я и хватаю ее за руку.
Она поневоле должна согласиться.
Теперь идем мы все трое в ряд, с каждым мгновением приближаясь к страшной часовне.
Между тем огонек перестал двигаться и теперь светится уже на одном месте.
– Надо приблизиться к часовне, лечь на землю и заглянуть внутрь подполья, – бросает Варя на ходу.
Вокруг нас бесчисленные могилы и тишина.
Вот уже склеп Гаврюшина в трех-четырех саженях, вот еще ближе, сейчас…
Огонек горит ярко прямо перед нашими глазами. Еще шаг, другой, и мы у цели.
– Ой! Нет! Я не пошель дальше, – срывается с уст Эльзы.
– Тогда оставайтесь здесь и не мешайте нам! – кричит, забывшись, Варя.
И о чудо! Тотчас же за ее криком гаснет в склепе таинственный огонек.
– Мы спугнули призрак, – лепечет, щелкая зубами от страха, Эльза.
– Что бы ни было, я проникну туда! – вырывается у Вари.
– И я! – решаю я громко.
Эльза приткнулась к стволу ветхой сосны и тихо плачет.
Но нам не до нее в эту минуту. Жгучее любопытство побеждает страх. Мы бросаемся к часовне. Дверь не заперта. На каменном полу, перед большим образом Спаса, разостлан коврик, а там, в углу, чернеет узенькая лесенка, ведущая в склеп. Темная ночь смотрит в окна часовни. Мохнатые сосны качают головами и бьются в окошке склепа. Чуть доносится до нас тихое всхлипывание Эльзы.
Вдруг шорох внизу достигает нашего слуха. Точно кто-то ворочается в подполье, еще минута-другая, и лестница скрипит под чьими-то осторожными шагами.
– Призрак! – роняет Варя, и мы застываем на месте, схватившись за руки.
Громче, яснее скрип ветхих ступенек, слышнее, ярче по звуку. Живые так не ходят.
Белая фигура вырастает перед нами.
Холодный пот проступает у меня на лбу, и ужас ожидания слегка поднимает волосы. Рука Вари, сжавшая мои пальцы, становится ледяной. А глаза наши, не отрываясь, глядят в черный провал, откуда выбегает лесенка.
Еще минута.
Легкий стон или кашель, и белая фигура вырастает перед нами, заслоняя собою черный провал.
* * *
Что было потом, я сознаю плохо. Какой-то сумбур.
Я не успела крикнуть, как белый призрак метнулся на Варю и в тот же миг отлетел от нее, отброшенный сильной рукой.
Заскрипела лестница под тяжелым телом, скатившимся по ее утлым ступеням, и что-то тяжело ударилось там внизу о каменный пол склепа.
В ту же минуту громкий стон оглашает часовню. Это стонет уже не призрак: это настоящий человеческий стон.
Варя метнулась ко мне, схватила меня за руки и, приблизив ко мне побелевшее лицо, зашептала:







