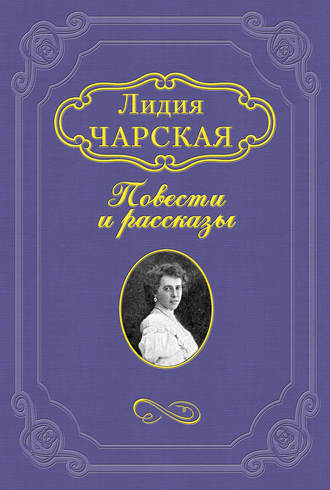
Лидия Чарская
На всю жизнь
– Прекрасно играла, моя девочка. Откуда такой навык и уменье?
– Не знаю, – говорю я простосердечно и целую ее розовую щеку.
За тяжелым занавесом в это время уже убирают и приготовляют для танцев зрительный зал.
* * *
Два месяца проходят незаметно. Белая пелена снега кроет и землю, и деревья. На большом озере, по примеру прошлого года, устраивается каток. Каток и ледяные горы. Но и то другое не для меня.
Рыцарь Трумвиль однажды сказал Брандегильде:
– Мне кажется, что скоро наш замок огласится звонким детским голоском, и судьба пошлет нам чудесную маленькую принцессу Трумвиль. Надо приготовиться достойно ее встретить.
Радость охватила меня.
Наконец-то!
Мне захотелось визжать на весь «замок», закружиться и завертеться.
Маленькая синеокая (непременно синеокая!) принцесса с черными локонами! Моя воплощенная мечта!
Да, теперь уже не до катка, не до лыж и не до верховой езды. Эта зима принесет мне иные радости.
В нашем «замке» появилась новая личность, бледная, худая, маленькая портниха Мариша. Из-под ее рук выходят такие чудесные вещи: кукольные чепчики, кукольные рубашечки, свивальники, кружевные одеяльца, достойные принцессы.
Я, разумеется, не могу, не умею шить, но я, пока она шьет, гляжу на нее и мечтаю. Мечтаю о маленькой синеглазой принцессе с черными локонами, о маленькой эльфочке, что таинственно спустится к нашему «замку» вся радостная, светлая, несущая счастье роду Трумвиль.
Непременно принцесса. О принце я как-то и не думаю даже. Ее портрет перед моими глазами. Собственно говоря, это не портрет, а красивая гравюра с изображением очаровательной девочки, похожей на фею, розовенькую, синеглазую и чернокудрую фею.
– Мариша, – говорю я, приближаясь к портнихе, – скажите: это огромное-огромное счастье, не правда ли, иметь собственное дитя?
– О да, счастье, но только не для тех, у кого есть нечего! Вон у меня их семеро. С ума сведут.
– О, какое варварство!
Я замираю, собираюсь в комочек, ухожу себя, вся моя радость исчезает мгновенно. Глаза испуганно поднимаются на мою собеседницу.
– Дети – радость жизни, – говорю убежденно и ухожу к себе в спальню.
Потом долго копошусь, выдвигая ящики комодов и шкафов, собираю старое платье, ненужные вещи и с целым ворохом возвращаюсь к Марише.
– Вот, возьмите это себе, перешейте для детей ваших. А вот и денег немного. Все это вам присылает будущая маленькая принцесса замка Трумвиль.
Она широко раскрывает глаза, ничего не понимая.
– Какая принцесса? Какой замок? – И вдруг вспыхивает до ушей. – Благодарю вас. Благодарю. Вы так добры.
– Совсем не добра. Нисколько. Я только хочу, чтобы маленькая фея-принцесса прилетела на землю, вся обласканная лучами всеобщей любви.
Слетай же скорее ко мне с далеких небес, моя голубая мечта, моя маленькая фея!
* * *
Ненастный зимний полдень. Туман повис над городом. Серые сумерки царят с самого утра. Рыцарь Трумвиль на службе. Мариша шьет, чуть слышно мурлыча под нос. Стучит ножная швейная машина в столовой. В гостиной, по обыкновению, топится камин. Перед камином разостлана мягкая козья шкура. На ней я и Мишка.
Мишка прикорнул поближе к огню. Я полулежу на белом меху, сияющая и притихшая, как это всегда бывает со мною при мыслях о принцессе. Но Мишка сегодня что-то беспокоен. Не урчит, а как-то ропщет, словно жалуясь; поглядывая на меня бегающими из стороны в сторону маленькими глазками. В них какой-то странный, беспокойный блеск. Недавно он поцарапал руку Корнелию, кучеру-солдату, и страшно ревел накануне над чашкой варева из овсянки.
Уходя сегодня на службу, рыцарь Трумвиль сказал, целуя мне руку:
– Не пускай в комнату Мишку, он что-то не нравится мне нынче, детка.
Но разве можно не пустить эту славную, переваливающуюся с ноги на ногу тушу в теплой шубе к огню, около которого он так любит понежиться. И потом, он так умеет слушать мои пылкие, восторженные рассказы о принцессе.
– Она будет синеглазая, светлоокая, – говорю я ему, – и локоны у нее будут как тучки на небе. А губки… Ах, Мишка, Мишка, ты не можешь себе представить, какие у нее будут губки, – шепчу я, не сводя глаз с пламени, в котором, кажется мне, вот сейчас увижу мою очаровательную, маленькую девочку. Мишка, вся она будет как маленькое солнце. Вся подобная солнцу. Слышишь? И ты будешь играть с нею и возить ее на своей огромной спине.
Я перебираю теплую шкуру Мишки, а сама, не сводя глаз с пламени, начинаю шепотом импровизировать стихи, посвященные принцессе. С уст моих срываются рифмованные строфы, в то время как глаза прикованы к огню, а руки застыли на морде Мишки, который с тихим урчаньем, ласково, как собачка, лижет розовую ладонь своим шершавым горячим языком.
У тебя бархатистые кудри,
Ниспадают на плечи волной,
И сияет лазурным сияньем
Твой, как небо, глазок голубой.
Твои губки, как вишенки, рдеют,
И как жемчуг, зубенки горят…
Мое сердце дрожит и робеет,
Я уж вижу твой радостный взгляд…
Да, я его вижу, вижу! В ярком пламени камина синие глаза и румяные уста великолепной маленькой принцессы Трумвиль.
Я снимаю руку с Мишкиной морды, не обращая внимания на его недовольный ропот, не замечая его пристально направленный на мою теперь алую, как кровь, от пламени камина ладонь взгляд, и опять отдаюсь охватившей меня волне вдохновения. И я импровизирую снова уже другое посвящение маленькой эльфочке, моей мечте.
Ты – мой ландыш белый, ландыш серебристый,
Майский, юный ландыш, свежий и душистый.
Ты – мой тополь гибкий, радостный и стройный,
От движений ветра тополь беспокойный.
Ты – мой светлый месяц, бледный и прекрасный,
Ты – мой луч востока, золотой и ясный,
Ты – моя улыбка, ты – мое дыханье,
Ты – моя надежда, счастье, упованье.
Ты…
Смолкаю внезапно, ошеломленная. Страшный могучий рев заставляет меня содрогнуться. Передо мною на задних лапах стоит Мишка, с широко раскрытой пастью, с налитыми кровью глазами, с горячим дыханием, клубом вырывающимся изо рта.
Стоит, испуская дикий рев и потрясая обеими лапами. Жутко поблескивают его налившиеся кровью глаза.
Я испуганно вскакиваю с ковра и отступаю от обезумевшего медведя. Смутно проносится в голове отчаянная мысль: «Борис на службе. Галки нет дома. Что можем сделать мы, две женщины, с рассвирепевшим зверем?»
Я мгновенно, к ужасу моему, догадываюсь об истине. Мишка ласкал мою руку, не отнятую мною по забывчивости, и, почуяв мясо и кровь под тонким покровом кожи, одичал, озверел, взбесился. Об этом не раз предупреждал меня муж, но я не хотела этому верить, смеялась, не придавая значения его словам. И вот теперь… Неужели расплата?!
Я пячусь к двери. Хватаю стул и ставлю его перед собою. Но что значит такая маленькая преграда для пробудившегося инстинкта хищника!
Медведь бросается ко мне, как щепку, отбрасывает стул и обхватывает меня своими огромными лапами.
Теперь я чувствую его горячее дыхание на своем лице, его запах, особенный специфический запах хищного зверя, и с последним отчаянием бросаю остановившемуся, захолодевшему сердцу:
– Великолепная маленькая принцесса, прощай! Мне не увидеть тебя никогда в жизни!
* * *
Страшные лапы сжимают мои плечи. Налившиеся кровью глаза беспокойно мечутся под моим взором. Как будто смутно борются последние сознательные инстинкты в душе зверя. Быть может, страшно восстать против человека. Но инстинкт побеждает. Медвежья лапа угрожающе заносится над моей головой.
И в тот же момент я, как в тумане, вижу вбежавшего Бориса, его бледное, перекошенное ужасом лицо и какую-то блестящую вещицу в его вытянутой руке.
Рука с блестящей вещицей быстро приближается к уху медведя. Гулко раскатывается выстрел по всему «замку», и в тот же миг темные, остро пахнущие, смертельные объятия одичавшего зверя оставляют меня.
Сраженный пулей, медведь с легким шумом валится на пол посреди гостиной.
* * *
– Котик милый! Детка! Дорогая детка! Ты смертельно испугалась, да?
Я вижу перед собой ласковые черные глаза Бориса, его встревоженное лицо, побелевшие от волнения губы. Ах, значит, я спасена, я увижу мою маленькую принцессу! Увижу! Какое счастье!
Но вдруг взгляд мой падает на неподвижно лежащее посреди гостиной тело Мишки. Четко представляется вытянутая рука с блестящим револьвером и выстрел, ужасный выстрел! И внезапная жалость, смешанная с ужасом, заливает все мое существо.
– Зачем, зачем ты убил его! Я его так любила!
И, вскочив с дивана, я бросаюсь к моему поверженному врагу, обнимаю руками его мохнатую шею и, вся дрожащая и взволнованная, отрывисто лепечу:
– Зачем ты убил его, Борис? Это жестоко! Бесчеловечно! Зачем ты его убил?
Несколько мгновений он смотрит на меня расширенными от изумления глазами. Затем пожимает плечами, и глубокая морщина прорезает его лоб.
– Что же, ты предпочла бы, чтобы он задушил тебя насмерть, этот взбесившийся зверь?
Я молчу мгновение, сраженная, уничтоженная его здравой логикой. Но в глубине моего сердца – протест. Разве нельзя было поступить иначе? Оттолкнуть, оглушить ударом зверя, что ли? Ведь Борис такой сильный. Но не убивать, только не убивать! И срывающимся от волнения голосом я высказываю это мужу.
И вот я вижу его темнеющее лицо, гневные искорки, зарождающиеся в глазах, угрюмый взгляд, каким он никогда еще не смотрел на меня прежде.
– Борис, что с тобою?
– Ты рассуждаешь, как безрассудное дитя, как самая маленькая девочка, – отвечает он мне недовольным голосом. – Надо было выбирать одно: или видеть тебя растерзанной, или убить взбесившегося Мишку. А впрочем, не пришлось бы прибегать к этому, если бы ты была благоразумнее и не пустила его в комнаты, как я и просил.
Это звучит уже упреком. И недовольством, гневом и холодностью веет от него. Это уже слишком. Брандегильда – продукт сказки и рождена для того, чтобы видеть одну радость – сказку от того, кого сделала избранником своей души. И его строгий тон коробит ее.
Я замыкаюсь. Молчу, опустив глаза, и, немая, далекая, ухожу в свою комнату, предоставляя рыцарю Трумвилю и его оруженосцу заняться убитым зверем. А в сердце нарастает какая-то холодная тоска…
* * *
Бегут дни, однообразные и скучные. Борис служит, занимается со своими солдатами, по вечерам приходит усталый, посидеть на белой тибетской шкуре перед пылающим камином, и ждет. Ждет, чтобы я опять ласково и по-доброму, как раньше, заговорила с ним, поведала ему свои мечты о маленькой принцессе, которую мы ждем скоро, очень скоро, через какой-нибудь месяц. Но сам не заговаривает первый.
И я молчу. Я не могу быть радостной, когда у меня такая тяжесть на душе. Мне жаль, бесконечно жаль убитого Мишку. Я все думаю о том, неужели же нельзя было поступить иначе? Неужели это справедливо – погубить одним выстрелом беззащитного зверя? О том, что беззащитный зверь был во всеоружии своей силы, я как-то не думаю. Мне мучительно жаль забавного, милого, славного Мишука, и только.
Теперь все мои стихи посвящаются «убитому другу». Я варьирую эту тему на несколько ладов. Потом пишу легенду о доверчивом лесном звере, погибшем от руки человека. Я стараюсь как можно тщательнее отделать ее и просиживаю над нею целыми днями.
С Борисом говорим только о пустяках, о делах, хозяйстве, о преданности и глупости Галки, о том, как трудно объездить верховых лошадей, Красавчика и Бегуна, под упряжку. Но о «замке Трумвиль», о сладких мечтах про принцессу или об убитом Мишке – ни слова.
Прощай, моя пестрая сказка о Трумвиле!
* * *
У меня появилась тайна, в которую посвящены лишь двое: Галка и я.
Пока Борис на службе, я исписала несколько листов своим крупным мальчишеским почерком, вложила их в огромный конверт, надписала на нем адрес и большущими буквами поставила «заказное». Это письмо – мой смелый и дерзкий замысел. Я думаю о нем все время, пока Галка шагает по снежной дороге в городской почтамт.
В большом конверте запечатана моя легенда о медведе. Я отправляю ее в редакцию одного из петербургских журналов, за полной моей подписью, не скрывая даже адреса, написанного мною неверной рукой внизу легенды. Будь что будет: или пан, или пропал. Если легенда будет принята, то, значит, у меня есть крохотная искорка таланта, и тоненькая Брандегильда из замка Трумвиль быть может сделается писательницей. Но если поражение – какой ужас! Маленькая принцесса Трумвиль, моя еще не воплотившаяся мечта, твоя мать окажется тогда самою обыкновенною из смертных! Это ужасно для тщеславной души бывшей Лиды Воронской.
В письме, которое я прилагаю к легенде, я прошу редактора журнала непременно ответить мне письменно, каков бы ни был результат, и притом как можно скорее, причем прилагаю марку на ответ.
Сердце мое то бьется усиленно, то сжимается, как в тисках. Сегодня я не нахожу себе места. Даже мечты о маленькой принцессе не развлекают меня.
Шаги Бориса выводят меня из задумчивости. Ему я не скажу ни слова, ни единого слова о моей тайне, пока не выяснится так или иначе результат отосланного письма. Да и к тому же он как-то странно и хмуро поглядывает на меня после злополучного дня гибели Мишки. И сейчас лицо его сумрачно, когда он входит в комнату.
Но что с ним? Какой он бледный, смертельно бледный! Что случилось?
Трепет охватывает меня. Предчувствие беды проскальзывает к самому сердцу.
– Говори скорее, что случилось?! – кричу я.
– Только не здесь. Не здесь – пойдем к «нам». У «нас» всякое горе переживается как-то легче.
Значит, что-то случилось, если надо идти «туда, к нам». Во все необычайные минуты жизни мы «туда» уходим. Там наше царство. Это самый отдаленный, никем почти не посещаемый уголок парка, который Борис приказал своим солдатам расчистить. Там шумят вязы и стоит скамейка, чудесно спрятанная между заиндевевшими в зимнее время деревьями. Там прыгают желтые белки и гудит ветер, совсем как в настоящем лесу. Это наше «царство». Сюда мы приходим, когда случается что-нибудь из ряда вон выходящее.
И сейчас я натягиваю теплые ботики, надеваю шубку и спешу туда с молчаливым Борисом.
Вот они, старые вязы, покрытые теперь густым белым слоем снежной пудры. Вот скромно приютившаяся под ними скамейка.
– Сюда, Борис! Скорее сюда!
Я чувствую, что сейчас должно произойти что-то непоправимое, большое и грустное. И, тяжело дыша, гляжу в лицо моего спутника.
И вот оно, это страшное, разразилось над моей головой. Мне кажется, что это сон.
Борису предстоит отъезд по службе в северную, глухую часть Сибири, в самые отдаленные места, где нет не только железных дорог, почты, телеграфа, но где вообще почти нет человеческого жилья – одна лишь непроходимая тайга. Там он останется на целых три года. Зачем? Почему? Я, несмотря на его объяснения, не могу понять. И мне никак нельзя сопровождать его, нельзя уже потому, что маленькая принцесса, появления которой мы ждем со дня на день, не сможет перенести всех ужасов северной зимы, не говоря уже о долгой дороге.
– Отказаться мне, конечно, нельзя, как бы ни хотелось именно теперь остаться здесь, чтобы дождаться появления нашей «принцессы», – говорит Борис, – но я вернусь через три года, детка, когда наша «принцесса» будет бегать и лепетать. А пока ты поселишься с нею в твоей девичьей комнате, под крылышком твоего «Солнышка», который, я уверен, сохранит вас обеих для меня.
Его голос звенит предательски, и я вижу блещущий слезами черный угрюмый взгляд. О, как я была несправедлива к нему, обвиняя его в жестокости.
– Боря! Это ужасно, Боря! Три года! Три долгие года мы будем одни! Бедные Брандегильды, большая и маленькая! Две бедные, в сущности обе маленькие Брандегильды! Опустеет сразу замок Трумвиль!
Я заговариваю об отмене, о просьбе послать вместо Бориса другого офицера на север.
Но он изумленными глазами смотрит на меня.
– Подумала ли ты, котик, что говоришь? Разве зря меня посылают? Это нужно, и долг службы требует беспрекословного исполнения данного мне поручения. Ты забываешь, что я офицер.
Да, он прав, безусловно прав. Он, Борис, суровый исполнитель своего долга, каким я его знаю, не может отказаться, просить об отмене данного ему поручения. Служба, долг Отечеству, присяга у него на первом плане.
– Детка, – говорит он, – было бы во сто крат ужаснее при другом несчастье, которое нельзя было бы предотвратить: могла бы быть война…
– Молчи! Молчи! – кричу я. – Когда ты вернешься, – говорю я, – у «нее» будут уже локончики до плеч, и «она» научится лепетать так мило…
И сердце мое дрожит.
– И «ее» будут звать Лидой, как и ее маленькую маму, – вторит он мне.
– Ах, нет, лучше Кирой, Ириной, Ниной или Ларисой.
– Лучше Лиды нет имени на земле! – слышу я безапелляционный ответ.
– Неправда. А впрочем, как хочешь. А только, Боря, неужели же три года? Целые три года?
Мы смолкаем и сидим притихшие, как мыши. Старые вязы скрипят. Ветер гулко гуляет по чаще. Солнца нет. Нет радостного солнца и в наших сердцах.
Потом я начинаю говорить о мой тайне. Мне хоть чем-нибудь хочется утешить его и себя. Я заявляю ему, что Брандегильда – писательница. Не правда ли, милый рыцарь Трумвиль, как это забавно?
Но он не находит это забавным, ничуть. Восторгом горят его глаза, с гордостью смотрит он на меня таким взглядом, точно я царица, и шепчет:
– О моя маленькая Брандегильда! Как мы все-таки счастливы с тобой!
* * *
Отъезд рыцаря Трумвиля назначен весной. И мы с будущей маленькой принцессой не сможем проводить его даже до места назначения. Длинная дорога не для такой малютки.
Ответ из редакции приходит раньше, нежели мы оба его ожидали. Объемистый конверт с адресом отправителя на лицевой стороне. Декабрьское солнце горит на его зеленоватых буквах. Сердце мое внезапно падает и замирает, когда взгляд мой примечает его на столе. Меня шатает от волнения, когда я подхожу к письменному столу, куда обыкновенно кладет корреспонденцию аккуратный Галка. Дрожащими руками раскрываю конверт и вынимаю оттуда розовый листок письма.
Сначала глаза мои ничего не видят. Я напрягаю зрение. За моим плечом Борис волнуется не меньше меня. И вдруг он вскрикивает громко:
– Ура! Детка, ура! Легенда принята и одобрена. Да здравствует маленькая Брандегильда! Да здравствует замок Трумвиль!
Все плывет передо мною в розовом тумане: и большая комната, залитая декабрьским солнцем, и счастливое письмо, и лицо Бориса. И я визжу на весь замок, как, бывало, визжала в детстве, забыв мои почтенные восемнадцать лет.
* * *
Борис помчался в Петербург в редакцию «Взора», чтобы повидать того доброго чародея, который прислал такое славное письмо. Надо же переговорить серьезно о размере «таланта» тоненькой Брандегильды, о том, где и как ей продолжать работать впредь. Ах, да мало ли о чем надо переговорить! Вернется он из города поздно вечером.
Я сижу и думаю: надо побывать у «Солнышка» и рассказать ему и маме-Нэлли о моей первой литературной удаче. Или не говорить? Не лучше ли просто послать им легенду в напечатанном виде, когда номер журнала появится в свет? То-то будет сюрприз и радость для «Солнышка»! Его дочь, его Лидюша – писательница! Поэтесса! Конечно, сюрпризом лучше. Только сумею ли я умолчать?
Ах, как все-таки долго тянется время! Чтобы развлечь себя, спускаюсь в кухню. Там Доротея мелет на машинке котлеты.
– Вы устали, Доротея, я вам помогу.
Чтобы убить время, принимаюсь делать котлеты. Насыпав добросовестно сахарного песку вместо соли в телячье мясо (ведь поэты забывчивы и рассеяны, как никто), не выдерживаю и говорю Доротее:
– А я ведь писательница, Доротея. Вы знаете?
Она улыбается:
– Вот как. И деньги за это получите? Деньги?
Какая проза. Фи! Но чтобы поддержать свое реноме, отвечаю:
– Понятно. Даром никто не пишет. И если буду много писать, то и денег получу много, очень много.
– Вот это хорошо, – соглашается она, осклабившись. – Пишите, милая барыня. У меня брат тоже писатель. В главном штабе служит писарем – это ведь все равно. И все он пишет, все пишет, да красиво так. Только мало за это получает что-то. Хотя генералы даже одобряют его очень. «Хороший почерк, Лупкин, у тебя», – говорят.
О варварство! Она смешивает писаря с писателем! И приготовление котлет перестает меня интересовать. Оскорбленная, подымаюсь по лестнице наверх, в «жилое помещение замка».
– Галка, – говорю я верному оруженосцу мужа, занятому сейчас чисткой замков у дверей, – ты скажешь в восемь часов Корнелию запрягать Бегуна. Я барина встречать поеду.
– Слушаю-с. А только, ваше высокородие, Корнелий не при своих чувствах.
– Болен?
– Так точно.
– Что у него?
– Не могу знать.
– Голова болит?
– Так точно.
– Может быть, зубы?
– Так точно.
– Или желудок?
– Так точно.
– Значит, все?
– Не могу знать.
– Фу, ты какой! – начинаю я раздражаться. – И всегда ты был таким, Галка?
– Не могу знать.
* * *
Наконец-то вечер. Бегун уже ржет у крыльца и нетерпеливо взрывает снег копытом. Борису стоило много труда выездить под упряжь эту горячую лошадку. На козлах вместо Корнелия – Галка. Корнелий болен, и я его отпустила с миром.
– Ну, Галка, с Богом! – говорю я, садясь в сани. – Поскорее только вези, голубчик.
– Так точно! – И он трогает вожжами.
Бегун берет с места, мы несемся.
* * *
В то время как сани скользят по дороге, я уже создала в моей голове целое будущее, такое волшебное и прекрасное. Рыцарь Трумвиль в отсутствии. Его Брандегильда работает, пишет, шаг за шагом пробивает себе путь к известности, к славе. А крошечная Брандегильда растет, поднимается среди всеобщего обожания. Когда возвращается рыцарь Трумвиль, Брандегильда встречает его в лучах славы. Она заставила трепетать людские сердца. И гордый ее величием, рыцарь Трумвиль преклоняет перед ней колени.
– Что с тобой, Галка? Что ты мечешься то вправо, то влево? Бери правее, правее бери!
Сани бросаются из стороны в сторону. Бегун испускает пронзительное ржанье.
Я быстро приподнимаюсь с сиденья и холодею. Прямо на нас несется огромная черная лошадь, запряженная в сани.
– Правее! Держи правее, Галка! – едва успеваю я крикнуть.
И в тот же миг толчок. Оглобли наших саней раскалываются надвое, и черная голова лошади появляется как раз передо мною. Последнее, что я вижу, – это жуткие огненные глаза и клубы пара, выходящие из красных ноздрей. Слышу громкие крики Галки и еще кого-то. Затем падаю без чувств.
* * *
Чужая взбесившаяся лошадь врезалась в наши сани, сокрушила их, выбросив меня на землю. И это послужило началом тому страшному обмороку, который длился три долгих дня и три ночи подряд.
Приходя в себя, я видела склоненные надо мною встревоженные, бледные лица Бориса, мамы-Нэлли, «Солнышка» и еще какую-то белую фигуру с грустным усталым незнакомым лицом. И потом снова наступал ужас: черная лошадь с огнедышащими ноздрями…
* * *
На четвертые сутки я открыла глаза. И первое, что я заметила, – это незнакомую, всю в белом женщину с усталым грустным лицом.
Она протягивает мне что-то маленькое, хрупкое, завернутое в одеяло, крошечный сверток, похожий на завернутую куклу.
– Вот вам ваш маленький мальчик. Поздравляю вас, юная мать; ребенок здоровенький и славненький на диво.
– Что?! Какой ребенок? Какая мать?
Я ровно ничего не понимаю, хотя сердце мое бьет тревогу и дух захватывает в груди от блаженного предчувствия. И вдруг я догадываюсь и вся содрогаюсь от острого прилива счастья.
– Маленькая принцесса! Она здесь! Она явилась ко мне, наконец-то, моя олицетворенная, светлая мечта!
– Не принцесса, а принц, – поправляет меня с милой улыбкой та же белая женщина.
– Принц? О принце я не думала как-то. Я ждала принцессу, но… Дайте мне его! Дайте моего маленького принца!
И я принимаю в объятия мое новорожденное дитя. На моих руках живой, трепещущий комочек во фланели, батисте и шелку. Красное, потешное сморщенное личико и крошечные светлые глазенки. А на полуголой крошечной голове мягкие, как лен, белокурые кудрявые волосики. Совсем не то, чего я ждала, что создавала в своем воображении, но вдвое дороже и милее того, что дарила мне моя яркая мечта. Принц или принцесса, мальчик или девочка – не все ли равно! Я одинаково безумно люблю как того, так и другого, люблю тебя, мое дорогое дитя.
Здравствуй же, новый маленький хозяин нашего «замка», мой прелестный маленький принц, здравствуй!
И, осыпав поцелуями сморщенное личико, я передаю мое сокровище подоспевшему Борису и опускаюсь головой на подушки, отягощенная сладким бременем счастья, того счастья, о существовании которого я и не подозревала до сих пор. Его принес мне с собою этот крошечный ребенок с льняными кудрями и потешным сморщенным личиком. Его принесло мне мое обожаемое дитя.
* * *
Весна. Сирень в цвету. Я провожу эту весну одна, и уже не в «замке», а в квартире моего отца. Рыцарь Трумвиль далеко. Но маленький принц со мною. Мы устроились в моей старой девичьей комнатке, я и «он» – моя прелесть, мое сокровище, мое дорогое дитя. Кормилица Саша, румяная, здоровая толстушка, спит в маленькой горнице рядом. Живем все трое у «Солнышка»: я, маленький принц и она.
А из далекой Сибири от Бориса приходят письма, длинные, подробные, наподобие дневников. Из них я узнаю, как он живет, как проводит время. И я читаю их маленькому принцу, хотя он не понимает ничего.
Какой он прелестный и забавный, мой маленький принц! Весь дом занимается им. Даже его маленькая тетка, которой только минул год, и та проводит целые часы в его обществе, забывая о своих игрушках. Но ласкать его могу только я одна. И мыть, и купать, и пеленать тоже. Я ревную его ко всем, кто прикасается к нему. Я делаюсь несносной, когда Саша слишком долго и много целует его. Ведь он мой, только мой, этот маленький принц, и мне принадлежит он, такой славненький, нежный и кудрявый.
* * *
Незаметно подкрадывается лето. В парке я провожу все свое время с маленьким принцем и с Сашей. Теперь я уже не пишу стихов, не до стихов мне. Материнские заботы точно лишили меня вдохновения, и я как будто не чувствую более потребности изливать мои мысли и чувства в стихах. А заставлять себя писать, то есть писать без вдохновения, быть просто ремесленницею пера, строчить только для того, чтобы получать от редакции вознаграждение за написанное, – я не могу, не умею и не хочу. К тому же стихи приносят так мало, одни гроши. Этих грошей недостаточно для того, чтобы существовать, чтобы поставить на ноги моего малютку. А мне так хочется окружить полным довольством его колыбель, не только довольством, но и роскошью. Чем же достигнуть этого и как?
Скудного офицерского жалованья Бориса не хватает. К тому же ему там, в Сибири, самому нужно много. Необходимо подумать, как бы самой заработать, не нуждаться в средствах мужа.
Но это очень нелегко.
В учительницы я не гожусь; к медицине – не чувствую призвания; поступить куда-нибудь на службу и отсиживать определенное число часов за работой – тоже не в моем характере, на это я, при моей живой, нервной натуре, не способна совсем.
Я перебираю все доступные женщинам профессии и не могу остановиться ни на одной.
Долгими часами я ломаю голову над тем, как устроить мое будущее, и беседую на ту же тему с Варей, которая теперь уже самым серьезным образом собирается уйти в монастырь.
И вот наконец новая мысль пришла мне в голову, когда я меньше всего ожидала того, что решило мою судьбу.
На берегу синего озера царскосельского парка, где плавали белые лебеди, гордо выгибая царственную шею, мы были все трое: я, мое сокровище в своей маленькой коляске и Саша.
Я опустила только что прочитанный том Некрасова на колени и тихо, с глубоким чувством продекламировала мои любимые некрасовские стихи, его незабвенную поэму о русских женщинах, княгинях Трубецкой и Волконской, – поэму, которую знаю наизусть с дней института. Я живо представила себя на месте одной из несчастных героинь поэмы. И словно крылья гигантской птицы подхватили меня и как тогда, в вечер спектакля, понесли куда-то далеко, далеко. И в душе моей загорелась смутная мечта сделать мою жизнь прекрасной, полной смысла и красоты, во имя маленького принца и ради его благополучия и счастья. Я давно чувствовала какое-то, для меня самой странное, мне самой непонятное, влечение к сцене, к театру.
У меня сложилось убеждение, что нет светлее и благороднее дела артиста, который воплощает и изображает людское горе, людские радости, людские слабости и порывы, который наглядно рисует нам жизнь, объясняет ее и открывает ее самые сокровенные уголки, заставляя зрителей то волноваться, то печалиться, то радоваться, соответственно изображаемым явлениям жизни на сцене театра.
Какое искусство, думала я, может сравниться с театром и сценой!
Я вспоминала, как восторженно приводил нам Чудицкий в институте, на уроках словесности, слова великого Белинского о театре и его значении, вспоминала, что уже тогда у меня смутно являлось какое-то странное влечение этому роду искусства.
Но только теперь, впервые, сознательно, под влиянием дивных некрасовских стихов, под навеянным ими порывом, созрело решение посвятить себя театру, сцене.
– Поступлю в театральную школу, на драматические курсы, постараюсь всеми силами как можно лучше изучить искусство, подготовлюсь, чтобы стать достойной звания артистки – актрисы! А затем буду служить. Служить на сцене в какой-либо драматической труппе, буду сама зарабатывать, буду сама добывать средства к жизни моей игрой…
И эту, внезапно родившуюся, мечту я решила осуществить во что бы то ни стало. А решив, немедленно же приступила к ее осуществлению.
Я съездила в Петербург, узнала подробно, могу ли я быть принята на драматические курсы, дает ли мой институтский аттестат право на поступление туда, требуется ли экзамен, а главное, сколько лет придется учиться и могу ли я впоследствии рассчитывать на более или менее прочный заработок. И, еще раз тщательно обдумав все, сообщила о своем намерении своим. Как я и предвидела, мое решение буквально ошеломило всех. Мне сначала не поверили, думали, что я шучу.
– Неужели ты оставишь твоего ребенка, чтобы стать актрисою! – воскликнула мама-Нэлли.
– О нет! Нет! – протестовала я, – его я не оставлю никогда. Ради него-то я и хочу служить, работать, добывать себе положение. С ним я поеду учиться. С ним и для него – везде и всюду, не разлучаясь с моим крошкой ни на один день![3]
* * *
– Итак, моя Лида, ты это решила бесповоротно?
– Да, «Солнышко», да. И не сгоряча решила, а долго-долго и серьезно обдумывала мой шаг. Я должна это сделать, ради себя и ради моего ребенка.
– Подумай, дитя, что ждет тебя впереди! Сколько волнений и бурь!
– Тем достойнее будет победа, мой дорогой папа, если только мне удастся достигнуть чего-нибудь.
– Но та жизнь, которую ты выбираешь и на которую идешь, дитя, она трудна и непосильна такому юному существу, как ты.
– О, этого я не боюсь, «Солнышко»! Я хочу, я желаю работать – и трудности меня не пугают. Удастся ли мне выдвинуться в первые ряды, я не знаю. Но если даже я останусь только скромной, незаметной труженицей на избранном мною поприще, я буду вполне довольна этим. Не жажда блеска, славы толкает меня, а искренняя горячая любовь к избранному делу и еще любовь к моему ребенку, которому я хочу сказать: «Твоя мама работает для тебя, для твоего благополучия». А быть может, – кто знает? – мне удастся достичь и того, что он, мой мальчик, будет иметь право гордиться своей мамой.







