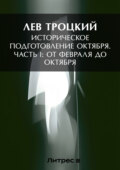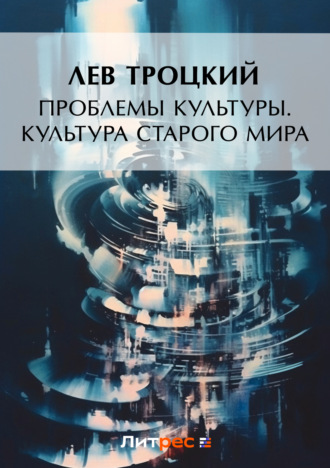
Лев Троцкий
Проблемы культуры. Культура старого мира
Если идейные противоречия составляют «нормальную» механику развития, то совершенно исключительным является, однако, тот темп, в котором они у нас сменяют друг друга. Отдельные моменты в процессе интеллигентских метаморфоз мелькают точно на экране синематографа. Это объясняется общей запоздалостью нашего исторического развития. Мы пришли слишком поздно и потому осуждены проходить историю по сокращенному европейскому учебнику. Чуть линия нашей общественной жизни намечает новый излом, требующий новой идеологии, как Европа сейчас же обрушивает на нас соответственные богатства своей философии, своей литературы, своего искусства. Ницше… Кант… Маркиз де-Сад[202]… Шопенгауэр… Оскар Уайльд[203]… Ренан… Что там, на Западе, рождалось в судорогах и корчах или незаметно слагалось, как продукт сложной культурной эпохи, то ложится на нас лишь издержками по переводу и печатанию. Обилие готовых философских и художественных форм ускоряет идейную эволюцию нашей интеллигенции, превращает второстепенные коллизии в острые, но мимолетные кризисы и таким образом придает всему процессу беглый и поверхностный характер. Два родственных оттенка, одинаково ищущие кратчайшего пути в царство мещанской культуры, внезапно выступают друг против друга, как две грозные системы, до зубов вооруженные средствами европейских арсеналов. Кажется, еще миг – и все поле покроется трупами. Но не успеете вы протереть очки, как обе враждующие стороны, декаденты и парнасцы, мистики и позитивисты, аскеты и ницшеанцы шествуют на примирительную трапезу в ресторан «Вену».
Сборник «Литературный распад»[204] затевался, когда эстетическая эротика только начала принимать эпидемический характер, набирался, когда арцыбашевщина достигла зенита, и вышел в свет, когда можно было уже подметить признаки реакции.
Поистине – «и жить торопимся, и чувствовать спешим». И теперь нетрудно уже предсказать, что новые сборники того же типа, подготовляемые, насколько нам известно, в разных местах под влиянием успеха «Распада», окончательно запоздают, ибо нынче паролем становится не половая романтика, и не демонический оргиазм, и не гениальное сумасбродство, а культурная уравновешенность и примиренная всесторонность. От кочевого душевного быта вчерашний «оргиаст» торопится перейти к оседлому. Он экономно и рассудительно распределяет свое внимание и свой энтузиазм между Пушкиным и пикантностями новейшей фабрикации, между нравственной корректностью и гигиеной тела, неутомительною любовью и автоматической вежливостью обихода. Из гигантской встряски последних лет он выходит точно из римских терм (чтобы не сказать – из московской бани) – очищенный, благоумиротворенный и культурно-самодовольный…
«Киевская Мысль» N 325, 23 ноября 1908 г.
Л. Троцкий. НОВОГОДНИЙ РАЗГОВОР ОБ ИСКУССТВЕ
Вена. Herrengasse. Cafe Central. Silvesterabend. (Вечер под новый год.) Pr sit Neujahr! (С новым годом!) Все залы переполнены. Огни, шум, дамские шляпы, загнанные кельнеры, пунш и грог. Prosit Neujahr!
Несколько депутатов играет за длинным столом в «тарок». Глядя на этих людей, никто не сказал бы, что на их плечах тяготеет бремя государственных устоев. Они играют в карты каждый вечер и в наступлении нового года не видят причины нарушать заведенный порядок… Рядом группа журналистов бульварной прессы с дамами, одетыми только наполовину. Недопитые стаканы вина, остроты по очереди и благодарный смех женщин правильными залпами. Сутолока. Входят и выходят. Prosit Neujahr! Все хотят чем-нибудь отметить тот факт, что земля стала старше на 365 дней…
В углу, подле фонтана, который не действует, сидели: немец-врач, русский журналист, русский эмигрант-семидесятник, художница-венгерка и русская музыкантша. Сидели уже целый час, разговор то расширялся, то дробился, скользнул по турецкому парламенту, задержался на время над развалинами Мессины и, сделав еще два-три зигзага, остановился на живописи. Спросили друг друга про выставку русских художников.
– Боже мой! – воскликнул доктор, обращаясь к русским собеседникам, – что же вы нам дали, господа? Вы так многое пережили у себя за последние годы, в вашей удивительной стране, – кому же и обновлять искусство, как не вам! Признаюсь, я шел в это неуклюжее здание на Karlsplatz с великим ожиданием. И что же? Вы принесли нам то же самое, что мы видим у себя ежегодно на Secession[205], – только в меньшем количестве и, простите, худшего качества. На всей вашей выставке нет ничего вашего, кроме разве пары не очень значительных рисунков Билибина[206]. Разве не так?
– Совершенно присоединяюсь! – поддержал доктора эмигрант. – Судя по газетам, у нас нынче о «национальном начале» не только реферируют на либеральных собраниях, но и весьма назойливо чирикают во всех декадентских кабачках. А в результате – интернациональнейшие продукты ниже среднего рыночного качества… Самоцельная колористика, внутренне-пустой импрессионизм[207], притом в ребяческом возрасте, притом без веры, ибо все заимствовано. Замечательно! Родина импрессионизма и стилизации – Париж: не только мы, русские, но и вы, немцы, питались и питаетесь французскими внушениями. Между тем, нигде импрессионизм не занимает такого скромного угла в искусстве, как во Франции. Там он почти не вошел в обиход. А в каком-нибудь Шарлоттенбурге bei Berlin вы в последнюю пивную вынуждены теперь входить через стилизованную дверь. Почему так? Да потому, что немцы несравненно беднее французов эстетической культурой, художественными традициями, консерватизмом форм. И сила сопротивления у них меньше. А из нас, русских, в этом отношении и вовсе хоть веревки вей. «Я в Германии – немец, – писал некогда Достоевский о русском интеллигенте, – во Франции – француз, с древним греком – грек, и, тем самым, настоящий русский и наиболее служу России». Что-то в этом роде… Но Достоевский фатально ошибся, как и все наши самобытники. Та универсальная личность, которая ему мерещилась, оказалась только исторической безличностью. И это вполне отчетливо сказалось, когда дрогнул и стал распадаться на куски старый сплошной быт… Пришло время интеллигенту выявить, наконец, свою национальную физиономию, но – увы! – она оказалась, точно грифельная доска, сплошь покрыта готовыми чужеземными письменами… Я, как вы знаете, тридцать лет живу за границей и неотменно наблюдаю русскую интеллигенцию со стороны. Вот мой несокрушимейший вывод: поздно пришла, матушка! Не создать ей национальной физиономии – ни в какой области.
При последних словах старый эмигрант перешел с немецкой речи на русскую.
– Струве, к примеру, теперь трубит в рог славянофильства, – повернулся он к журналисту, – а чуть-чуть присмотреться, рабски копирует немецких национал-либералов; только и всей разницы, что готический алфавит заменяет кириллицей… Бенуа[208] требует, чтобы питерский cabaret назвать не cabaret и не Ueberbrette, а «старым хорошим русским словом балаган», и клянется, что стоит произвести эту национальную реформу, и – «тогда пойдет уж музыка не та»…
Журналист утвердительно кивнул головою. Музыкантша сделала движение, как бы желая что-то сказать, но удержалась. Доктор пососал свою виргинию и неопределенно поморщил лоб: видно было, что он не уловил мысли.
– То же и на этой выставке. Даже на Рерихе[209] с его славянскими примитивами национальность сидит, как картонная маска, под которой чувствуется декадент-космополит. О других и говорить нечего!..
– А все же, – начал доктор, – на выставке резко выступает одна, если хотите, национальная черта вашей интеллигенции: ее крайняя нервная расшатанность. Это – для меня, как для психиатра по специальности, неисчерпаемый материал. Я с внимательным удивлением останавливался возле многих картин. Один Анисфельд[210] с его синей статуей чего стоит! Затем господа Якулов[211], Милиоти[212]… Филистер пожмет плечами и скажет: «Этот человек развел большое ведро синьки и вымазал ею огромную статую без головы. Какая его цель? Очевидно: epater le bourgeois, сшибить меня с ног!» Однако, это вздор. Я не поклонник художественного творчества вашего Анисфельда, но я скажу: причину его злоупотребления синькой нужно искать не в его злой воле, а в его ненормальном зрительном нерве. Он так видит, вот и все. И если он имеет поклонников, значит его болезнь типична. Кто знает; может быть, в этой ненормальности – источник новых эстетических откровений? Предрассудок – думать, будто наш глаз неизменен: он развивается путем отбора целесообразных ненормальностей. Весь вопрос лишь в том, находится ли данная ненормальность зрительного нерва на большой дороге нашей психофизической эволюции или в стороне от нее?
– Позвольте, доктор, – запротестовала венгерка, – но вы ведь попросту сводите художественную критику к невропатологии!
– Смею думать, что к выгоде для обеих, – отозвался врач. – Возьмите импрессионистов: поразительные, подчас нестерпимые сочетания красок у одних; столь же поразительная колористическая скупость у других. Вы знаете, что кроется под этим? Дальтонизм, слепота по отношению к краскам! Не покачивайте иронически головой… Правда, этот вопрос сравнительно мало освещен; но во всех тех случаях, где мне лично удавалось исследовать, я всегда открывал органическую или функциональную ненормальность глаза или уха, как источник новых художественных форм и эстетических переживаний. В сущности развитие всякого искусства – заметьте это – идет по пути закрепления и обобщения счастливых индивидуальных ненормальностей.
– Значит, и наши с вами глаза, доктор, поражены дальтонизмом?
– Поскольку соответственные колористические приемы завоевывают наше признание – несомненно. В той или другой степени и форме. Не нужно пугаться слов: ненормальность становится нормой, когда ее подхватывает поток развития и закрепляет в общую собственность.
– Может быть, все это и верно, – впервые отозвался журналист, – но только ваша теория так же мало объясняет эволюцию живописи, как и химия, дающая формулы декадентских красок. Вы оставляете без ответа основной вопрос: почему именно в нынешнее время восторжествовал «импрессионистский» способ восприятия окрашенных поверхностей? или, говоря вашими словами: почему укрепились именно эти, а не другие ненормальности? Ответ придется искать в социальной обстановке, в условиях исторического развития; не в структуре глаза, а в структуре общества. И тут я скажу не колеблясь: импрессионизм с его красочными контрастами, как и с его колористической анемией был бы немыслим вне культуры больших городов. Для этой живописи необходимы cafes, cabarets, сигарный дым, наконец, превращение ночи в день, благодаря электрическому свету, умерщвляющему все краски… Мужик этого искусства не поймет!.. Вы скажете, что он никакого не поймет? Допустим. Возьмем образованного, возьмем гениального мужика – нашего Толстого. Я не знаю строения его глаза, но я знаю строение его души – и я скажу: от этого искусства он отвернется… Если б вы даже неопровержимо доказали мне, что у русской интеллигенции в нервных центрах какие-нибудь крупные нехватки, или что у нее ненормальные глаза и уши, это меня еще ничему не научило бы в таких вопросах, как внезапная вспышка эротического эстетизма, как творчество Андреева, или хотя бы тех же Анисфельда с Якуловым. Брать интеллигенцию нужно не за уши, – хотя, может быть, и за уши ее не мешает взять! – а за душу. Душа же у ней общественная, исторической судьбой обусловленная… Даже наши сновидения черпают свое содержание из социальной среды: сапожник видит во сне колодку, а палач – веревку. Тем более «сновидения» поэзии и живописи!..
Столкнулись две точки зрения: психо-биологическая и социально-историческая, и каждая требовала для себя господства, не признавая соподчинения. Дальнейший спор становился неизбежно бесплодным и потому раздражающим. И, как всегда, первыми поняли это своим внутренним умом женщины, почти не принимавшие участия в споре – тоже, как всегда.
– А вы были на Kunstschau? – спросила музыкантша журналиста.
– Нет! И без крайней служебной обязанности не пойду.
– Почему так?
– Да как хотите, посещение художественных выставок есть страшное насилие над собою. В этом способе эстетического наслаждения сказывается страшное казарменно-капиталистическое варварство. Уже каждая отдельная картина, – продолжал журналист, полушутя, полусерьезно, – включает в себе целый ряд внутренних эстетических противоречий, тем более – выставка… Вы с этим не согласны? Но возьмите ландшафт – что это такое? Кусок природы, произвольно отрезанный, заключенный в раму и повешенный на стену. Между этими элементами: природой, холстом, рамой и стеной связь совершенно механическая: картина не может быть бесконечной, – традиции и практические соображения упрочили за ней четырехугольную форму, чтобы она не мялась и не коробилась, ее заключают в раму, чтоб ей не лежать на полу вбивают в стену гвоздь, привязывают к нему веревку и на этой веревке подвешивают картину; потом, когда завешают все стены – иногда в два и три ряда, – называют это картинной галереей или художественной выставкой. А мы обязаны все это, – ландшафты, жанры, рамы, веревки и гвозди – впитывать в себя залпом…
– Ну, уж это похоже на толстовскую критику оперы…
– Чего же вы собственно хотите? – спросила художница. – Упразднения живописи? или только – выставок?
– И более, и менее того… От толстовского рационализма я очень далек… А хочу я, чтобы живопись отказалась от своего абсолютизма и восстановила свою органическую связь с архитектурой и скульптурой, от которых она некогда обособилась. Не по ошибке обособилась, о нет! Она совершила с того времени огромную и поучительную экскурсию, завоевала ландшафт, стала внутренне-подвижной, интимной, развила поразительную технику. Теперь, обогащенная всеми этими дарами, она должна вернуться в лоно матери своей, архитектуры… Я хочу, чтобы картина не веревкой, а художественным смыслом своим была связана со стенами, с куполом – с назначением здания – с характером комнаты… а не висела бы, как шляпа на вешалке. Картинные галереи, эти концентрационные лагери красок и красоты, служат только уродливым дополнением повседневной бескрасочности, некрасивости. Простите за сравнение, на первый взгляд, крайне грубое, – но я невольно обращаюсь к нему мыслью. Наша культура знает еще другого рода концентрационные лагери: здания, где сосредоточены ласки. Туда люди прибегают время от времени, отягощенные любовью, и платят за вход, – как мы бежим на выставки, отягощенные потребностью красок и форм. Час концентрированной любви, час концентрированной красоты. Такое уродливое скопление картин, статуй, эпох, стилей, красок, замыслов, настроений – могло создать только наше проклятое время серых кубических домов, фабричного дыма и черных цилиндров. Если б на асфальте наших улиц росли цветы, если б тропические птицы садились на железные балконы наших домов, если б изумрудные волны плескались у наших окон, если б солнце по вечерам погружалось в море, а не пряталось за вывеску Гернгросса, – картинные галереи были бы невозможны… Я не зову вспять, о нет! Ни цветов, ни птиц на асфальте – ничего этого нет и не будет. И от асфальта цивилизации мы тоже не откажемся, чего безнадежно требует Толстой. Но у нас остается еще другая возможность: бороться за великую синтетическую красоту будущего… Мы стерли первобытные богатства красок и форм, для того чтобы заменить их новыми, «искусственными» – по моему глубокому убеждению, несравненно более совершенными. Но этой новой красоты сегодня еще нет: она рассеяна во фрагментах, осколках и намеках. И я стою на том, что кусок природы, вставленный в деревянную раму, покрытую позолотой, есть только временный и грубый суррогат.
– Но позвольте, позвольте… Не произвольны ли ваши построения? Вы отвергаете то, что есть, – где вы видите элементы нового искусства, эти ваши фрагменты и намеки?
– Везде! Что такое импрессионизм? Последнее слово «самостоятельной», то есть на стену повешенной живописи. По методу импрессионизм – та же мозаика, только не из цветных камешков, а из колористических пятен и штрихов. Убивая линии и очертания, разлагая краски на составные части, новое искусство наносит смертельный удар самостоятельной картине и вместе с тем открывает живописи выход к архитектуре. Я не буду называть целый ряд импрессионистов, которых именно новая техника толкнула на путь декоративной живописи: вы их знаете лучше меня. Но вот вам те же Анисфельды, Милиоти, Крымовы[213]: ведь все они тоскуют по декоративным целям, по категорическим императивам архитектуры. Вот «ноктюрн» в зеленом. Вот «доисторический ландшафт»… Это не картины – как не картина стеклянный осколок окна готической церкви. Это просто кусок холста, на котором художник пробовал разные сочетания красок: это модель для купола, может быть, для оконной шторы… Вы скажете, что эти художники не указ. Согласен. Но вот вам имя большое и бесспорное: Тэрнер (Turner)[214]. Я снова и снова смотрел его несколько месяцев тому назад в Лондоне, в Tate Gallery. Его «Вечерняя звезда», его «Ватерлоо» – это не картины, а волны нежнейших красок, озаренных таинственным светом. Линий нет. Все предметы в золотом тумане. Для картины Тэрнер слишком мало материален, он ждет и ищет благородной архитектурной оправы. По моему крайнему суждению, Тэрнер – разрушитель самостоятельной живописи, как Вагнер – разрушитель абсолютной музыки…
– Отлично, – сказал доктор, который спокойно сосал виргинию, как бы предвкушая удар, который он нанесет. – А знаете ли вы – и уж это факт, несомненно установленный, – что Тэрнер был астигматик[215]: линии для него не существовали, только окрашенные поверхности… Вот и опять ненормальность глаза, как основа художнической индивидуальности!
– Это меня не касается, доктор… Передо мной Тэрнер на полотне – и я наслаждаюсь им. Значит, есть что-то общее между мною и им. Что-то вне Тэрнера и его болезни. Что-то вне-личное, социальное. Какая-то общественно-эстетическая связь.
– А вы сами не… астигматик?
– Н-нет… кажется.
– Извините, я в этом не уверен. Приходите завтра ко мне, и я исследую ваш глаз.
Все рассмеялись. Доктор взял реванш, а разговор, накренившийся было на бок, восстановил свое равновесие.
– В словах моего друга много парадоксального, – сказал улыбаясь старый эмигрант, – но журналисту это можно простить. Однако основная его мысль кажется мне совершенно правильной. Синтетическое искусство будущего! Красота, не запертая в особых учреждениях, а проникающая все наше бытие. Благородное сочетание природы, архитектуры и живописи. Новые сисситии[216], как у спартанцев, но в условиях, обогащенных всеми чудесами техники. Музыка, как аккомпанемент мышления и делания. Жизнь – на форуме – как искусство, как высшее творчество…
…Но, господа, синтетическая красота мыслима лишь на основе синтетической общественной правды. Человек должен стать коллективным кузнецом своей исторической судьбы. Тогда он сумеет сбросить главную тяжесть труда на спины металлических рабов, овладеет стихией бессознательного в своей собственной душе и сосредоточит все свои силы на творчестве новых прекрасных скульптурных форм сотрудничества, любви, братства, общественности!.. Досуг нужен человеку, «право на леность»!
…Господа! Выпьем за этого беспечного, счастливого, гениального ленивца будущего! Prosit Neujahr, друзья мои!
«Киевская Мысль», N 358, 30 декабря 1908 г.
Л. Троцкий. БЕЛЫЙ БЫЧОК И КУЛЬТУРА
Будем, господа, созидать культуру!.. Как это делается? Вы не знаете? Я тоже собственно не знаю… Но ведь «пора же, пора нам, наконец, сбросить с себя это скифство!»… – как говорил лет шестьдесят тому назад щедринский генерал Зубатов. – Надо же и нам когда-нибудь стать в уровень с Европой"…
Несравненный генерал! – его не понимали – он слишком опередил свой век… Зато теперь он мог бы видеть, если б жил, что идеи, им посеянные, взошли сторицею. Можно сказать, вся новейшая русская публицистика представляет могущественный отголосок генеральской тоски по «культуре». Вот уж год, если не больше, как это слово кричит с каждого газетного столбца.
«Культура имеет великое значение»…
«Культура имеет абсолютное значение»…
«Культура имеет религиозное значение»…
Во имя культуры г. Струве приглашает отказаться от игры в оппозиционные бирюльки и сомкнуться для крестового похода против левых. Проф. Котляревский[217], не испытывая, очевидно, ни малейших неудобств в атмосфере азбучных испарений, всем авторитетом историка ручается за высокую ценность культуры. Гг. Изгоев[218] и Галич счастливо дополняют друг друга в борьбе за права культуры. Если бы не грязная зависть некоторых интеллигентов, объясняет Изгоев, у нас уже давно произрастали бы в тундре римские огурцы… А Федор Сологуб[219], как пишут, сочинил даже «представление», правда, отменно плохое, но зато весьма наглядно показывающее, как безобразна некультурность, белья не меняющая, пятерней расчесывающаяся и морду зовущая рылом, – и как привлекателен паж Жеан, который норовит обнять свою Жеанну не спроста, а с соблюдением всех форм и обрядностей культуры.
Helas! – как говорит генеральша Зубатова: – nous sommes encore si peu habitues de jouir des bienfaits de la civilisation! (Увы! мы еще так мало привыкли к благодеяниям цивилизации!).
У нас вон стряпчий городничему на именинном вечере живот прокусил. Ну, что хорошего в этакой самобытности? У нас вон мосье Шомполов, нахлеставшись водки, позволил себе во время репетиции к мадам Симиас такое обращение… У нас в тундре, где могли бы произрастать римские огурцы, ссыльные с голодухи охотятся на полицейских надзирателей…
Как не воскликнуть вместе с его превосходительством: «пора, пора нам, наконец, сбросить с себя это скифство!».
Благодарная, но несколько беспредметная тоска по культуре владела некогда сердцем Фомы Фомича Онискина{137}, того самого, который состоял диктатором в селе Степанчикове. Если помните, при господском доме находился парень Фалалей, двоюродный брат сологубовскому Ваньке-Ключнику. Черноземный дикарь Фалалей переносил свое варварство даже в свои сновидения и каждую ночь упрямо видел во сне… белого бычка. Фома Фомич из себя выходил. «Неужели же ты, неотес, неумытое рыло – с такими приблизительно словами обращался он к Фалалею, – не можешь увидеть во сне что-нибудь благородное: сад, например, где дамы и кавалеры пьют чай с вареньем и играют в карты»…
Но в неискоренимой закоренелости пребывал Фалалей. И после всех развернутых перед ним перспектив культуры упрямо ложился на вшивый тулуп и видел во сне… белого бычка.
Шли годы, рос Фалалей, вместе с ним рос белый бычок его сновидений и по законам естества превращался в быка.
И настал момент, когда казалось, что Фалалей, который и спать ложился не иначе, как с веревкой в руках, вот-вот накинет аркан на быка и заживет на славу, так что сам паж Жеан должен будет лопнуть от желтой зависти. В те времена все так и думали, что главная задача культуры состоит в том, чтобы поймать быка за рога.
Но бык мотнул головой и увернулся. Фалалей угрюмо посопел носом, но снов своих не менял. А образованные дамы и кавалеры, только что откушавшие в саду чай с вареньем, впали в великое сомнение и стали спрашивать друг друга: точно ли все дело в бычке? И не есть ли белый бычок некоторое знамение? Может быть, это бычок трансцендентный и если машет хвостом, то лишь в высшем мистическом смысле, маня нас отсюда к мирам иным?
– Скажи, Фалалеюшко, что видишь, во сне, – спрашивал проникновенно г. Мережковский.
Но Фалалей, которому как раз в это время полагалось видеть во сне благодетельные последствия закона 9 ноября, по некультурности своей оказался неспособен даже на приятную выдумку и загадочно сопел носом.
– Фефела он, ваш Фалалей! – провозгласил М. Энгельгардт[220], фертом выступая из-под новой подворотни.
– Нужно раз навсегда ликвидировать политические бредни, – заявил г. Изгоев: – спасение Фалалея – в культуре!
Может быть, самое худшее в реакционной эпохе то, что в общественном сознании она насаждает царство глупости.
Когда кривая исторического развития поднимается вверх, общественная мысль становится проницательнее, смелее, умнее. Она научается сразу отличать главное от незначительного и на глазомер оценивать пропорции действительности. Она ловит факты налету и налету же связывает их нитью обобщения. Правда, она при этом моментами ударяется в так называемые крайности; она говорит, например: без парламентских гарантий роды дают большой процент неправильностей, или: без принудительного отчуждения хинин утрачивает свое действие. Но, в сущности, она права даже и в своих крайностях.
Когда же политическая кривая опускается вниз, в общественной мысли воцаряется глупость. Правда, как отголоски прокатившихся событий, в обиходе живут обрывки обобщающих фраз: «без действительных гарантий»… – «порядки, приведшие к Цусиме»… Но внутреннее содержание этих фраз выветрилось, драгоценный талант политического обобщения куда-то бесследно исчез. Каждый вопрос торчит сам по себе, как пень в вырубленном лесу. Глупость наглеет и, оскалив гнилые зубы, глумится над всякой попыткой серьезного обобщения.
Чувствуя, что поле за ней, она начинает орудовать своими средствами.
Сперва приступает вплотную к проблеме пола. Запускает лапы в физиологию, эстетику и психопатологию, выворачивает все наизнанку и, напустив смраду, отходит к стороне.
Набрасывается на внешнюю политику и дает Стаховичу[221] с Маклаковым[222] мандат спасти Сербию.
Обращается к женскому вопросу и постановляет обуздать в мужчине зверя.
Все валится у нее из рук. Но она, видимо, не теряет веры в себя и даже предъявляет миру свою законченную программу: России нужна культура.
Воцаряется единомыслие без мысли. «Торгово-Промышленная газета»[223] ссылается на Струве, Галич – на «действительный» марксизм, Изгоев – на «Русскую Старину»[224], Мережковский – на чорта, «Россия»[225] – на свою совесть. И все требуют культуры.
Сразу можно подумать, будто общественная мысль, утомившись собственной раздробленностью, нашла, наконец, свое спасительное обобщение, свою формулу действия. Но это обман. «Культура», как лозунг, – что это, если не торжественное пустое место, в которое можно свалить все и из которого нельзя извлечь ничего…
…И все-таки: эта пустопорожняя формула не есть ли симптом? Если лицемерие есть дань, которую порок платит добродетели, то призыв к «культуре» не есть ли дань, которую глупость платит возрождающейся потребности в обобщении? Вопрос, на который мы пока еще не решаемся ответить утвердительно.
«Киевская Мысль» N 29, 29 января 1909 г.