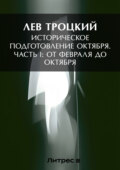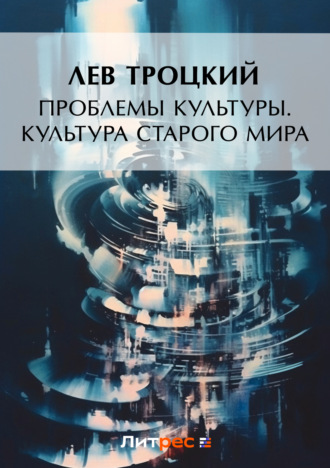
Лев Троцкий
Проблемы культуры. Культура старого мира
II
Жизнь – колеблющаяся игра непостоянных сил. «Добро и зло, радость и страдание, я и ты, – мог бы сказать Шницлер словами Заратустры, – все это кажется мне разноцветным дымом перед творческими очами». Прошлое, настоящее, будущее – кружевная ткань сновидений… Истина? Где она? Да и зачем она? Есть нечто более важное, чем истина, – говорит нам Шницлер-Парацельс, – это такое заблуждение, которое довлеет минуте. «Одно мгновение принадлежит нам… и вот оно уж ускользает… каждая ночь, похищая наши силы, уносит нас куда-то в неведомый нам мир… Все блага жизни подобны видениям, которые грезятся нам во сне». (Трилогия – «Парацельс».)
Против этой философии выступает с горячим протестом оружейный мастер Киприан, воплощение мещанской рассудочности. Он знает, он твердо знает, что речи Парацельса – клевета на мироздание. Сновидения? Но они посещают нас только ночью, а днем, при свете божьего солнца, все так ясно, так достоверно. Этот дом… он уже три столетия переходит из рода в род и ныне принадлежит ему, Киприану. Это ли не достоверно? Разве сам он, Киприан, не хороший мастер, не добрый гражданин, не почтенный член Базельского магистрата? Или Юстина: разве она не жена ему, разве она не благодарит ежедневно небеса за свой счастливый выбор? «Да, такой народ, как вы, – говорит он Парацельсу, – хотел бы уничтожить границу между днем и ночью и ввергнуть нас в сомнение и потемки»… Но он, Киприан, слишком глубоко ушел в действительность. Он не боится ни воспоминаний, ни мечтаний… И он и жена его живут только настоящим, ясным, отчетливым, честным настоящим… Так ли?
Чтобы вскрыть всю призрачность отношений, утвердившихся в доме Киприана, Шницлер прибегает – как увидим, не в первый раз – к героическому средству: гипнозу. Под внушением Парацельса Юстина утверждает, что провела ночь в объятиях молодого дворянина Ансельма. Ее речь так убедительна, что сам Парацельс начинает колебаться: что если эту правду он лишь расшевелил в ее сердце? Муж в ужасе… Новый сеанс. Повинуясь гипнотизеру, Юстина начинает говорить правду, только правду и притом всю правду. Она рассказывает, как страстно любила Парацельса, тогда еще студента Гогенгейма… Как долго она жила воспоминаниями… Как много она живет мечтаниями… Она, почтенная и на вид столь уравновешенная жена оружейного мастера, правда, еще не согрешила с Ансельмом, но она была так близка, так близка к этому… Первое внушение Парацельса превратило для нее в действительность лишь то, что жило в ней, как близкая возможность… «В том, что мы видим во сне и наяву, смешаны и правда и ложь. Ни в чем не можем мы быть уверенными. Мы ничего не знаем ни про других, ни про себя»…
Умирающий забытый журналист Радемахер (Часы жизни – «Последний маскарад») призывает к себе в больницу своего бывшего друга, знаменитого поэта Вейгаста, чтобы бросить ему в самодовольное лицо целый ряд оскорблений и разоблачений, чтобы сказать ему о пустоте его души, о его творческом бессилии, о том, что его фальшивая слава исчезнет вместе с газетными листами, поющими ему хвалу, наконец, что его семейное счастье – миф, ибо его жена была любовницей Радемахера. Но пришедший на свидание поэт сбрасывает с себя маску самоуверенности и самодовольства и оказывается жалким, несчастным человеком… Жестокие слова обличения замирают на устах Радемахера… Что знаем мы о других?
Профессор Тильгран (Трилогия – «Подруга жизни») знал о связи своей жены с доктором Альфредом Гаусманом. Предполагая тут серьезное чувство, профессор не раз порывался дать жене свободу и только ждал ее первого слова. Лишь случайно, после внезапной смерти жены, узнает он, что у Гаусмана есть невеста, что покойная «подруга жизни» знала об этом, что серьезного чувства не было, что все сводилось к любовной игре. В течение ряда лет профессор обманывал себя насчет своей жены, чтобы продолжать ее любить, из-за нее страдать… Сколько энергии ушло на сон сердца, на иллюзию!.. Что знаем мы о других? Что можем мы о них знать? Ничего не знаем! Хотим ли, по крайней мере, знать?
Ответит нам герой «грациозного», чтобы не сказать легковесного, произведения, которым Шницлер дебютировал с таким успехом («Анатоль», 1892). Анатоль любит свою Кору, любит отнюдь не платонической любовью – во всяком случае горячо и искренно… что, правда, не мешает ему во втором диалоге любить Бианку, в третьем – Анни, на сцене, и безыменную, за сценой, в четвертом – Илону, от которой он убегает на час, чтоб мимоходом обвенчаться… Не забудьте, что мы ничего не знаем об антрактах… Словом, это та общая всем героям Шницлера «любовь», где голая сексуальная основа слегка драпируется эстетическими орнаментами… Никакие психологические моменты высшего порядка сюда не входят. Если для некоторых героев Шницлера женщина и не составляет сущности жизни, то «в известном смысле, – как говорит проф. Тильгран, – она составляет нечто большее, чем сущность жизни – ее аромат… но аромат естественно улетучивается»… Отсюда этот хоровод, в котором прекрасная «безыменная», заместившая Кору, уступает место Илоне… Как не вспомнить снова Заратустру{110}: «Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому ему нужна женщина, как опаснейшая игрушка»…
Итак, Анатоль любит свою Кору. Он хочет узнать, не изменяет ли она ему? Разве какая-нибудь женщина обращалась к своему возлюбленному со словами: «Я изменила тебе!»… Но вот средство найдено: гипноз! Анатоль применял его не раз к другим для забавы. Теперь, по совету друга, он испытывает его на своей возлюбленной, чтоб разрешить томящую его загадку. «Можно сделаться чародеем! – восклицает он восторженно. – Можно, наконец, услышать правдивое слово из женских уст». Но когда Кора уже погружена в гипнотический сон, у Анатоля не хватает духу задать ей решительный вопрос. «Ты мучишься дни и ночи, – говорит ему его приятель, проницательный Макс, – полжизни хочешь отдать за то только, чтобы узнать правду, и когда она лежит перед тобой, ты не хочешь нагнуться, чтобы поднять ее!.. твои иллюзии тебе в тысячу раз дороже истины». Ничего мы не знаем, ничего не хотим знать о чужой душе. Но что знаем мы о своей собственной?
Паулина и ее поклонник (Часы жизни – «Женщина с кинжалом») стоят в картинной галерее перед картиной XV ст., изображающей «женщину с кинжалом», убившую после ночи ласк своего случайного возлюбленного. Муж-художник, пораженный трагической красотой жеста, тут же переселил жену на полотно. Паулина подчиняется власти прошедшего, которое почти гипнотизирует ее. Ведь и она – жена художника-писателя, который тоже смотрит на ее жизнь, как на источник эстетических впечатлений, как на материал для своего творчества. Ведь и у нее – поклонник, который тщетно умоляет о свидании… Тщетно – до настоящей минуты, но теперь, когда далекое чужое прошлое слилось в недолгой грезе с ее собственным настоящим, она говорит: «Приду!». Знала ли она что-нибудь об этом решении получасом раньше?.. Вся жизнь – игра. Действительность и обман воображения сплетаются в неожиданные, причудливые комбинации… Кто разберется в них?
Высшего воплощения эта мысль достигает в драматическом гротеске «Зеленый Попугай» («Трилогия»). В других произведениях Шницлера полем «игры» служит индивидуальная психика; в «Зеленом Попугае» – арена общественных коллизий, Париж, берущий Бастилию. Шницлер, так сказать, материализует игру жизни, из души выносит ее на площадь. Это, кажется, единственное произведение Шницлера, где мы видим жизнь масс, слышим голоса улицы, наблюдаем социальные столкновения. Но и здесь события занимают внимание художника не своим общественным смыслом, – они служат лишь удобным экраном, на котором он проецирует эффектные комбинации игры с действительностью…
Хозяин кабачка «Зеленый Попугай», Проспер, – бывший театральный антрепренер. Актеры и актрисы его прежней труппы разыгрывают в кабачке убийц, воров, проституток и сутенеров. Высшая придворная знать приносит сюда свои пресыщенные нервы, чтобы щекотать их в обществе отборнейшей «сволочи» всего Парижа. Проспер называет проституток своего кабачка герцогинями, а с знатными посетителями обращается, как с бродягами. Он бросает им в лицо грубости, напоенные ядом ненависти мещанина к аристократу, а они принимают эти выходки с улыбкой, ибо это лишь пикантные «шутки», тогда как на улицах те же речи говорятся всерьез. Сюда приходит комиссар, подозревая в актерах действительных преступников, и, встретив здесь бродягу, принимает его за актера. Выпущенный из тюрьмы преступник поступает к Просперу в труппу на еще не остывшее место актера, который попал в тюрьму… за подлинное воровство. Посетитель из провинции принимает «актрис» за дам из общества, а маркизу де-Лансак – за одну из веселых девиц Проспера. И в последнем случае он так мало ошибается… «Игра переходит в действительность, действительность – в игру». Здесь, в «Зеленом Попугае», для потехи аристократов, «играют» в восстание, в то время как там, на улице, народные массы уже взяли Бастилию и подняли на шест голову Делонэ. В кабачке произносятся кровавые монологи под аккомпанемент уличного шума бунтующей толпы. Актер Анри, играющий убийцу из ревности, действительно убивает любовника своей жены, герцога де-Кадиньяка; а ворвавшаяся с улицы толпа вместе с актерами приветствует убийство аристократа возгласами в честь свободы… Так из ряда qui pro quo (недоразумений), достойных водевиля, Шницлер дерзко пытается воссоздать драму величайшего общественного переворота.
Водевильная смесь игры с действительностью, развивающаяся в кабачке «Попугая», – только эхо событий, происходящих на улицах Парижа. Или, скорее, наоборот. Движение возволнованного народа, уличная борьба – тот же просперовский спектакль, только по расширенной программе…
Нам пришлось слышать мнение лица с тонким художественным вкусом, что в этом произведении видна кисть, достойная Шекспира. Пусть так. Но это Шекспир – драматического фельетона. Сколько нужно дерзости, или, говоря точнее, цинизма, чтобы позволить себе такую «сверхчеловеческую» точку зрения на грандиознейшее событие европейской истории{111}.
Это – хула на человечество и его историю.
III
Жизнь – игра. А смерть? О, Шницлер слишком хорошо знает, что смерть не расположена играть. Страх смерти разлит тонким эфиром по всем произведениям Шницлера. Но в страшно сгущенном виде это чувство составляет основу новеллы «Смерть».
Вы помните рассказ Эдгара По[141] («Колодезь и маятник»), посвященный изображению приемов инквизиционной казни. Несчастную жертву туго привязывают к ложу, а с потолка медленно спускается на нее маятник-нож, все увеличивая и ускоряя размахи своих качаний. Линия за линией, дюйм за дюймом – с неотвратимой постепенностью приближается стальной полумесяц к обреченному, терзая его слух зловещим свистом. А жертва ждет… Ждет, впившись воспаленными глазами в блестящее лезвие.
Сделайте теперь этот маятник невидимым, но столь же неумолимым, растяните безумные муки ожидания на год, на целый год, поставьте рядом с обреченным его возлюбленную, лишенную возможности помочь ему, – и вы получите содержание новеллы «Смерть».
Молодому чахоточному писателю остается не больше года жизни. И он и его возлюбленная знают об этом. И вот в ожидании неотвратимо надвигающегося маятника смерти они проводят вдвоем целый год – день за днем, месяц за месяцем… С поразительной тонкостью оттенков изображает Шницлер все колебания в их настроении, приливы и отливы надежды, все усилия ума, этого неутомимого софиста, примирить чувство с неизбежностью неизбежного… Какую тонкую паутину умозаключений ткет из себя разум, чтобы опутать неистовствующий инстинкт жизни! Но достаточно одного взрыва не примиряющегося чувства – и от логической паутины не остается следа…
В сущности, ведь вся земля населена единственно только осужденными на смерть! – такова уловка, одна из уловок недремлющего софиста. Уловка? Только уловка? Разве в действительности это не так? Разве над всеми нами, да, над всеми, не качается слепой маятник смерти?.. все ближе, ближе, ближе… Мы не знаем лишь, когда именно он совершит свой последний, свой непоправимый взмах… Но ведь это будет, будет, будет…
С какой выразительностью вложил Беклин[142] этот кошмар ожидания в свой портрет! Художник с кистью в руках, в момент творческого экстаза, прислушивается к мелодии, которую скелет наигрывает над ухом на единственной струне скрипки… Символ понятен до ужаса. Жизнь, внешняя, прихотливая, разнообразная, манящая и отталкивающая, протекает в моментах творческой работы и в банальных встречах банального обихода… а сознание вечно живет двойной жизнью, прислушиваясь с мистическим ужасом к однострунной мелодии смерти… Еще удар смычка, может быть, еще и еще, натянутая струна зазвенит в последней истоме и… порвется… Мрак… небытие…
Страх смерти является непосредственным «героем» маленького рассказа Артура Шницлера «Из-за одного часа». Это собственно не рассказ, а философская сказка, слишком искусственная, чтобы быть художественной. Но она характерна для Шницлера, и мы прочитаем ее. Умирает молодая женщина. Ее возлюбленный, женой которого она была три года, молит Ангела Смерти даровать своей жертве еще хоть час жизни. Только теперь он понял, как любил умирающую, – неужели же она уйдет от него, не узнав об этом? Ангел Смерти отвечает: «То, что ты требуешь от меня, я только могу выпросить для тебя у другого, которому также уделен еще только час жизни, не более». Время прекращает для больной свое течение, и юноша с Ангелом отправляются на поиски за часом. Они встречают философа-отшельника, который всю жизнь считал небытие единственно желанным состоянием, присущим человеку. Но он отказывает им: быть может именно в последний час жизни ему удастся разрешить загадку мироздания. А кроме того… к чему торопиться? «Вечность, которая дарована людям в блаженном состоянии, достаточно длинна и без того». Это в нем страх смерти говорит таким лицемерным языком… Отказывают юноше и умирающий, которому остался еще на долю час мучений, и дряхлая, слепая, всеми покинутая, старуха, и приговоренный к смерти преступник, которого через час взведут на эшафот, и молодая женщина в объятиях возлюбленного… В ответ на последнее предложение ангела юноша соглашается отдать всю свою остальную жизнь за час жизни для своей возлюбленной… Но она уже мертва. «Ангел, зачем ты обманул меня?» – восклицает несчастный в отчаянии. Но ангел не обманул его: под пластами любви и горя, там, на самом дне души, где копошатся подлинные чувства, ангел увидел и истинное, временно придушенное желание: жить, жить, жить… Мораль сказки? Ничто не излечит от страха смерти: ни философия, ни муки жизни, ни любовь…
И это верно, пока человек замыкается в душном подвале желудочно-половых эмоций да безыдейного эстетизма. Страх небытия – это как бы корректив, который «мудрая природа» вносит в жизнь узко-личных наслаждений. Когда изощренная мысль бегает, как лошадь на корде, только вокруг вопросов индивидуального бытия, она неизбежно при каждом обороте натыкается на призрак фатального конца.
Только распахнув окно в широкий мир коллективных настроений, массовых задач, общественной борьбы, можно встряхнуться от кошмаров ожидания маятника смерти.
«Восточное Обозрение» NN 114, 115, 18, 19 мая 1902 г.
Л. Троцкий. О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ
Когда присматриваешься к чисто вымытым и гладко выбритым физиономиям рассказов, повестей и романов, которые делают толстыми наши «толстые» журналы, когда пробираешься сквозь толпу наших молодых, подающих и начинающих оправдывать надежды, небезызвестных, почтенных, маститых и просто бездарных беллетристов, рождается мысль, что жизнь истощена, исчерпана до дна великими мастерами образного слова, что не осталось у нее явлений, комбинаций и положений, которые бы не подвергались уже творческой переработке, что вся художественная литература обречена на имитации и перепевы.
У лиц, на журнальных заставах критическую команду имеющих, естественно вырабатывается поэтому недоверчиво брюзжащий тон по отношению ко всем начинающим писателям: «видали!»..
Но приходит талант и кончиком своего пера поворачивает на несколько градусов заношенные факты и явления жизни вокруг их оси, бросает на них луч солнечного света с какой-нибудь неожиданной стороны, и приевшееся, набившее беллетристическую оскомину кажется полным нового захватывающего содержания.
Большому таланту прощается даже молодость – преимущество в иных делах, но не в литературе.
Вот почему, когда Леонид Андреев{112} прошел по литературному полю молодыми, но тяжелыми шагами, почтенные аристархи и даже злостные зоилы, за немногими исключениями, отчетливо приветствовали его своими критическими алебардами.
И Леонид Андреев не затерялся в пестрой и все же однотонной толпе своих «коллег». Он вышел со своим маленьким сборником в руках и сказал: я сам по себе!
И читатель отличил его и потребовал второго издания.
В небольшом томике собрано шестнадцать рассказов. Первый из них написан в июне 1899 года. Последний – в январе настоящего года. Рассказы, разумеется, разного достоинства, но все в один голос свидетельствуют, что г. Андреев «сам по себе». И свидетельство сие истинно.
Студент Сергей Петрович («Рассказ о Сергее Петровиче»), которому не удавалась жизнь, но удовлетворительно удалась смерть, особенно терзался мыслью, что он только материал, только объект, только ступенька.
Приходят одни – художники, сильные и одаренные, и на Сергее Петровиче создают себе славу. Они оголяют его душу и жизнь его души, они описывают его горе так, чтобы люди плакали, и радость так, чтобы смеялись.
Приходят другие – критики и, пользуясь Сергеем Петровичем, как анатомическим и психологическим препаратом, рассуждают по написанному первыми, «откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких».
А он, Сергей Петрович, и для тех и для других только объект, только материал, только ступенька.
Отойдем, однако, в сторону от несчастного ученика Ницше (Сергей Петрович увлекался проповедью Заратустры) и поставим общий вопрос, можно ли на основании писаний Леонида Андреева разрешать «публицистические» проблемы: откуда берутся люди, подобные его героям? куда деваются? как поступать, чтоб их не было? или, наоборот: чтоб их было больше?
Ответом на эти вопросы будет… «Молчание».
Что-то страшное врезалось в жизнь Веры во время ее пребывания в столице, искалечило ее душу и отняло у нее радость существования. Безмолвно изнывает она в родном доме. Ни перед отцом-священником, ни перед матерью она не обнажает сочащихся язв своей души… Недолго, впрочем, они осаждают ее расспросами: Вера бросается под поезд. Мать ее разбита параличом. Остается старик-священник с мучительной загадкой: что сгубило Веру и вместе с нею жизнь всей семьи?
Тщетно вызывает старик образ унесенной дочери, чтобы добиться признания. Тщетно обращается он к несчастной матери, которую паралич лишил языка. Отовсюду отвечает ему молчание. Молчит дом, молчит сад… Даже веселую желтенькую канарейку кухарка выпустила на волю, чтобы не томить в клетке «барышниной душеньки»…
Этот рассказ, на котором, к слову сказать, можно было бы демонстрировать законы художественного такта, этот рассказ – весь писатель, весь Леонид Андреев, каким он является теперь, на заре своей деятельности и своей славы.
Он почти совершенно устраняет объективную, социальную сторону жизни своих героев.
Он преднамеренно обрезывает большую часть проводов, связывающих их с внешним миром. Центр его художественного внимания – индивидуальная душа, преимущественно в моменты острого переворота, когда повседневные настроения освещены заревом необычного, трагического чувства, чаще всего – ужаса.
Лишь по имени назван в рассказе Петербург, убивший молодую девушку, бледной тенью проходит сама Вера, двумя-тремя штрихами – превосходными штрихами! – намечены добродушная старуха мать и крутой сребролюбец поп… В главном фокусе рассказа стоит душа отца Игнатия в момент краха семьи. Глазами ужаса озирается эта душа, ввергнутая какой-то безыменной слепой силой, каким-то разрушительным ураганом во тьму одиночества и молчания.
Здесь нет места публицистическому критерию: произведение не имеет общественных измерений. Оно все, – с начала до конца, – цельный психологический «сгусток».
Вот почему, когда мы приступим к Леониду Андрееву с примерно указанными выше вопросами, ответом на них будет молчание.
Возьмем другой, менее сильный рассказ «В темную даль».
В «культурную» жизнь богатой семьи врывается, как порыв вихря через плохо закрытое окно, «он», блудный сын, высокий, сумрачный и загадочно-опасный, после безвестного семилетнего отсутствия.
Как и несчастная Вера, пришлец не отвечает на вопросы о своем прошлом. Он вырастает пред родной семьей сильный, как стихия, и, как стихия, непонятный. Все интересы, радости и горести родных ему людей он замораживает холодом своего отрицания. Он ненавидит всю их жизнь «от самого дна и до самого верху», ненавидит и не понимает.
Кто он, и что он, мы определенно не знаем, и не в нем суть. Смысл произведения в том невыносимом настроении острой тревоги, напряженной смуты, которое он вносит в душу семьи. Все дышит воздухом затаенной тоски и «суеверного страха», ледяной волной прокатывающегося по дому.
Изящные лепные безделушки от прикосновения его руки меркнут и превращаются в бездушные комки глины, краски тускнеют на незаконченной картине молоденькой сестры, безмолвствует говорливый рояль… А «он», суровый скиталец, внесший все это потрясение, не понимаемый ими и непонимающий их, погружается снова в ту же темную зловещую неизвестность, которая на мгновение выбросила его.
И так почти везде. Два-три замечательных по энергии и меткости реалистических штриха создают «материальный» остов, внутри которого Леонид Андреев производит свой поразительный психологический эксперимент: внешний стихийный удар родит в груди его героев взрыв необычайного, «героического» чувства, которое, как вспышка магния, освещает убаюканную жизнью душу ненормальным, но ослепительно ярким светом.
Роль слепой силы, высекающей из дремлющей души сноп пламени, играет у Андреева чаще всего смерть.
Это слишком понятно. Какому строгому статистическому учету мы ни подвергали бы ее жертвы, какими биологическими, метафизическими или мистическими системами мы ни пытались бы примирить с ней свое сознание, смерть всегда обойдет эти «уловки», всегда сумеет застигнуть врасплох и сотрясти души трепетом ужаса. А это и есть тот психологический эффект, которого ищет Л. Андреев.
Смерть фигурирует в первом по порядку рассказе «Большой шлем».
Четыре человека играют в винт, играют лето и зиму, весну и осень. Три раза в неделю собираются они, чтобы подышать несколько часов жгучим воздухом картежного азарта. Эти четыре партнера – четыре разные души, четыре индивидуальности, различно относящиеся к игре и к картам.
Живее всех толстый Николай Дмитриевич Масленников. Он больше всех рискует и чаще всех проигрывает. И в этом постоянном единоборстве Николая Дмитриевича с фатумом винта, большой бескозырный шлем стал для него предметом самого сильного желания. Долго, уж несколько лет, Масленников ждет его, лелеет грезу о нем.
И вот, в один из вечеров, на руках у Масленникова оказывается весь причт, какой полагается для «большого шлема в бескозырях», кроме пикового туза. Если этот туз в прикупе, тогда…
Николай Дмитриевич протянул руку, но покачнулся, повалил свечку и упал на пол. «Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и, в утешение живым, сказал несколько слов о безболезненности такой смерти».
Масленников умер, и черные крылья ужаса распростерлись на некоторое время над комнатой, в которой люди сосредоточенно играли лето и зиму, весну и осень.
"Одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича… (один из игроков).
Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз, и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!"
Поистине замечательный штрих. Смерть, как абстракция, слишком универсальна, чтобы наше бедное сознание могло овладеть ею во всем ее объеме. Ее надо расколоть раньше на тысячи конкретных подробностей, и Леонид Андреев делает это, как виртуоз.
«Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича».
В одном из рассказов («На реке») Леонид Андреев призывает стихию (наводнение), чтобы внести в душу своего героя не тяжелое чувство ужаса, а, наоборот, радостную деятельную симпатию, нервно напряженную любовь. Великое всеуравнивающее начало мощным дуновением очистило на время грудь маленького человека от сора мелких счетов, дрязг и обид…
Люди, как бы омытые стихией, кажутся новыми и интересными. И машинист Алексей Степанович, целый день подававший помощь затопленному речным разливом селению, тут только впервые понял, что любит людей и солнце, и радость этого чувства кружила ему голову, как вино, и озаряла душу смеющимся светом.
В «Рассказе о Сергее Петровиче» г. Андреев мимоходом замечает, что черты знакомого лица кажутся новыми и интересными при зареве пожара.
То, что зарево делает с лицами, порыв кратковременного, но всезахватывающего чувства делает с душами. Они становятся «новыми и интересными».
Мы слишком привыкаем к себе. Мы страшно близоруки – физически, интеллектуально и морально.
Только то, что нас окружает, кажется нам естественным и разумным. Сколько насилия нужно нам сделать над этим рутинером – сознанием, чтобы заставить его поверить, что наши антиподы способны ходить «вверх ногами». И так везде, и так во всем!
Повторяю. Мы слишком привыкаем к себе. С детства нас приучают считать «ненормальным» все то, что выходит за пределы бюджета обывательской души.
Чтобы переоценить наши «нормальные» ценности, нужно представить их в непривычной перспективе, осветить необычным светом, измерить неожиданным масштабом. Нужно привести их на очную ставку с ценностями иного порядка. Так, великий Свифт[143] отправил своего Гулливера сперва к лилипутам, потом к великанам.
Леонид Андреев ставит наши обыденные, наши затрапезные, наши «нормальные» чувства лицом к лицу с какой-нибудь могучей эмоцией. Он освещает мерзость душевного запустения сверкающей молнией ужаса, отчаяния, отваги, вообще порыва.
Дух зловещего беспокойства врывается в размеренную жизнь богатой семьи вместе с демонической фигурой скитальца-сына («В темную даль»).
Уверенная рука смерти ложится на одного из игроков в самый интересный момент игры, и ужас просветляет на миг глаза у людей, которые в состоянии нравственного гипноза предавались винту лето и зиму, весну и осень («Большой шлем»).
Суровая тайна уносит в могилу Веру, и над домом священника, где весело щебетала канарейка, нависают угрюмые тучи молчания («Молчание»).
Молодое полуобнаженное истерзанное тело девушки опрокидывает в юном, хорошем, нежном студенте Немовецком все установившиеся понятия и чувства, отбрасывает его «по ту сторону» человеческой, простой и понятной жизни и превращает его на миг в дикого лесного самца («Бездна»).
С удивлением и испугом озирается на пройденный путь купец Кашеваров, почувствовавший над собою дыхание могилы. И чужой, незнакомой представляется ему словно во сне прожитая жизнь, и полными нового и глубокого содержания кажутся ему все старые слова: водка, жизнь, здоровье… («Жили-были»).
Восторгом любви к жизни и людям затрепетала ожесточенная душа машиниста Алексея Степановича, облагороженная столкновением со стихией-разрушительницей («На реке»).
Даже в существовании маленького чиновника Андрея Николаевича, «отсиживающегося» у своего окошка от жизни и от того страха, который идет вместе с нею, был героический момент, когда любовь взбудоражила и окрылила его подернутую тиной душу («У окна»). Мимоходом заметим, что повесть эта, самая ранняя из помещенных в сборнике, написана с мастерством, наводящим на мысль, что автор овладел секретом творца «Шинели».
Указанный художественный прием, представляющий основную черту теперешней творческой индивидуальности Леонида Андреева, не исчерпывает, однако, всего художественного материала, вошедшего в сборник его рассказов.
У него есть «Набат», семь превосходных страничек в духе тонкого «импрессионизма»; автор передает на них только настроение, то ужасное настроение, которое создается нашими летними пожарами, когда свирепый огонь-пожиратель гонит впереди себя таинственные угрюмые слухи о темных поджигателях и безнадежно вопит медным языком набата. Каким прекрасным эпиграфом к этому очерку могла бы служить часть известной поэмы Эдгара По о колоколах.
Вот несколько строк в красивом переводе г. Бальмонта.
"Слышишь воющий набат,
Точно стонет медный ад!
Эти звуки, дикой муки, сказку ужасов твердят,
Точно молят им помочь.
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи.
Каждый звук
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг,
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться, и кричать, кричать, кричать"…
Есть у Леонида Андреева рассказ «Ангелочек», трогательная повесть о неясном, но лучезарном идеале, на миг озарившем жизнь чахоточного неудачника-отца и озлобленного мальчика-сына… Увы! идеал, имевший форму ангелочка, был сделан из воска и, повешенный на нитке у печи, ночью растаял. Прекрасная иллюзия превратилась в жалкий, бесформенный слиток…
Есть небольшой рассказ «В подвале» – талантливая вариация на неоригинальную тему: ребенок, шестидневный малютка, вносит своим неожиданным появлением улыбку радости и смутного, но чарующего призыва в души подвальных обитателей: вора, проститутки и одиноко умирающего, затравленного жизнью человека.
Есть у него «Смех», – более анекдот, чем рассказ; «Валя», – скорбная история мальчика, который от одной мамы перешел по решению суда к другой; «Петька на даче», – несколько страниц, написанных чеховскими красками; «Ложь», – под влиянием, или, точнее, под гнетом Эдг. По{113}. Все это мы обойдем, чтобы остановиться на странном произведении «Стена».
Она стояла непоколебимо, эта безжалостная, глухая к людским страданиям стена. Тщетно пытались двое прокаженных (проказой бессилия) разбить ее ударом своих грудей… Тщетно призывает один из них толпу: голос его гнусав, дыханье смрадно, и никто не хочет слушать прокаженного.