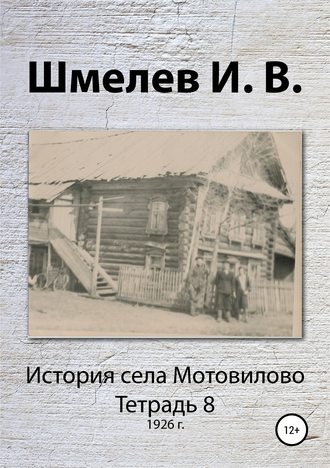
Иван Васильевич Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 8 (1926 г.)
Разлив Сережи. Дичь. Охотники и Ершов
Отгремели бурливые потоки талой воды, схлынула вода с полей и из сел. Собрались со всей окрестности воды к реке Серёже и разлилась река во всю ширь. Вода, утихомирившись, затопила все пространство, создав угрозу зверям и благоприятную стихию для дичи. Открылась пора для охоты – время бесшабашной потехи для охотников.
В Вербное воскресенье, 25 марта, мотовиловские охотники без всякого уговору, поодиночке пришли к реке Серёже поохотиться. Весна неудержимо стала царствовать над всей живой природой. Необозримая водная гладь с видневшимися кое-где сухими пуповинами, представляла из себя обширное раздолье, неописуемую красоту. Над всей над этой благодатью с весенним азартом спаривания, стайками, парами и в одиночку пролетало много дичи. Утки, кулики, бекасы, вольдшнепы и причудливо кувыркающие при полёте, со своим надоедливым скрипучим криком, – пигалицы. Тут для охотников безграничная, сладостная стихия для забавы, потехи и девственной лафы.
В этот день, припозднившись, сюда поохотиться пришёл и Николай Ершов. Он явился сюда обутый в лаптях и без собаки.
«Болотистых сапогов у меня нет, а такие, если в воду полезешь – так и так захлебнёшь, а в лапотках-то полегче на ходу и сподручнее, когда приходится бежать вприпрыжку», – рассуждал он сам с собой. А в части сыри, так он поверх портянок натянул на ноги непромокаемые кожаные бахилы. К реке Николай подошёл с опозданием, там уже вовсю шла ружейная пальба.
Тут уже, к этому времени, добыл со своей собакой Димкой двух уток Сергей Лабин. Яков Лобанов носился по воде, догоняя и доставая подраненную утку. Федька Лушин, в болотистых сапогах, забредши далеко от берега болота, чего-то найдя на обсохшей кочке, долго разглядывая, шевырялся в ней. Тут же, как водится среди охотников, был и Николай Смирнов со своей собакой Пиратом. Служивши лесником и проживая на кордоне «Жданчиха», сюда он пробирался по сухим боровым дорогам, а через реку перешёл по железнодорожному мосту. Не долго думая, Николай Ершов сходу, сразу же включился в азарт охоты, он перво-наперво подстрелил пигалицу, которая недружелюбно встретила его, когда он только что подходил к Моховому болоту. Она закомуристо кувыркаясь в воздухе, принялась летать над его головой, пронзительно пискляво кричала и норовила долбануть его в картуз. Николай не выдержав такой наглости выстрелил, и пичуга упала в его ногам бездыханной. Он, взяв ее в руки, стал с интересом рассматривать. Тело пигалицы было еще тёплое, головка с причудливым хохолком и с призакрытыми глазками мертвенно пообвисла, из клюва сочилась кровь.
Николай подоткнув первую добычу за пояс, ближе подошёл к охотникам:
– С праздником вас! – поприветствовал он Сергея. – Ну как дела, как охота?
– Не охота, а лафа. Присоединяйся! – ответил Сергей, пристально вглядываясь через бинокль вдаль.
– Ты, никак, уже с добычей? – спросил Николай видя у Сергея двух заткнутых под ремень уток.
– Да вот, парочку сшиб, а они упали в воду, Димка достала, – с товарищеским достоинством проговорил Сергей.
– Никак и ты тоже с трофеем? – спросил Сергей у Николая.
– Да вон, проказница пигалка пищит и пищит над самым ухом, пришлось пальнуть, не пожалея заряда смазать! – с улыбкой ответил Николай.
– А ты что, Николай Сергеич в лаптях, ведь промочишь? – заметил Сергей.
– Не промочу, я в бахилах.
Между тем, Сергей через бинокль заметил, от железного моста по направлению к болоту, летела небольшая стайка уток.
– Кажется, сюда направились, – проговорил Сергей, кладя бинокль в карман и беря свою двустволку наизготовку.
– Эт, и мне надо приготовиться, чтоб пальнуть, – проговорил Николай, прикладывая ложу ружья к плечу.
Подлетевшую стайку уток охотники встретили разнобойной пальбой. Первый выстрелил Смирнов, встретив стайку около лесного урочища «Шубино». Николай с Сергеем отсюда видели, как смертельно подраненная Смирновым утка спирально стала снижаться и с всплеском рухнула в воду. За ней бросилась собака Пират. Потом в стайку выстрелил Федька, а потом черед настал и за Ершовым с Лабиным. Всполошенные утки, как по заказу ошалело летели прямо на них. Два выстрела Николая и Сергея, почти одновременно, третий последовал тут же – Сергей вдогонку, в улет стайке, выстрелил из второго ствола. Метким выстрелом, Николай Ершов сбил здоровенного селезня, первым выстрелом Сергей промахнулся. Зато, дробь второго догнала и подбила в сером оперении утку.
– Вот как надо стрелять-то! – захлёбываясь от восторга и приступа охотничьего азарта, самодовольно улыбаясь с сияющими глазами проговорил Ершов, подбирая еще трепыхавшегося в конвульсиях и безжизненно шевелящего крыльями селезня.
Хваля себя Николай, с похвалой сказал и в адрес Сергея,
– Да и ты мастак, в отлёт-то вон как удачно бабахнул.
В воздухе, над обширной водной гладью, то и дело пролетали утки и кулики, навязчиво кричали пигалицы, махая своими мощными округлыми крыльями, они издавали в полете, какой-то своеобразный тонкий скрипящее-свистящий звук.
К двум часам дня изморенные ходьбой и утомлённые по-летнему палящем солнцем, уставшие охотники собрались на привал. Место для отдыха они выбрали на сухой прошлогодней траве, на возвышенном берегу мохового болота, вблизи леса. Трофеи клали почти в одну кучу. Сергей на траву положил три убитых утки, к ним присовокупил Ершов свою пигалицу и селезня, Лобанов Яков две утки, Федька Лушин тоже две. После всех к стойлу пришёл Николай Смирнов. За ним устало плёлся Пират. Николай, отцепив от пояса трех убитых уток, виртуозно, как жонглер бросил их в общую кучу.
– Вот и мои, – громогласно объяснил Смирнов товарищам.
– Получилась целая горка трофеев. А где у меня Димка? – спохватился Сергей, видя, как Николаев Пират по-своему, по-собачьи усаживается отдыхать, заняв место немного поодаль от людей. Сергей, приложив к глазам бинокль, стал всматриваться в водную гладь, стараясь обнаружить там свою собаку.
Меж тем, Сергеева Димка, разнюхав притаившуюся около кочки среди болота подраненную утку, вплавь гнала её к стану охотников. Обеспокоенная собачим гоном, завидя, что собака гонит её на людей, собрав все свои последние силы, утка бросилась вбок, бурно зашлёпав крыльями по воде гоня белесую волну. Завидя это, Сергей вскинул было ружье, но Смирнов остановил его:
– Не надо, собаки её и без выстрела настигнут. А ну-ка Пират: взять!
Собака с места бросилась вскачь. Пират, бултыхнувшись в воду поплыл утке наперерез. Две собаки, преследуя измученную утку, вконец загнали и одолев её сопротивление в борьбе за жизнь, но подняться на крыло и улететь она уже не могла. Собаки настигли её и Димка, радостно скуля ухватила утку своей пастью. Выплыв из воды, Димка победоносно подошла к хозяину, выдала ему задушенную утку – столь трудную для неё добычу, в руки хозяину. Утка последний раз трепыхнулась. Димка устало стала отряхиваться, сбивая с себя впитавшуюся воду.
– Фу, чёрт! Отойди в сторонку, отряхиваться-то, всего забрызгала, – с недовольством обрушился на Димку Ершов за то, что она непредусмотрительно обрызгала его.
– Николай Сергеич, ну-ка принеси дровец, мы костёр разведем, пообсушимся, – устало присаживаясь на кочку прошлогодней пожухлой травы, попросил Ершова Смирнов.
– Я и так своими лаптями, сегодня, вёрст шесть отмерил, тоже устал, а за дровами сходить – помоложе меня здесь найдутся и зачем тебе костёр, если ты обмок – сушись на солнышке, – высказал свое недовольство Ершов перед Смирновым.
– Николай Сергеич, а ты что на охоту-то в лаптях пришёл? – спросил Ершова Лобанов Яков, – ведь в случае, в лаптях-то в воду не полезешь, промочишь, – добавил Яков.
– Я хоть и в лаптях, но непромокаемых бахилах. Я в поход-то всегда в лапти обуваюсь, в них на ходу мягко и ноге вольготно. А на случай пожара, я кожаные сапоги-дрюпанцы имею, с широченными голенищами. В случае набата, я в них прямо с печи ногами попадаю, – полушутливо высказался перед товарищами по охоте Ершов.
– Ноги что-то стосковались, промочил. Пить подходил к воде. Эх, разуться что-ли, – проговорил Ершов, развязывая узлы на лапотных веревках.
– Николай Сергеич! А я, от Ивана Пупилина, слышал, что ты, восейка, чуть не утонул в Осиновке? – как-бы между прочим, спросил Ершова Федька Лушин.
– Да, было дело! Сегодня бы, как раз, девять дён по мне бы поминки справляли. Взбузыкался я тогда поехать в Арзамас, втемяшилось мне в голову и загрезилось своими глазами о наводнении в городе убедиться. А вдобавок, баба хвощу купить для мытья избы наказала. Вот я и пыхнул на станцию, на поезд. Дошёл до Осиновки, а она из берегов вышла, вода помимо моста так и хлещет. Я подумав, решил плыть была не была, да и пустился вброд, а был в тех самых кожаных сапогах. Не дойдя шагов десять до мосту, меня бурным течением смыло. Я и поплыл… Ну, братцы, перед вами, как перед друзьями сознаюсь, что перепугался я тогда до-смерти. Ладно, меня случайно поднесло течением к бугорку насыпи, за который я и зацепился, а то плыть бы мне до самой Серёжи! Всунули бы меня волны под лёд, и записывай новоприставленного Николая в поминания. Я тогда про город-то мысль из головы долой. Куда я, весь мокрющий-то поеду. Кое-как преодолел эту водную преграду назад и впритруску тигяля домой. Стал дома переодеваться во все сухое, а в подштанниках-то, честно признаться, была не только мокрота, ни была и густота, а средь избы из сапогов целая лужа грязной воды натекла. Эх, и досталось мне тогда от своей Ефросиньи. Отругала она меня тогда и обозвала: «чем псы не лакают»!
– Ну, как мужики, по-моему, у нас сегодня охота-то удачна! Вон сколько мы с вами уток-то нащёлкали, целую гору! – с довольным видом и самодовольно улыбаясь, сказал Сергей.
– Ведь и нас немало, вон какая шатия собралась: десять стволов да две собаки – это сила! – с восторгом, и с явным самовосхвалением высказался и Николай Ершов.
– Николай Сергеич, как я вижу, у тебя не так уж густо, в отношении добычи-то. Всего один селезень да пигалица, – с явной подковыркой спросил Ершова Лобанов.
– А куда, много-то, сейчас утятину есть все равно грех, ведь до Пасхи еще целая неделя, сегодня в церквах-то поется: «Прежде шести дней бытия Пасхи!». Так, что они до разговенья-то протухнут, разве только в погреб, на лёд положить. А пигалку-то я бабе велю завтра сварить – кошку пигалятиной попотчиваю, – оправдывая свой не так уж богатый успех в сегодняшней охоте, проговорил Николай.
– А я вот, вдобавок к своим двум уткам, еще белых с пестринками пигалиных яиц на кочке подобрал, – добавил Николай, вынимая яйца из карманов.
– Тоже трофей, давайте их сварим, – предложил Яков.
– А кто видавал совиные яйца? Мне однажды пришлось их обнаружить в гнездах под гнилой корягой. Шесть штук, кругленькие, как белые шарики, – высказался Смирнов.
– А мне, однажды, счастливо довелось в зарослях кустарника отыскать соловьиное гнездо с яйцами, – заметил Сергей, – так вы знаете, какие соловьиные яички, коричневые, как шоколад. Я соловья-то и самого-то видел, ну, он видом своим напоминает крупного воробья, только у соловья глаза большие да клюв помощнее. Я подкрался к нему, когда он сидел совсем близко на кустике и пел. Через бинокль на него насмотрелся и его пением насладился, – добавил Сергей.
– А я, где-то в журналах прочитал, в Австралии, кажется, есть такая странная сама собой птица, которая птица, а летать не может, потому, что у нее крыльев нет, и называется она Киви, – высказал свое охотническое понятие в птицах Лобанов.
– Вот Николай Сергеич, посылал я тебя за дровами, чтоб костёр разжечь, а без костра и прикурить не от чего, – с упреком выговорил Смирнов Ершову, всовывая себе в рот папироску марки «Трезвон».
Ершов, вынув из кармана спичечный коробок, потряс ими, определяя есть ли спички, услужливо предложил Смирнову:
– На тёзк, прикуривай!
Смирнов прикурил.
– Да бишь, Николай Сергеич, вы с Митькой-то помирились? – спросил Ершова Федька Лушин.
– Помирились! Прошло больше году, как мы с ним «мировую» полбутылки самогонки выпили.
– А давнишние мы с ним были враги, пора и помириться. А какое дело-то: мы с ним эту полбутылки пили не только как «мировую», но и как магарыч. Привязался он однажды ко мне – продай, да продай мне свое ружье. Так и уговорил меня с ним сменяться ружьями. Он мне тогда в придачу собаку Бобика придал. Было у меня в ту пору допотопное двуствольное 12-го калибру шомпольное ружье, с кривоватыми стволами, с учетом стрелять из него из-за дерева по медведям. Митька от кого-то распознал об этом и привязался ко мне:
– Где, грит, ты раздобыл эту штуковину? И стал тямжить: сменяй, да сменяй мне ружье. Я и согласился на обмен. Его ружье «берданка», мое «шомполка», его 20-го калибру, мое 12-го, он в лавке купил, а я не касаясь кошелька его с рук приобрел, его на 25 шагов бьет, мое на 40, его шкурку на белке рвет, мое только слегка поцарапает. Мне тогда еще собака позарез спонадобилась, вот я и пошёл с Митькой на эту сделку. Собака оказалась «Во!» – с торжеством показал Николай свой оттопыренный большой палец на руке. А то ружье мне и сейчас жалко. Уж больно кучно дробь в цель клало. А если из него вверх пальнуть, то вся дробь обратно в ствол попадает.
– Это, уж ты совсем через шлею загнул, – одернув, уличил его Сергей.
– Я, конечно, не утверждаю, что вся дробь в ствол попадает, а одна дробинка, все же я думаю, туда угодит. Да это факт, а не реклама. Был со мной случай, однажды стрелял я из него по белке, так дробинки две, сверху пробарабанили мне по голове. Ладно я тогда в шапке был, а то бы можно черепок продырявить. Одним словом, золото было, а не ружье, и что особо характерно, оно зверю прямо в глаз било. Нет, уже видно, мне такого ружья не видывать, – сокрушался Николай, жалея свой шедевр.
– А что? – спросил его Лобанов,
– Больно оно надёжно во время охоты было, хотя и шомпольное, но кривизна стволов, иногда выручала. С ним, бывало медведь не медведь – сразу наповал валило. И если бы, довелось мне, то ружье снова заполучить в свой дом, я бы за него без всякого размышления полкоровы отвалил!
– А мне, вот, например, ту штуковину за так не надо! – урезонивал пыл хвастовства и разглагольствования Ершова, проговорил Смирнов.
– Тебе не надо, а вот мне оно на охоте было дороже своего глаза, – снова с выхвалкой произнёс Ершов.
Обозрев вокруг сидящих и взглядом определяя, что все готовы к слушанию, Ершов снова начал свое, почти бесконечное, повествование о происшествиях, в которых ему, самому приходилось попадать в опасные переплёты, и из которых он всегда выходил невредимым. Слушая его россказни, его товарищи-охотники уморенные ходьбой и азартом преследования дичи, устало растянувшись веером, расположившись на жухлой сухой прошлогодней траве, истомно млея, полудремали. Слушали Ершова, не мешая ему. Каждый про себя думал: «пусть врёт себе на здоровье!». Только Николай Смирнов, по натуре своей не любящий вранья, нет, нет, да метким словцом, обличив, одернет своего тёзку.
А Ершов снова продолжал:
– Любил я в молодости на охоту ходить в одиночку, никто мне не мешает, и я никому на пятки не наступаю. Ни на кого, в случае опасности, не надеялся, своя силёнка и ловкость была. Так вот, пошёл я однажды со своей кормилицей берданкой на охоту в лес. Собаку я редко, когда брал с собой, она только дичь пугает. Только вошёл в «Лашкины грядки» гляжу: перебегает мне дорогу заяц. Я, конечно, ружье с плеч долой, прицелился, бабах по нему и в сумку. Только вышел к Серёже, смотрю и вижу, на дороге притаилась лиса и хвостиком поигрывает, пыль придорожную подметает. Ах, думаю, каналья, я вот сейчас тебя плутовку попугаю и хлоп в нее и в сумку. Дохожу до водяной мельницы: откуда ни возьмись на меня обрушился здоровенный волк, зубами на меня щелкает. Я, слова не говоря, ложу к плечу, да как урежу ему картечью прямо в лоб и в сумку. Иду дальше. Не дойдя до «Васькинова поля», вижу, а из чащобы с треском на меня медведь ломится. Устробучил глазищи на меня и готовится к нападению. Я, конечно, спервоначалу испугался и струсил, аж сердце ёкнуло. Чую, в овтоке у меня что-то засырело. Немножко остепенившись, думаю: «Трусом быть – в лес не ходить. Была – не была». Перед тем, как патрон вложить в стволину, я, перекрестившись поцеловал его и думаю: «Ну, милый, не подведи». А в этот-то патрон-то я шарик от подшипника предусмотрительно зарядил. Ну, я конечно, ружье на изготовку, а медведя взял на мушку и вполголоса говорю ему: «Вот я сичас с тобой на охотничьем языке поговорю!», и пальцем дёрг за курок, щёлк, а выстрела не слышу, осечка. Ну, братцы, и перепугался же я тогда, ни на жизнь, а на смерть приготовился. Чую, картуз с головы свалиться хочет, волосы дыбом встали. Я – да бежку! Бегу, да оглядываюсь. В завершение всех неприятностей, гляжу темнеть стало, вечер, ночь настигает, а я только что Жданчиху миновал, бегу бегом, лаптями дорогу обмеряю. Хоть и с ружьем, а одному да в сумерках, в лесу-то жутковато! Домой тогда я прибежал без языка. Огонь в избах зажгли. Баба спросила: «Ково ты так перепугался?», – «На медведя напоролся!»
– Дядя Николай, а как же с сумкой-то, с добычей в ней? Ты же говорил, что убил зайца, лису, волка и все эти трофеи в сумку потискал, она, чай, тяжёлой стала, – выждав время, поинтересовался Федька Лушин.
– Эх, Федька, Федька, гляжу я на тебя, будто ты и парень-то не промах, а не – отстрелянные пустые гильзы, и сумка-то от этого наоборот все легче и легче становилась, да и вовсе не сумка, по нашему охотничьему – патронташ. Удостоив Федьку ответом разъяснил ему Ершов.
– А ещё я вам расскажу, как мы с одним моим другом, напрештова, пошли на охоту в лес. Весь день пролазили по лесу и все бестолку. Как на грех, никакой птицы, никакого зверя не встретили, как все в лесу вымерло.
– Птицы и звери охотника на большом расстоянии чуют, – заметил Ершову Лобанов Яков.
– Это, возможно, и так. Одним словом, мы чуть не до вечера прошлялись с ним тогда и не за бабочку, – продолжал Ершов, – А забрели, видимо, в такую даль, я даже ориентировку потерял. Гляжу, словно и лес-то не наш, и лес не лес, а ёлки-палки. Идем мы с ним и переглядываемся: «Знать далеконько мы с тобой забрели». Из редколесья мы вскоре угодили в такую даль, куда я редко, когда хаживал. Из редколесья, мы вскоре угодили в такую глушь-чащобу, что едва оттуда выбрались. Хотя и вдвоем, а жутковато. Слышим, а где-то в стороне ручеек журчит, мы да к нему. Подошли, а вода в ручейке, так и бежит, так и клокочет. «Это, – говорит друг мой, – Рамзай». Рамзай, так Рамзай, давай напьёмся. Напились и вздумалось нам на другом берегу этого ручейка побывать. А он все же небольшой ручеек, а широкий, даже с разбегу не перепрыгнешь. Друг-то в сапогах обутый, а я в лаптях, как обычно. «Садись, грит, мне на спину, я тебя на корточках, горшком, через воду-то перетащу». Перетащил он меня, и мы снова по лесу шлёндаем. Зверя-то ищем, а вышло, он нас подстерегал. Померещилось нам, да мы своим охотничьим нюхом по-собачьи зачуяли, где-то, вроде кто-то вроде медведя по валежнику шебуршит. Вскоре, действительно на медвежий след наткнулись. «Теперь по горячим следам его спокойно его отыскать можно», – переговариваемся мы. Ходим, прислушиваемся, принюхиваемся, на цыпочках крадемся. А выходит, мы все около того же Рамзея колесим. Изморились, я и говорю своему друг: «Давай, Гришк, спервоначалу еще раз напьёмся и примемся за поиски. – Давай», говорит он. Мы ружья приставили к сосне, припали к воде и пьем, а он тут как тут. Подступил совсем близко и на нас окрысился. Мы оба перепугались до полусмерти. Я прыг к ружью и на прицел. А Гришка с перепугу хриплым голосом выкрикнул мне: «Погоди дядь Николай, не стреляй, не пугай, не раздражнивай, мы его, может, живьем возьмём – лаптем придавим. Видишь, – грит, – он какой-то курпаный, как-то не смело ходит – сам не свой». Сказал это Гришка-то мне, а сам к нему сзади с топором (он у него за поясом был заткнут), крадется, изловчился, да как ахнет ему по боклану обухом. Медведь взвыл, повалился на землю и гачи кверху вздёрнул, а он оказался в капкане. Подошли мы к нему, видим, а задняя его нога капканом зажата и вся-то измочалена. Сколько времени он таскался по лесу с этим капканом, никто не знает, только кабы не этот капкан, нам бы с Гришкой карачун тут пришёл.
– Ну, ты Николай Сергеич в этом рассказе через дугу загнул! – заметил Ершову Сергей.
– Он не только через дугу, и через оглоблю заворотил! – не сдержавшись, подметил и Смирнов.
– Как хотите, хотите верьте, хотите нет, мое дело говорить, а ваше слушать, – невозмутимо ответил Ершов.
О чем бы не разговаривали, беседуя, мужики, а под исход беседы свернут разговор о бабах.
– А пахать-то выехали что-ли? – не обращаясь ни к кому спросил Федька Лушин не знающий и не понимающий ничего в сельском хозяйстве.
– Еще на прошедшей вербной недели выехали. Я то в день Егория Победоносца 10-го (1 апреля по-старому – Ленивая соха), свою усадьбу спахал, – известил Ершов своих товарищей по охоте, из которых лошадник только он.
– Ну как пашня? – спросил его Сергей.
– Еще сыровата, а завтра, я в поле на посев поеду.
– Тебе на сколько едоков землю-то обрабатывать придётся в этот раз? – полюбопытствовал у него тот-же Сергей.
– Своих, с тятькиными, десять, да на два едока у Дуньки Захаровой нанялся.
– Разве ты у нее подрядился уборку-то убирать? – с какой-то заинтересованностью и скрываемой ревностью спросил Смирнов.
– Конечно я, а кто кроме меня из-за двух едоков связываться будет. Ведь это дело склочное, а на два едока не совсем добыточное.
Ершов начал новый рассказ:
– Иду я, как-то посреди поста, по улице, попадается мне навстречу Дунька и говорит: «Здравствуй Николай Сергеевич. – Добрый день, отвечаю я ей. – Ты, грит, случайно, не возьмёшься у меня уборку на это лето, убирать? Посовалась, посовалась ко всем, никто не берется, из-за двух едоков никому браться не хочется. – Пожалуй!» Дал согласие я ей, а сам на уме держу свой план. Вот, думаю, где я тебя уломаю! И для формальности ее спрашиваю:
– А сколь у тебя Евдокия Ермолаевна едоков-то?
– А она, гм, как будто не знаешь: два – я да тятька.
– Ну, вот и прекрасно говорю я ей: «У меня у самого шесть едоков, в семье-то я сам – шост, да тятькиных четыре едока, да вас двое. Значит в общей-то сложности выходит всяко на двенадцать едоков земли придётся нам с моим «Голиафом» вспахать за лето и обработать. Хотя моя лошадь «Голиаф», не только на 12, а и на все 20 едоков земли обработать легко может, но нам с ним и этого за глаза хватит. Глаголю я ей обо всем об этом, а сам тайно думаю «вот удобная обстановка подваливается мне подъеферится к ней для близкого знакомства». А сам глазами так и ем ее и думаю: «около этой бабы есть чем поживиться, что на харю приглядчива, что толста – в общем, есть во что, только было бы чем, –думаю, – теперь ты в моих руках».
Иду я по дороге параллельно с ней локоть в локоть и спрашиваю:
– А когда магарыч-то пить будем?
– Чай не в пост, сейчас грех. На Пасху, – отговаривается она от меня.
– Ты, Дуньк, как-бы меня не проманула, – баю я ей. – Я ведь не только землепашец, я еще и охотник, – по-молодецки подрепетировался перед ней я.
– Знаю, знаю, что ты и до нас баб большой охотник, – подбодрила словами она меня.
– Да, есть, отчасти, – отвечаю я. – Люблю я баб особенно таких икристых, как ты!
Говорю я ей эти слова, а сам чую, ровесник мой на дыбы, и самого всего неудержимая дрожь берет.
– Нет, Дуньк, если уж мы с тобой договоримся насчёт уборки, то надо как-то это дело закрепить официально и без мугрычов тут не обойтись. Я сегодня вечерком загляну к тебе.
– Приходи, грит, только не с пустыми руками. Согласилась она, видимо, одумавшись.
– Вечером, того же дня я и залился к ней с бутылкой самогонки в кармане и с мыслями в голове: «Авось и клюнет!» Пришёл я в дом к ней, и на мое счастье, отца ее дома не было. Вот, думаю, кажется на этот раз, в самый кон попал! Ну, выпили мы с ней, и я не стерпел грешным делом, не взирая на пост, пошёл на греховодное преступление, не сдержавшись разъяренно хвать ее за щекотливое место. А она, без всякого намёка на любезность меня как лягнет в бок. Я отлетел к порогу и мгновенно весь азарт пропал, охота отпала. Про себя думаю: «Вот так тебе фунт изюму!» А лягнула-то она меня с такой прилежностью и отрывистым стуком, с каким, будучи председателем совета, Кузьма Оглоблин, ставил свою печать на деловые бумаги. Лягнула, да и говорит мне: «Ты что же такой-сякой в пост надумал. У тебя, грит, видимо здесь-то не хватает, а тут уж не займешь! – похлопывая при этих словах себя по лбу и по заду. Я ей говорю: А ты не рыпайся и не брыкайся, как опоённый теленок, знаю, ведь ты в охоте и я в коренном прыску! А она ни в какую, виль хвостом и в чулане скрылась. Ну, думаю, попадёшься ты мне где-нибудь в узком месте, сустигну я тебя, тогда ты от меня не вырвешься, я с тебя с живой не слезу! Я не таких обламывал! И отшвырнув в голове эту мысль в сторону, отложив дело до Пасхи. Стал собираться домой, да в растерянности вместо соей шапки, рукой ухватился за кошку, которая преспокойненько спала на лавке свернувшись клубочком так, что точь-в-точь моя шапка и по величине, и по цвету шкурки. А шапка-то моя оказалась на гвозде, я цап ее, и на выход задал тягу. Иду домой и думаю: вместо «орла», получилась «решка».
– Эх, ты, чучело гороховое, – ревностно обозвал Ершова Смирнов. – Она, по-моему, тебе понюхать не разрешит, а ни только что! – добавил Смирнов.
А дело то в том, что Смирнов, частенько сам заглядывал к Дуньке, покупал у нее самогон и имел с ней самые тесные связи, потому-то, пока Ершов хвастался, глагольствовал о своем желании склонить Дуньку к любовным взаимоотношениям, Смирнов терпеливо ждал, не перебивал Ершова во время его рассказа, а ждал, чем этот рассказ кончится. Смирнов внутренне возненавидев Ершова стал всячески стараться, как бы его опозорить перед людьми, изысканно обозвать, и укротить его ярый пыл, и будучи человеком на все увертливым, искал момента, как бы подтрунить, подыграть над простачком и наивным Ершовым. Изощрённо обзывая Ершова, Смирнов доводил своего тёзку, до полного исступления и позора, с оскорблением его человеческого достоинства. Люди, конечно, поощряя находчивость в виртуозном словоизлиянии Смирнова, душевно смеялись, а Ершов терпеливо сносил на себе порочащие слова Смирнова, иногда добродушно улыбаясь.
– Куда уж тебе со своим кувшинным рылом к Дуньке соваться, да у тебя на харе-то, черти горох молотили, что-ли? – продолжая издевательски обзывать Ершова и с новой силой обрушился на него Смирнов, высказывая этим жгучую ревность за Дуньку и уничтожающую ненависть к Ершову. А Ершов, не зная и не подозревая связей Смирнова с Дунькой, как бы дразня его и разжигая в нем пышущую ревность, продолжая разговор о своем неукротимом желании овладеть Дунькой, продолжал свое изречение:
– Лучше бесплатно её землю все лето пропашу, а своего добьюсь, – горделиво высказался Ершов.
– А, по-моему, это, будет одна проволочка, – с сомнением заметил Сергей.
– Проманежит она тебя, – и в адрес Ершова пустил насмешливую насмешку: «Понапрасну Колька ходишь, понапрасну лапти бьешь, ничего ты не получишь, в дураках домой пойдёшь!»
– Ну, это еще посмотрим «сказал слепой», – отпарировал на это Ершов.
– Эх ты, куль с головой! – снова напал на Ершова Смирнов.
– И откуда, у тебя Николай Сергеич, на баб, такая ярь берется? – спросил Ершова Лобанов.
– А вы рази не знаете?
– Нет, не знаем, скажи! – вступил в разговор и Федька Лушин.
– Эх, ребята, ребята, как будто вы маленькие, как и не со взрослыми за столом-то обедаете. Я по целому десятку сырых яиц выпиваю, да овсяную кашу ем.
– А сколько в твоем хозяйстве кур-то? – полюбопытствовал Сергей.
– С дюжину имеется! – невозмутимо соврал Ершов. На самом же деле, во дворе у Ершовых живут всего три захудалых курицы и те престарелые, да ободранный без хвоста петух.
– Эх, ты, наверное, и врать горазд! Нас всех обхитрить хочешь, – заметил ему Сергей, зная правду о его захудалом хозяйстве.
– За вранье стараются получить что-то, а я с вас плату не взимаю, значит, говорю правду! – шутливо отговорился Ершов.
– Все равно хитришь. – вставил Смирнов.
– Я думаю, ты тёзк, на меня не обижаешься, ведь мы с тобой оба Николая, оба заядлые охотники, да видать, ты ещё, как и я, бабник несусветный. Так давай вместе спаримся в этом деле и будем вдвоем к бабам-вдовам похаживать. Заведём себе сударушек и будем по-тихому к ним похаживать. Лафа! – простодушно предложил Ершов Смирнову.
– Что ты сказал? Нужен ты мне как в сенокос вареник! Да ты знаешь, я с тобой на одном поле не сяду! С тобой разве можно секреты держать, ты сразу хвалебно все выболтаешь. На это Ершов притворно всплеснул руками и удивленно присвистнув, протянул:
– Да, ну!
– Вот тебе и «Ну», на хрену кокурки гну! Ты не так свистишь. Надо, два пальца в рот, третий в зад и свистеть! – скороговоркой, как палкой по забору, пробарабанил Смирнов. На что Ершов причудливо трумкнув губами, забывчиво высунув кончик языка.
– Что язык-то вывалил, или новый купил? – заметив и это, уличил его Смирнов.
– Ты, Николай Федорович, я гляжу, больно возгордился, возомнил о себе «кто я!», богатым стал, ни с кем знаться не хочешь! – стараясь к примирению, заметил Ершов Смирнову.
– С тобой, что ли знаться-то! Я, с такими, кто по-банному крытый, действительно знаться не хочу. Ты пока собираешься слово сказать, и разиня рот, протяжно выкаешь, ртом ловишь воздух, как рыба вялый карась на берегу. А врать! Тебя только слушай! Эх ты, дупло осиновое, прясло, седло коровье! – наделял непристойными словами Смирнов Ершова. На что Ершов особенно не обижался, а только наивно улыбался.
– Что ты скалишься! Да и вообще-то, ты Ершов, как ни хвались, как не выставляй из себя, мне сдается, что тебя делали на бабу. И фигура у тебя похожа на бабью, и походка у тебя бабья, видно хотели сделать бабу, а получился неудачный мужик!
Оскорблённый и огорошенный такими позорными словами, Ершов опешил, он в некоторой растерянности приумолк, незаметно для себя повысунул язык, глазами притуплено устремился вдаль, едва слышно произносил: «вали, вали, – тебе идёт!». Губы его едва шевелились, звуки были едва слышны. Он был до глубины души оскорблен, его человеческое достоинство незаслуженно унижено перед сидящими здесь людьми.
– А ты не будь бабьей-то прорехой, не шепчи, а говори громче. Пошарь во лбу-то, не спишь ли! – не отставая наседал на него Смирнов.
Обиженный Ершов, сидел млея, не шевелясь и не шелохнувшись, видимо он в уме, что-то тайно мыслил и придумывал, чем бы возразить Смирнову, и он надумав, сказал:







