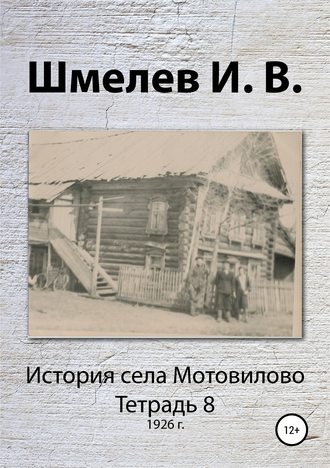
Иван Васильевич Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 8 (1926 г.)
Слухи о войне. Пост. Осип за хлебом в город
Не дают русскому народу пожить спокойно. Без тревог не прошло и четырех годов с тех пор, как закончилась гражданская война, а уж снова люди стали поговаривать о войне, якобы на сей раз готовящейся на нас Англией. Хотя и небольшой части мотовиловцев приходится читать газеты и узнавать из них новости государственного значения, но тем не менее, до рядового жителя села доходят слухи из Москвы, что некий английский премьер-министр Чемберлен, готовится с войной на Россию.
Пришла как-то к Савельевым Анна Крестьянинова за ситом и оповестив шабров о некоторых сельских новостях, слышанных от Анны Гуляевой, она как-бы между прочим, объявила и о слухах о войне.
Жеманно прищуриваясь, она изрекла свои суждения об этом:
– К весне-то, как бы война не собралась.
– А с кем воевать-то в случае, придётся нам? – без особенной тревоги спросил ее Василий Ефимович.
– Наш Олешка, где-то понаслышался, английский царь Чемберлен какой-то, со своими танками на нас больно зубы грызет, – почерпнув новости из рассказа своего сына Алешки, как из достоверного источника, ответила Анна.
– А войны-то все-же не будет! – сунулся в разговор старших авторитетно заявил Санька.
– А ты почём знаешь? – спросила Анна.
Санька, не долго думая, извлек из подстолья газету «Молодая рать», (которую он с журналом «Лапоть» выписал из Москвы), и всем показал рисунок на первой странице газеты:
– Вот поглядите, нарисованы весы. На одной чашке весов Чемберленов танк, с надписью «Война», а на другую чашку наш красноармеец жмет прикладом винтовки с надписью «Мир», и видите, что «Мир» «Войну» перетянул, – так наглядно и убедительно разъяснил Санька.
– Дэт бы не плохо, с явным успокоением проговорила Анна, а все равно бают, в городе хлеб вздорожал, значит, что-то народ-то тревожит, – сообщила еще об одной новости Анна.
Слушок о войне и о том, что в Арзамасе на базаре хлеб заметно подорожал, дошёл и до ушей Осипа Батманова. Он, посоветовавшись со своей Стефанидой, решил попросить у Савельева лошади, чтобы съездить в город на базар и подкупить для своей семьи хлеба. Поехать он решил в пятницу, на второй неделе поста. Накануне под вечер, Осип пришёл к Савельеву и объявил свою просьбу.
– Василий Ефимыч, одолжи мне на завтра лошадь. Я в город за хлебом решил съездить.
– А что это тебе так приспичило в такую-то непогодь ехать-то? Она вон какая метет, свету вольного не видать! Чай будет время-то! – пытаясь отговорить Осипа, не ехать в пургу, которая заметно забушевала под этот вечер.
– Она может к утру-то перестанет. Я сюда пошёл, наш петух распелся, значит к перемене, пурга за ночь-то затихнет, – не отступая от своего намерения, высказался Осип.
– А ты знаешь, что по лесным-то дорогам лихие люди шалят! Ты не боишься? Обидеть могут, – бросив последний козырь, стараясь остановить Осипа, предупредительно проговорил Василий.
– Что будет! Мне ни чать, ни кончать, не глядя ни на что, ехать надо! Завтра пятница, базар. Откладывать – как бы хлеб-то еще больше не вздорожал! – убедительно высказывал свои доводы Осип.
Савельев, из-за сродства, и не забывая о коже, Осипом отданной ему задарма, иногда давал Осипу безвозмездно свою лошадь для разных поездок по хозяйственным нуждам. Так и на этот раз он не отказал Осипу, благо Серый, за десять дней после гонок на масленице, отдохнул и заметно поправился боками.
– А там, в городе-то, в случае, ты сумеешь сам-то запрячь лошадь-то? – для достоверности спросил Василий Осипа, запрягая Серого ранним утром следующего дня.
– Ну, вот еще спрашиваешь, словно я не в селе вырос! Чай ты знаешь, у меня и своя лошадь была! – обидчиво заметил Осип, бочком намекая о лошадиной коже, которую подарствовал Василию, после гибели своей лошади на мосту.
Часа в четыре утра, Осип выехал из села, а в семь уже прогуливался по Арзамасскому базару, присматриваясь и приценяясь к хлебу, которого было на базаре много. Осип обошёл весь хлебный базар. Он неторопливо ходил от воза к возу, заскорузлыми пальцами щупал сквозь мешков тучное ржаное зерно, спрашивал «почём стоит», и отходил к следующему возу. Осипу казалось, что рубль за пуд ржи, это дороговато, он ждал скоски и дешевления ржи к обеду, так как из-за обилия хлеба на базаре, рожь должна к обеду подешеветь. Но, тем не менее, на предыдущем базаре цена за пуд ржи была 80 копеек. Своего хлеба у Осипа хватило только до масленицы, семья хотя и не так-то больно большая, всего четыре человека, но все взрослые, едоки убористые. Сын Гришка, наработав сотню каталок сдал их Лабину. Осип получил с Лабина 18 рублей, и с этими деньгами приехал в Арзамас за хлебом. До обеда Осип так и не купил ни одного пуда ржи, а после обеда, чувствуя, что цена на хлеб не падает, он решил накупить ржи и по рублю. У одного мужика, Осип сторговал четыре мешка по 95 копеек за пуд. Поехали на весы, навешали 16 пудов. Расплатившись за рожь, Осип попросил того мужика, подвести рожь к подворью, а когда мешки были перевалены на сани осиповой подводы, день уже заметно уклонился к вечеру.
Запрягши Серого, Осип выехал с подворья и всю дорогу он, самодовольно, размышлял об удаче. До Ломовки Осип доехал засветло и благополучно. Как миновал ее, то в поле его ожидали одни неприятности. Выехав из Ломовки, Осип заметил, что совсем стемнело, наступила туманно-серая ночь. Вскоре, все кругом окутала застилающая глаза, непроглядная мгла. Сверху хлопьями полетели снежинки, в воздухе началась какая-то невообразимая, снежная кутерьма. Дорогу завалило, замело снегом. Необтыканная опознавательными еловыми кустиками, она стала совсем неприметной. Осипу показалось, что лошадь, в темноте ходом своим в направлении забирает влево, он настойчиво потянул за правую вожжу, этим сбив лошадь с правильного пути, Серый послушаясь кучера неохотно покидая твердь дороги, повернул вправо и неуверенно зашагал по целине неглубокого снежного покрова. Поругав себя за то, что понапрасну довел покупку хлеба допоздна, обеспокоенный теперь капризами пути, Осип не стал больше пользоваться вожжами, а пустил лошадь на произвол, надеясь на чутье, лошадиную память и ориентировку в темноте Серого, а сам поглубже закутался в чапан. Из-за отворотов чапана, Осип видел только заснеженный круп Серого.
Февраль воду подпустил, снежный покров в поле несколько пообтаяв понизился, в поле обнажились жнивья, а март доказывая, что зима еще не окончена, дает о себе знать: временами добавляя сверху снегу и прижимая землю запоздалыми, но значительными морозами. Так вот и сейчас, во время возвращения Осипа их города, изменчивая погода придала Осипу немало тревог и переживаний. Прошло с полчаса, пурга стихла, вокруг несколько посветлело, но Осип не видит своего села. Привстав в санях, Осип вглядываясь вдаль, старался увидеть что-либо приметное в поле, но кругом расстилалась такая зимняя, снежная равнина, кругом один снег, ни кустика, ни деревца, не за что глазу зацепиться. Вдруг лошадь забеспокоившись зафыркала, Серый тревожно застриг ушами, стараясь прибавить шагу усталыми ногами. Осип, с некоторым опасением оглянулся назад. Осип увидел и услышал: шурша ногами по оголенному жнивью, наискось пересекая санный след, торопливо бежал матёрый волк, он, видимо, возвращался с «пира» – был сыт и не помышлял напасть на лошадь. Но, Серый, чуя поблизости хищного зверя, тревожно поводил ушами, ускоренно побежал по бездорожью. Время тянулось мучительно долго. Осип стал не в шутку тревожиться, его объял страх. В завершение неприятностей, пурга снова стала усиливаться. Он с досады, незаслуженно возложил вину за напасти в пути на лошадь, непристойно обругав Серого, но вспомнив, что лошадь ни в чем не повинна, он откинув от головы воротник чапана, истово перекрестился, благоговейно проговорив молитву. Где-то в стороне, Осипу послышался колокольный звон. Осип сразу узнал родной голос большого мотовиловского колокола, но звон, как показалось Осипу, исходил сбоку, где должно находится село, а несколько сзади. Но, заслышав этот спасательный звон, у Осипа отлегло от груди, которую до этого, тревожно и больно давила и сжимало, словно на сердце лежал мельничный жернов. Повернув лошадь в обратном направлении, Осип успокоено, завернулся снова в чапан, дуя на свои окоченевшие руки. Отъехав по этому бездорожью с полверсты, Серый устало встал, уткнувшись в стену сарая. Обрадованный Осип прикрикнул на лошадь, направил Серого в село. Как только Осип въехал в село, им снова овладела оторопь и тревога – перед его взором предстали чужие дома. Тут только он понял, что попал не в свое село, а во Вторусское.
Осипова семья, обеспокоенная тем, что он до такого позднего времени не возвращается из города, не беспричинно тревожилась и каждую минуту ждала его возвращения. Но нет, и нет его. Давно наступила ночь, а он не возвращался. Гришка, сын Осипа, решил пойти к Трынку и попросить разрешения несколько раз ударить в большой колокол. Такие удары, часто спасали путников, застигнутых зимней пургой и заплутавшихся в дороге от погибели. Так и в этот раз, ударь Гришка в колокол часом раньше и Осип, не приехал бы во Второрусское и не колесил бы по снежной целине поля, с такой тревогой и опасением. Когда Гришка возвратился с колокольни домой, Осип въезжал во двор. Его встречала с фонарем Стефанида.
– Скорей въезжай! Эх, чай и назябся, и намаялся в дороге-то, – с жалостью в голосе, она кричала Осипу.
– Не только назябся, а чуть совсем не замёрз! До самых кишок достало, руки и ноги задеревенели, по спине ознобом одевает, зуб на зуб не попадает! – не без оснований жаловался Осип своей жене Стефаниде, раскарячисто шагая зазябшими ногами по ступенькам надворного крыльца, после приказа Гришке, сгрузить мешки с рожью в сени в клеть, и отвести Савельевым лошадь. Принимая от Гришки уставшую лошадь Василий Ефимович заметил:
– Отец-то, видимо, маленько запропал в дороге-то?
– Како маленько, он совсем было заплутался, я бегал на колокольню его вызванивать.
Забравшись на теплую печь и прилёгши брюхом на приятно пригревающие кирпичи, Осип отчитывался перед семьёй.
– Что так поздно приехал-то? – спросила его Стефанида.
– Я заплутался и чуть было не погиб, да дивуй бы в чужом краю, на своем поле совсем окружился. В поле пурга метет, метель несусветная, и если бы не звон, я и сейчас бы из этой бездны не выбрался бы в чужом краю.
– Тять, это я звонил. Гляжу, долго тебя нет. Ждём-пождём, а ты все не едешь, вот и пошёл к Трынку.
– Ну, за это, спасибо тебе сынок! Молодец! – похвалил Осип сына
– Сколько пудов-то купил и почём чай сторговал? – допытливо стала расспрашивать Осипа Стефанида, сидя на лавке и глядя на печь на Осипа и видя, как на его спине пригревшись примостился кот.
– Ты чай сгони со спины, кота-то! – ты устал, а он тут на тебе улёгся!
– Пусть сидит, мне от него даже теплее, брюхо кирпичи греют, а спине от кота теплее, – не думая прогонять кота, отозвался Осип.
– А сколько денег-то ты за хлеб-то отвалил? – поинтересовалась Стефанида.
– Считай по рублю, так было бы шешнадцать целковых. По пятаку с пуда долой, значит 15 рублей 20 копеек.
– А остальные-то где? – настаивала на своем Стефанида, требуя полного отчёта.
– Вот у меня в кармане: два рубля бумажками да восемь гривен мелочью. На, прибери! – вытаскивая из кармана штанов оставшиеся от покупки хлеба деньги.
Стефанида, припрятав в укромное место деньги, зашла в чулан, шумливо стала там стучать ухватами. Вытащив из печи постные щи, налила их в чашку, поставила на стол. Подав ложку и хлеб.
– Поди ужинай, – мы давно отужинали, тебя ждали, ждали, да и не вытерпели, сели и поужинали.
Осип, кряхтя слез с печи. Отогревшись, он повеселел. Помолившись богу сел за стол, принялся за ужин. Он, одиноко сидя за столом, громко схлёбывал из ложки жидковатые, приостывшие щи, упружисто жевал засохшие хлебные корки, бережливо подбирая со стола упавшие крошки, чтобы они не пропали даром, клал их в полуоткрытый рот. Спрыгнувший с печи кот, изгорбатив спину и задрав хвост, с мурлыканьем увивался под столом около осиповых ног, прося подачку. Осип, помочив хлебную корку во щах, бросив ее кошке под стол, сказал – «на, ешь!».
Парни в токарне. Фольклор и невежество
Скучноватое время великий пост – время душеспасительного говения и покаяния во грехах каждого христианина. Особенно стеснённо его переносит молодежь, парни и девки. Старики и старухи, за пост норовят поговеть дважды, на первой и на последней – Страстной неделе. Мужики заняты своими делами. Они деятельно готовятся к весеннему севу, подсортировывают семена, ремонтируют инвентарь. Побольше подбрасывают в колоду овса для лошади. Бабы с девками хлопотливо прядут, готовя пряжу для тканья холстов. Парни, целыми днями не выходя их токарен, точат и сколачивают каталки. Парням и девкам, после трудового дня и выйти некуда, как-никак, приближение весны действует на них – женихам хочется увидаться с невестами, а невеста хочется повидать женихов. Парни, по воскресеньям хоть в избу-читатлку заглянут и там газеты и журналы посмотрят, а девкам и туда заглядывать грех. Правда, в третье воскресенье поста, в Мотовилово во второй раз приехала кинопередвижка. Картина на этот раз была показана «Закройщик из Торжка». В школу, где был показан кинофильм, народу, как и в первый раз, нашло много. В обширном классе все места были заняты. Смеху было, хоть отбавляй. Приключения портного, которого играл комик Игорь Ильинский, смешили всех зрителей. Особенно дружно и весело хохотала молодежь: – Ха-ха-ха! – хохотали парни, – Хи-хи-хи – хихикали девки.
Разговору после о впечатлениях, о фильме хватало надолго. Даже Василий Ефимович Савельев побывавший на этом сеансе и посмотревший кинокартину, удивляясь говорил:
– И что за чудо это самое кино, на стене, а ходют, как живые. Люди ходят, скотина тоже ходит, поезд едет, а дома стоят. По-моему, если все двигается, то и дома должны ходить, – удивленно недоумевал он
Не минуя Мотовилова и его жителей, неумолимо течет время. В строгом чередовании дни недели меняют друг друга, перемежаясь между собою темной перегородью ночи. Понедельник сменяется вторником, вторник поджидает среда, а четверг пройдёт – неделя врозь пойдёт…
В тихой безмятежности текут недели и дни великого поста, прижимисто укрощая пыл вольности людей надоедливой постной пищей. Старики и старухи отговели на первых неделях, теперь говеют мужики и бабы, а молодежь свое говение откладывают на последние недели, на вербную и страстную.
Вечерком, в сумерки, когда в токарнях работать уже темно, а зажигать лампы еще рано, сошлись парни у Терёхиных в токарне: посумерничать, покурить, позабавляться кто во что горазд. Тут Ванька со Степкой (братья Терёхины), Санька Селиванов, Колька Кочеврягин, Гришка Трынков, Панька Крестьянинов, Федька Лабин и Санька по прозвищу «Шеверушка», не в меру вертлявый парень.
– Эх, Саньк, крепок у тебя табак-то, я курнул, так до самой прямой кишки достало!
– Будешь крепок! Он у меня на самой крайней гряде к бане рос, его дымком и паром обдавало, – расхваливал свой табак Санька.
– Ты, Гришк, на какой неделе пойдёшь говеть-то?
– На Вербной!
– А ты?
– А я вместе с девками на Страсной уговорился!
– А я слышал, за Миньку Савельева на Пасхе сватать будут.
– И я слышал, у них ещё в масленицу было всё договорено.
– Минька-то девок-невест к себе в дом в гости брал.
– Федьк! Правда, что ли, он хочет на вашей Маньке женится?
– Чай мне не жаль, вот бы скорее на свадьбе погулять! – смеясь, высказался Федька Лабин.
– Робя, а робя! Я слышал, завтра в избе-читальне будет спектакля! – буркнул Ванька Терёхин, до этого сидевший молча. Его неумелое известие вызвало подковыристый смех у всех присутствующих.
– Да вовсе не спектакль, а кино! – поправил его Федька.
– А какое? – спросил Панька.
– Да вроде «Счастливые горшки».
– Эх, в прошлый раз интересное кино-то было!
– Больно забавно, как тот портной рыбу в реке удил и чуть с лодки не утонул.
– А как он бежал, да утюг-то потерял!
– Одним словом смехотура и только.
Ребята-парни улыбались, смеялись, спорили, курили….
Всех изобретательней, в этом деле, оказался все тот-же Санька Шевирушка – белобрысый, лицо обличьем как у овцы, глаза навыкате, как у козы, не в меру развязно-вертлявый парень. Да и как ему не быть вертлявому проказнику, когда он все время живёт в безотцовщине – «на воле». В семье его никто не одергивает, никто не ущемляет, никто не укрощает. Мать его сомнительного поведения в морально-нравственном отношении. Колька, брат, с ним не связывается. Сидя здесь, в токарне, Санька взатяжку выкурил в один приём сразу две папироски. Он с особенным искусством выпускал дым изо рта, причудливыми колечками. Как запаленная лошадь выпускает клубами пар из ноздрей, так и Санька пыхал из носа табачным дымом.
Искусству причудливо пускать табачный дымок, он научился давно. Прошлым летом, во время купания на озере, находясь по грудь в воде, он закурил. Набрав полон рот табачного дыма, он нырнул в воду. Дым, выбиваясь из воды, пунктирно обозначал направление движения Саньки под водой.
Вылезши из воды, уже в улице, Санька с разрешения хозяина лошади, для забавы людей, смехотворно стал управляться в умении запрягать лошадь в телегу.
– Эт и я сумею! – заявил он, увидя, как Костя Хорьев, стал запрягать свою лошадь в телегу.
Санька стал комедийно упражняться в приёмах запряжки. В начале своего представления, он ввел лошадь в оглобли головой к телеге и стал запрягать её, надев хомут клещами к плечами её, дугу стал накидывать не слева направо, а наоборот. Вообще, он всю запряжку старался произвести шиворот-навыворот. Смотря на эти проказистые приёмы, присутствующая тут публика задорно смеялась. Парни, поджимая животы, катались по земле хохотали. Мужики сдержанно улыбаясь гоготали.
А лошадь, как-бы дивясь и косясь бельмами глаз на незадачливого запрягальщика, растерянно жевала пустоту и укоризненно всхрапывала. Это происходило летом…
А сейчас в токарне, в темноте, парни занимались только сказками, анекдотами и куревом.
– Федьк! – дай закурить! – спросил Панька.
– Ты вечно на чужбину, надо поменьше петь, да свой иметь, – отчитал его Федька.
– Кольк, дай хоть разок курну!
– Один курнул, да в прорубь мырнул! – под рифму огорошил его Колька.
– Какой ты речистый, столкнул бы тебя с песи нечистый, – отпарировал Санька.
– Какой ты говорок – слизал у матери творог, – вступил в состязание в скороговорках Гришка.
– Хрен тебе в правый глаз, чтобы левый не глядел в Арзамас, – зарифмовано отговорился от него Панька.
– За эти бы речи, целовал бы тебя домовой с печи! – ввернул свое и Степка.
– А за эти словеса измазать бы тебя дегтем из колеса! – не отставая ото всех, проговорил и Панька.
И пошло-поехало, состязание в подковыристых и зарифмованных скороговорках приняли кроме Ваньки Терёхина, все. Выдумкам и словоречениям не было конца, здесь изрекали все, кто чего знал. Говорили наперебой, кто во что горазд. Тут полный разгул фольклора, споров и зубоскальства. Причём, здесь каждый выражался по-своему…
Какое, все-таки, удивительное и неотъемлемое право каждого человека, применять в разговоре, пользоваться в выражениях своим языком. Запрещать и контролировать, между чужого изречения, никто не имеет права (кроме вульгарных слов). И все же, из-за остроты речи и не в меру вольных действий Панька, оборонительно окрысился на Саньку.
– Ты что, шуток не понимаешь? – обратился он к Паньке.
– Смотря, какие шутки? – стараясь урезонить Саньку, проговорил Панька, – Вот у нас, в детстве к примеру, было принято заниматься такими шутками: мы с Ванькой Савельевым, имели удовольствие брызгаться жидким коровьим помётом, причём у нас было в этом занятии больше наслаждения, когда помет еще тёпленький. Так вот, кто сильнее и обильнее обрызгает противника, тот считался чуть-ли не царем! Летним утром, когда только-что прогонят по улице коров в стадо, мы с Ванькой ужё на ногах и отыскивая на лужайке жидкие коровьи «лепешки», мы тут же принимаемся «за дело». Вооружившись увесистыми палками открываем между собой бой, и пойдёт потеха и пойдет лафа! С силой и искусством ударяя палками о кучи, мы старались как можно изряднее разукрасить друг друга этой вонючей жидкостью. Стоило чуть зазеваться, как ты становишься обильно разукрашенным с головы до ног, и лицо и рубаха. Израсходовав весь запас «лепёшек» и «шрапнелей», мы довольные, со смехом, вприпрыжку убегали на озеро отмываться, задорно хохоча от удовольствия. Вот это были, я считаю, шутки, а теперь мы из этого детского возраста выросли и шутки у нас должны быть другого вида.
Но Санька, не внял Панькино изречение, он нахально стал придираться к нему, явно вызывая его на драку. Они взаимно вцепились, по-петушиному ощетинились, яростно расхорохорились. Драться не дерутся, а только сцепившись волтузятся, ломаются, дурачатся, силы пробуют! Тут драка, не драка и игра не игра!
– А вы лучше подеритесь, чем шерахорится-то, – предложил им Колька, явно стараясь их стравить.
Федька Лабин был занят своим делом, он горящую, толстую папиросу марки «Сафо», засунув огнем в рот, напыжив щеки дул. Дым из отверстия папиросы тонкой струёй выходит, как из заводской трубы, еще плотнее наполняя токарню табачным дымом, от которого и так дышать нечем – дым в токарне и так стоит коромыслом.
Маскируясь темнотой, Степка украдкой в сторонке от ребят на ламповый крючок, в шутку, подвесил топор и сказал Ваньке, брату своему
– Ваньк! Пора лампу зажигать, вздуй огонь!
Ванька зажёг лампу, и все увидели подвешенный топор. Взрыв смеха потряс стекла в окнах токарни
– Эх, вот так, кто-то подвёз! Редькой или капустой, не поймёшь, – кисло морщась проговорил Федька, – Ты что-ли, Ваньк! – обрушился на Ваньку Федька.
– Нет, не я, а Стёпка! – с наивностью ответил Ванька. Новый взрыв смеха сорвал осевшую пыль со стёкол токарни.
– Нет, это Ванька, он вчера полредьки съел, из него и прет, словно в брюхе-то пса сгноил, это его вонь-то, – усмехаясь изобличал Стёпка брата Ваньку.
– А ты, пожалуй, со своим носом, везде-то не суйся и не принюхивайся! – отговорился Ванька.
Раз дело дошло до идиотского невежества, то в этом скотском поведении изощрённее, оказался опять-таки Санька Шевирушка. Он, с каким-то дьявольским наслаждением, по-собачьи приподнимая ногу, и отпялив зад, тужась, жилился, с силой выдавливал из себя газы со звуком, распространяя около себя зловоние. Зажжённую спичку он подставлял себе к низу: сероводородные газы вспыхивали, обнимая его штаны синеньким огоньком. Дикого, с захлёбыванием, рыкающего от удовольствия смеху, казалось, не будет конца. Над искусством Саньки производить этот пиротехнический эффект, основанный на невежестве смеялись все. Смеялся сам «фокусник» с поганеньким оскалом зубов, смеялись и остальные парни…
Тот же Санька Шевирушка, способен на невежественные гадости и на улице. Он не постесняясь никого, даже девок, демонстративно может при всех снять штаны и по-свински напакостить. Он даже, считает за высшую степень удовольствия, между мазанок, или просто у забора, наставить ряд «мин» невежества, при неосторожности, на которые могут наткнуться непредусмотрительные люди. Если же, сам минёр увидит, что кто-то нечаянно напоролся на его мины, удовольствия от этого у Саньки появляется, хоть отбавляй, он начинает заливаться смехом наслаждаясь своими невежественно-пакостными проделками. Но вот что удивительно, никто за это свинство Саньку не уймет, никто не укротит его в этих идиотских, диких проказах. Даже наоборот, все стараются, потворствуя, смиряться с этим свинством, поощряя его, покровительственно смеются. И получается, вместо преследования и порицания за невежество – дешёвенькое поощрение!







